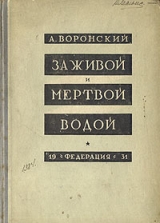
Текст книги "За живой и мертвой водой"
Автор книги: Александр Воронский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 31 страниц)
– Пристав уехал, – зашептала она, – да оставил легавых у ворот. Как же мы тебя теперь выведем, горемычный? Постой – я сбегаю за товарками.
Собралась группа работниц. Предлагали отсидеться на фабрике до следующего дня, но ждать пришлось бы слишком долго. Обследовали двор, он был закрыт зданиями. Порешили действовать напролом. Так и сделали. Группа работниц сбилась у ворот. Я снял шляпу, пригнулся, стал продвигаться в толпе, согнув колени. Сторож открыл ворота.
– Эй, стой, стой, говорят! Выходи по очереди! – кричали городовые, пытаясь оттеснить и разбить толпу, но напор оказался столь дружным и, очевидно, неожиданным, что городовые оказались бессильными. Они хватали и оттаскивали в разные стороны работниц, грозили, ругались, но до ядра толпы не добрались. Путаясь меж юбками в ногах, стиснутый так, что я уже не шёл, а волочился, несомый всей грудой женских тел, я скоро очутился далеко за воротами.
– Беги теперь по проулку, беги, да не попадайся, – весело сказала молодуха, скаля зубы и оплёскивая меня взглядом. – До свиданьица!
Я юркнул в переулок.
Валентин чуть не задохся однажды в мастерских. Он удачно провёл митинг и ждал обеденного перерыва, чтобы выйти. Кто-то донёс, что в мастерских находится оратор «из посторонних». Валентина начали искать. Рабочие спрятали его в месте, похожем на лежанку, забросали ветошью, пиджаками, пальто. Лежанка была горячая. Рядом жарко дышала печь, ухая, ходил поршень. Валентина извлекли к обеду в полуобморочном состоянии, в тяжком поту.
На рояльной фабрике Беккера на Валентина после митинга напала группа чёрной сотни, отбили рабочие.
Большинство митингов, массовок, собраний проходило всё же удачно. Мало-помалу мы приобретали опыт. Сначала я часто сбивался, путался, переживал мучительные моменты, забывал о чём я говорил, не знал, что говорить дальше. Эти провалы были неожиданны, не помогали заранее составленные планы и конспекты речей, но потом я привык к трибуне, стал себя чувствовать свободнее. Я научился следить за слушателями и проверять себя во время речи. Я выбирал двух-трёх человек из сотен, следил за их лицами, за тем, как они слушают и что делают во время речи, я старался держать их в напряжении и напрягался сам. После выступления, когда проходило несколько минут и спадало возбуждение, я почти всегда чувствовал себя вялым и опустошённым и нередко испытывал неловкость. Это случалось обычно, если я впадал в вольные и невольные преувеличения или заражался крикливым и неестественным пафосом.
Однажды я повстречался со стариком рабочим, семидесятником. Он подошёл ко мне после митинга и настойчиво упрашивал зайти к нему «попить чайку». Он жил одиноко в полутёмной каморке. Стоял тут стол, стул, погнутая железная койка с тощим тюфяком, в углу – крашеный солдатский сундук.
– А зовут меня Платоныч, – сказал старик, вводя меня в своё убогое убежище. Он принёс кипятку, засыпал щепотку чаю, придвинул калач, колбасу. Всё это он делал проворно, то и дело подтягивая рукой брюки и шмыгая носом.
Ввёртываясь в меня одним глазом – на другом у него было бельмо, – он говорил хриплым, словно простуженным голосом:
– Хожу, хожу я на собрания и на кружках бываю. Приходит к нам каждую неделю молоденький такой, ну, вроде тебя. Давно я всё это слышу про пауков и про мух, про богачей и народ, лет тридцать, привык.
Седая борода у него щетинилась, заползала под глаза, а нос острым крючком нависал над прокуренными, вниз растущими усами.
– Осмелел теперь народ, осмелел. Э, да и времена не те, не те времена. – Он глубоко вздохнул, налил чаю. – В те поры, а было это давно, разве так мы жили? Ходил к нам тогда такой черноусенький смелец, читал нам, говорил. Спустя время канул, словно в воду, должно, в тюрьму попал. Осталось нас на заводе четверо. Один отстал. Вот мы втроём и держались друг за дружку. Собирались. Придём, бывало, совместно посидим, потолкуем, в книжку заглянем, в газету. В газете всё наоборот читали. А главное – искали, скоро ли это всё кончится. Так лет десять, а может, и больше жили. Одни. Ни чёрненьких, ни беленьких не видали. На заводе – работа, штрафы, пьянство, баб бьют, хулиганят, живут за забором, – никакой совместности. Ждали, и как терпения хватало! А теперь что, теперь легко, большая совместность обнаружилась.
– Неужели, – спросил я, – за десять лет никто не заглядывал к вам из революционных организаций?
– Никого не видали, парень. Стороной доходили слухи, что есть книжки, листки попадались, а настоящего не было. Пошли потом социал-демократы эти. Тогда и мы пристали.
Я спросил, есть ли у него семья.
– Семья у меня была. Жена померла, и сынок помер, лет пятнадцати, живу бобылем, тоже издавна… Про обыски… Случалось, только ничего у меня не находили. Два раза сажали, ну, без последствий. Месяца два подержут – отпустят.
Я собрался уходить. Платоныч усиленно просил заходить к нему. Я записал адрес, но в сутолоке тех дней больше нам не удалось встретиться. Перед тем как расстаться, он хлопнул меня по плечу, посмотрел весело и хитро в упор единственным своим глазом, спросил:
– А что, товарищ, конец, что ли, нашим ожиданкам или как?
– Теперь конец, – ответил я уверенно.
Платоныч с сомнением покачал головой.
– Подождём, товарищ, ох, подождём ещё. Чует моё сердце. Не раскачаешь сразу. Ба-альшая раскачка нужна… А ничего… Теперь совместные стали… Покажем…
Он сочувственно подмигнул мне.
…Нам приходилось редко бывать в центре. Работа на окраинах отнимала у нас всё время. Но всё же иногда нам выдавали пропуска и билеты на заседания Петербургского совета рабочих депутатов и на другие собрания.
Из заседаний Совета в памяти сохранилось торжественное чествование В. И. Засулич и Л. Г. Дейча.
Опрятная, сухая старушка с выдвинувшимся вперёд подбородком, с мягкими и добрыми глазами, держала за руку бодрого, подвижного и неугомонного старика с библейской бородой. Кругом неистовствовали, хлопали, кричали, поднявшись с места и вытягивая к эстраде головы, депутаты с заводов и фабрик. Засулич и Дейч вернулись из долгого заграничного изгнания. Они впервые видели открытое заседание Совета. Я думал: говорят, что мечтания никогда не воплощаются в жизнь. Какая ограниченность, какое жалкое заблуждение! Нет, подобно весенним цветам, расцветают надежды в человеке, цветы завязываются, зреет плод и падает в осеннюю пору. Пусть это бывает поздно, в дни увядания, в багряную осень, но бывает же, бывает.
В один из свободных вечеров мы с Валентином пробрались на многолюдное собрание, кажется, в зале Вольно-экономического общества. По-обычному выступали ораторы. После одной речи в зале произошла суматоха, на кафедру уверенно и быстро взошел плотный человек среднего роста в коротком пиджаке. Он пригладил обеими руками лысеющую куполообразную голову, провёл повелительно по усам, окинул собрание маленькими, необычайно острыми и живыми глазами с весёлой смешинкой. Это был Ленин. Он говорил о земельном вопросе. Ничего неожиданного, нового, поражающего в его речи не было. Он, видимо, старался популярно изложить аграрную программу социал-демократов, но в его словах, в манере говорить заключалась стремительная уверенность, властный напор на слушателей и сосредоточенная деловитость.
Он почти не стоял на месте. Он подходил к барьеру, наклонялся вперёд, засовывал пальцы за жилет, быстрым движением откидывался назад, отступал, вновь приближался, он почти бегал на пространстве двух-трёх шагов. Он картавил, его голос шёл из нутра, исподу, верней – он говорил всем своим существом, каждым поворотом головы, каждым взглядом. Тогда-то впервые и на всю жизнь я почувствовал, что пред нами главный вожак революции, её ум, сердце и воля. В тяжёлые годы упадка, скитаний, предательств и измен, горьких сомнений и одиночества, усталости и затравленности он всегда был со мной, предо мной. Да, плохо, нехорошо, не под силу, но есть Ленин. А что сказал бы на это Ленин? Нет, Ленину это не пришлось бы по вкусу, он осудил бы. Неудача, но с нами Ленин. Я проверял им свои мысли, чувства, свои недоумения. Никто из людей в моей жизни так много не значил, ни о ком я так часто не вспоминал, как о нём, об этом человеке с песочным лицом, с татарским разрезом глаз – один из них он хитро и насмешливо щурил.
В зале было тихо. Ленин убеждал и приказывал. Он защищался и нападал. Казалось, он бросал в толпу горячие, круглые камни. Почему-то слова его окрашивались жарким красным цветом. Он умел убеждать, как адвокат, но ещё больше он убеждал, подчиняя слушателей своему хотению и тем, что он не сомневался.
Ленину не удалось кончить речи. Присутствовавший на собрании пристав заявил, что он лишает слова оратора и закрывает собрание. Ленин шутливо заметил: «По случаю свободы собраний собрание закрывается». Пристав с городовым стал пробираться к трибуне. Его оттирали. Ленин поспешно покинул трибуну, скрылся, сопровождаемый и охраняемый группой доверенных товарищей. Зал гремел в овациях.
– Ленин, – глубоко вздыхая всей грудью, произнёс Валентин, теснясь к выходу.
– Он нисколько не подлаживается к аудитории, – сказал я.
– Хороший парень, – баском покровительственно прибавил Валентин.
В дни декабрьской забастовки и восстания в Москве нас назначили в группу летучих агитаторов. С утра мы выходили на улицы рабочих предместий, следили, где собирался народ, вмешивались в споры, убеждали «держаться до конца», осведомляли о том, что делается на других заводах, в районах, в Москве. Такие летучки обычно были непродолжительны и опасны: по улицам разъезжали конные полицейские, казаки, драгуны, шныряли вольные и наёмные сыщики, бродили и вынюхивали громилы. Не раз за нами гонялись охранители, и мы убегали от них во дворы домов, в переулки, смешивались с толпой.
Однажды, спасаясь от преследования казаков, мы, не зная, куда деться, завернули за угол и забежали в первую попавшуюся открытую лавку, заваленную железным хламом. Нас встретил сумрачный и неприветливый старик в длиннополой поддёвке.
– Вам чего? – спросил он нас враждебно.
– За нами гонится полиция, – оторопело и откровенно сознались мы.
Старик дернул ухо, густо заросшее волосами, оглядел нас из-под колких бровей, бросил с ненавистью:
– Проходите сюда!
Он прикрыл дверь лавки, провёл нас в полутёмную заднюю комнату.
В это время конный наряд проскакал мимо лавки. Старик постоял, прислушиваясь к замирающему стуку копыт.
– Ну, – сказал он жёстко, – идите вот сюда чёрным ходом. Тоже – забастовщики. Материнское молоко на губах ещё не обсохло, а туда же лезут. Всыпать бы вам по полсотне горячих, да за вихры отодрать.
Мы поблагодарили его.
– Идите, идите, нужно мне ваше спасибо, – непримиримо ответил он, захлопывая за нами дверь.
Военная организация
Московское восстание было подавлено, первый Совет сидел в тюрьме. Валентину предложили поехать в Гельсингфорс работать в нашей военной организации. Он согласился. Я провожал его. На вокзале мы чуть не попались. В чемодане Валентина лежали вместе с бельём протоколы съезда, номера нашей газеты, листки, прокламации, браунинг, кинжал. Чемодан пришлось сдавать в багаж. В багажном отделении к нам подошёл чиновник, предложил раскрыть чемодан. Мы спросили, на каком основании он требует осмотра.
– Обычные таможенные порядки, – кратко ответил чиновник, ожидая у чемодана вместе с весовщиком.
Мы тревожно переглянулись. Нас не предупредили, что багаж на Финляндском вокзале осматривают. Открыть чемодан – значит подвергнуться аресту.
Валентин, покрывшись мгновенно яркими пятнами, спросил:
– А сколько стоит отправить чемодан багажом? Я рассчитывал взять чемодан с собой.
Весовщик-финн приподнял чемодан, ответил на ломаном русском языке.
– Кажется, у меня не хватит денег уплатить за багаж. – Валентин отвернулся в сторону, вынул кошелек, порылся в нём. – Какая досада, не хватает. Может быть, у тебя найдётся? – Он толкнул меня ногой и пристально на меня посмотрел.
– Нет, я при себе имею деньги только на извозчика.
– Тогда, – сказал Валентин, – придётся оставить пока чемодан у тебя. Извиняюсь за беспокойство, – обратился он к чиновнику.
Тот отошёл от нас. Я поспешил попрощаться с Валентином и уехать с чемоданом. Я послал его на следующий день без браунинга, кинжала и нелегальной литературы.
В конце января получил от Валентина письмо, он предлагал мне приехать к нему. Я достал свидетельство от врача, взял десятидневный отпуск по службе.
Гельсингфорс показался мне очень уютным и непохожим на наши российские города. Скалы, дома в стиле модерн, словно высеченные из камня широкие эспланады, катанье с гор на лыжах и санках, опрятные, чистые кафе – ото всего веяло домашним, прочно установившимся культурным северным бытом. После сырого, сумрачного, холодного Петербурга Гельсингфорс казался загородной тихой, радушной виллой.
Я нашёл Валентина на Union Katu.
– Здесь живёт Бернгард фон Герлях? – спросил я мешковатого финна, открывшего мне дверь.
Финн дружелюбно кивнул головой. К моему несказанному удивлению, Валентин и оказался фон Герляхом. «Фон Герлях» был одет в новую чёрную пару, носил тонкую вязаную финку, воротничок, манжеты, шёлковый серый галстук.
Фон Герлях осмотрел меня критически, с сомнением покачал головой:
– Ты компрометируешь меня. Варежки, драное пальто, шапчонка. Имей в виду, здесь я – знатный студент. Придётся сказать, что ты – мой друг, прославленный русский писатель и поэт.
Мы поделились новостями, мыслями, легли в кровати с отличным бельём. Одеяла были приготовлены конвертами.
В восемь часов утра вошла горничная-финка в белом переднике: она слегка тронула нас за плечи, поставила на низенький столик поднос с кофейным прибором, со сливками и с сухарями. Фон Герлях лениво потянулся к маленьким чашечкам.
– Превосходный обычай – пить кофе со сливками в постели. Сразу становишься бодрым, не правда ли?
Я согласился со своим изысканным и высоким другом. Мы выпростали руки из-под одеял, приподнялись и изнеженно тянули душистый кофе.
– Кто мог бы подумать, – заметил кровный, старинной немецкой фамилии молодой юнкер, – кто бы мог подумать, что возможны подобные волшебные превращения?
– Да, – ответил я, – ещё в прошлом году в это время мы валялись, помнишь, в угловой семинарской спальне: рядом с нами спал Дроздов, от его портянок несло за семь вёрст, и мы задыхались в липком и густом поту. Интересно, что сказал бы наш инспектор-«косопузый», если бы увидел нас в этой роскошной обстановке.
– Очень нужно вспоминать об этой гадине, – опорожняя вторую чашку, пренебрежительно ответил юнкер, по-видимому, без особого удовольствия вспоминая о своём тёмном прошлом. Он закурил папиросу, высунул ногу из-под одеяла и стал рассеянно водить жёлтой пяткой по голубым обоям на стене.
Вошла горничная. Валентин продолжал вычерчивать на стене замысловатые фигуры. Когда горничная унесла поднос, я не без ехидства промолвил:
– Словно бы «фону» не пристало в присутствии молодой женщины пятнать обои голой пяткой.
Фон Герлях поспешно убрал ногу под одеяло.
– Ты прав, мой друг. Пора, однако, вставать. Может быть, тебе нужен одеколон?
Я вытаращил глаза.
– Освежает и гигиенично, – поучительно разъяснил «фон». – Я мешаю наполовину с водой. Три раза в неделю.
– Ты так совсем обуржуазишься, – предостерёг я Валентина.
– Могу, – ответил он, рассмеявшись.
Днём мы обедали в столовой, где не было порций, стояли графин с водкой, холодные закуски. Горячее, жаркое подавали в огромных мисках и блюдах. Каждый брал, сколько ему хотелось. Это тоже удивило меня.
После обеда гуляли и натолкнулись на необычайное шествие. Навстречу нам с вокзальной стороны, запружая улицу, валила густая толпа, по бокам охраняемая живой цепью. Впереди со смехом и криками, вцепившись в оглобли, тащили сани человек двадцать, лошадей не было. На санях восседали два человека, на коленях они держали женщину. Они снимали шапки, кланялись, что-то выкрикивали.
– Горький! Горький! – разобрали мы в толпе.
В санках сидели Горький, его жена Андреева, Скиталец. Именитого писателя встречали на вокзале финские рабочие. Они впряглись в сани, везли гостя в дом пожарного общества, где помещался рабочий клуб. Валентин узнал, что вечером будет чествование Горького в клубе, поспешил в редакцию газеты «Тиомиес» запастись билетами.
Вечером мы надрывались от криков и аплодисментов. Горький читал свой новый рассказ «Товарищ», Скиталец в стихах грозился расправиться с «гадом», вновь оживающим, Андреева бросала непримиримо слова из стихотворения Рукавишникова: «Кто за нас, иди за нами». Произносились приветственные и ответные речи. Позже, часов в десять, был ужин. Я не спускал глаз с Горького. Скуластое, квадратное, некрасивое лицо, широкий, приплюснутый, утиный нос, водянистые, невыразительные глаза, гладко зачесанные «мочалкой» волосы, однобортная, глухая, чёрная суконная куртка, брюки, вправленные в высокие сапоги, – сутулится, высок, руки длинные, как будто он не знает, что с ними делать, – всё в нём обычно, обыденно. Откуда же яркость, сочность и свежесть рассказов? Откуда Коновалов, Буревестник, песня о Соколе, откуда хитрый и чудесный Лука, Сатин, Барон?
Преобладали финны, но было много и русских. Начальник Красной гвардии Кук, сорокалетний кряжистый человек с красной лентой через плечо, произнёс прочувствованную речь по-русски:
– Мы знаем, ценим и любим русский народ, – говорил он. – У Достоевского в «Преступлении и наказании» Раскольников приходит к Соне Мармеладовой, кланяется ей в ноги и сознаётся, что не ей, а её страданиям он поклоняется. Мы, финны, тоже готовы, подобно Раскольникову, поклониться невыносимым страданиям, которые терпит русский народ.
Отвечал Куку Горький. Он отвечал односложно, заявил, что не умеет говорить и что речь Кука потрясла его. Тут он вынул платок, прослезился, стал обходить стол, жать по очереди руки присутствующих.
– Алексей, – сказал ему вполголоса Скиталец, – ещё немного, и мы станем с тобой знаменитыми ораторами. Ты подаешь надежды.
Скиталец, Валентин и я затеяли спор о русской литературе. Скиталец доказывал, что русский народ, вопреки ходячему мнению, мало одарён художественными талантами.
– Настоящий коренной русак, – басил он, – это костромичи и ярославцы. Они хитры, деловиты, практичны. Они – люд торговый, оборотистый, но лишённый художественных чувств. В литературу, заметьте, они ничего не внесли, они не дали ни одного крупного художника. Всё, что у нас есть великого, прекрасного в искусстве, – от Востока, от Азии, от татар, от евреев, словом, от инородцев. Посмотрите на Толстого – лицо татарское, Плеханов – татарский отпрыск.
Горький соглашался со Скитальцем, говорил о западном влиянии и издевался над русским лаптем.
– Определённый западник, – сказал Валентин, когда спор окончился.
Скитальца попросили провозгласить анафему русскому самодержавию. Было уже опорожнено множество бутылок, в зале стоял оживлённый, нестройный гул. Огромный, неуклюжий, похожий на протодьякона Скиталец оглушительно проанафемствовал. Его посадили в кресло, носили вокруг стола. Он рычал, осенял гостей крестным знамением, благословлял и пил из горлышка пиво.
Пели поволжские песни. Мария Фёдоровна Андреева аккомпанировала на рояле. Она выглядела среди нас прирождённой королевой. Затянули «Дубинушку». Запевал октавой Скиталец, Горький дирижировал. Высоко подняв над нами руки, откидывая назад с потного лба пряди волос, поднимаясь на цыпочки, он вдохновенно управлял хором. Я увидел загоревшиеся, заблестевшие глаза, отвердевший подбородок, лицо, словно зажжённое внутренним огнём. Он забыл прибегать к платку и, очевидно, вспомнил свою стародавнюю привычку: шмыгал в себя носом и поводил указательным пальцем правой руки по верхней губе, у ноздрей. Этот жест у него отличался молниеносностью.
Затем мы затеяли чехарду. Мы скакали друг через друга по большой зале, сшибая стулья, кресла и столы. Финны были крайне удивлены нашей игрой, но из вежливости одобрительно хлопали. Мы разошлись в восьмом часу утра.
Спустя несколько дней Горький уехал в Америку.
Валентин пригласил меня на собрание военной организации. Мы вышли из нашей квартиры тёмным вечером. Мохнатыми, большими хлопьями падал снег, щекотал лицо, повисал и таял на ресницах, оседал на плечах. Небо казалось спустившимся на землю. Мы миновали центральную часть города, свернули в одинокую, пустынную улицу, слабо освещённую фонарями. На углу неподвижно стояла женщина. Валентин подошёл к ней, спросил по-фински, она ответила. Мы прошли шагов двадцать, снова встретили женщину, она проводила нас внимательным взглядом. По дороге я заметил ещё несколько женщин.
– Сегодня нас охраняет женский отряд Красной гвардии. Отряд состоит главным образом из молодых работниц, но есть и интеллигентки. Они вооружены. Если бы нас попытались арестовать, им отдан приказ защищать нас, то есть стрелять.
У парадного входа серого трёхэтажного дома мы опять встретились с группой женщин. К одной из них – у неё было холодное, бледное, очень красивое лицо – Валентин подошёл, сказал пароль, нас пропустили.
– Это – начальник женского отряда, – шепнул Валентин на лестнице. – Берёт призы по стрельбе.
На звонок вышел крупный человек лет пятидесяти, похожий на русских помещиков средней полосы, провёл нас в гостиную. На диване сидел военный, лысый, с рыжими усами и маленькими глазками, беседовал с двумя молодыми офицерами. Лысый оказался штабс-капитаном Ционом, офицеры – артиллерийскими поручиками Емельяновым и Коханским. Поодаль в углу стеснённо молчали два солдата, один черноволосый, худой и длинноносый, другой с открытым, добродушным лицом, белобрысый увалень. Приземистый, с короткой шеей человек, взяв под руку молодого паренька, прохаживался по гостиной. Он по-волчьи наклонял голову, совершенно седую, хотя ему было не больше двадцати шести – двадцати восьми лет. У стола рассеянно перелистывала книгу курсистка Вера, она показалась мне как бы освещённой вечерними лучами солнца. Я встречался с ней раньше у Валентина.
Вошёл начальник Красной гвардии Кук. Заседание открылось сообщением длинноносого солдатика о провале «товарища Семёна», артиллериста: у него в вещах произвели обыск, нашли прокламации. Он успел скрыться из казармы. Необходимо его куда-нибудь отправить. Валентину поручили сговориться с Семёном.
Емельянов кратко доложил о состоянии свеаборгского гарнизона. Подпольные кружки имеются почти в каждой роте на всех островах. Солдаты охотно посещают массовки. Подпольной литературы недостаёт, к тому же она плохо приспособлена к солдатским нуждам. Необходима своя газета, свои листки.
– Так точно, ваше благородие, – подтвердил из-за угла белобрысый солдат, поднимаясь и держа руки по швам. – Своя газета нужна.
Председатель, седой, вскинул на солдата глаза, отчеканил:
– Категорически заявляю, товарищ Николай, никаких благородий тут нет.
Солдат сконфузился, рук не убрал.
– По привычке. Видимся больше в казарме, а там, известно, по уставу.
Емельянов усмехнулся, поймал ус в рот, стал его жевать.
– А как обстоит дело с командным составом? – спросил юноша.
Емельянов и Коханский невесело переглянулись.
– Неважно, – ответил Емельянов. – Есть кое-какие связи, но они ненадёжны. Командный состав против революции.
Слово взял штабс-капитан Цион:
– Пора переходить, товарищи, к более активным действиям. Одной агитации и пропаганды мало. Нужно поднимать и воспитывать боевой революционный дух среди солдатской массы. – Говоря, он потирал лысину, обводил собравшихся зелёным взглядом.
– Категорически протестую, – перебил его седой председатель и стукнул кулаком по столу. – Я знаю, откуда ветер дует. От активистов и от эсеров. Товарищ Цион, перестаньте с ними путаться. На авантюры мы не пойдём.
Цион защищался:
– Эсеры и активисты тут ни при чём. Солдаты сами переходят к действию. Недавно офицерское собрание солдаты атаковали булыжниками.
– Пустяки, – отрезал седой.
Цион пожал плечами.
Постановили: приступить к организации своей солдатской газеты «Вестник казармы», усилить работу среди пехотинцев-солдат, удерживать матросов и артиллеристов от преждевременных выступлений. Седой объявил собрание закрытым, ушёл вместе с солдатами.
Хозяин предложил кофе. Курсистка Вера подошла к пианино, открыла крышку, взяла несколько аккордов. Её попросили сыграть. Она уверенно заиграла увертюру из «Пиковой дамы». Емельянов и Коханский подошли к пианино, облокотились, стояли в одинаковых позах, странно похожие друг на друга. У них были хорошо очерченные талии и чувствовались крепкие молодые мускулы. Они стояли неподвижно.
Вера, окончив увертюру, сказала:
– В музыке есть что-то расслабляющее, не правда ли? Мне почему-то всегда вспоминается детство. Лежишь в кровати. У тебя небольшой жар, он приятной истомой разлит по телу. Не хочется двигаться. Подходит мама, осторожно и тревожно касается лба, и от этого родного и ласкового прикосновения и от этой усталости делается уютно и печально немного почему-то.
Емельянов отошёл от пианино, прошёлся по комнате.
– Я сейчас думал о другом, товарищ Вера… А верно… Погибнем мы скоро… – Он подошёл к Коханскому, положил ему руку на плечо. – Недолго мы с тобой протянем.
– Недолго, – согласился Коханский, приподняв плечи, словно принимая на них тяжесть.
Вера поднялась, провела по бедрам руками.
– С чего это вы так? Мне кажется, что мы накануне победы.
Коханский скрестил руки, уставился в окно, ответил:
– Я тоже так думаю, только мы в живых не останемся. Почему? – Он пожал плечами. – Поживите в нашей крепости – увидите. Мы окружены темнотой и врагами.
Выпили кофе, стали расходиться. Вера вышла со мной и с Валентином. Ночь была тиха и печальна. У дома и на улице уже никто не дежурил. Спустя несколько месяцев я писал статью, посвящённую памяти Емельянова и Коханского, расстрелянных в дни свеаборгского восстания. В ней говорилось о людях, обречённых революцией стоять на малых, почти незаметных постах, но всегда ведущих к гибели.
– Кто сегодня председательствовал на собрании? – спросил я Валентина.
– Седой, герой Пресни. Он недавно приехал в Гельсингфорс.
– А у кого мы собирались?
– У шведа, богатого торговца плетёной мебелью.
– Седой очень деспотически ведёт собрание, – сказала Вера. – И вообще наши заседания сухи и слишком практичны. У меня всегда такое ощущение, словно моё личное – одно, а то, что делается на наших собраниях, – другое.
– Вы, Вера, индивидуалистка, – заметил Валентин.
– Но я тоже всем сердцем люблю революцию и нашу партию, – возразила Вера, замедляя шаг. Она взяла Валентина под руку.
– Наши собрания, – ответил Валентин, – оформляют жизнь коллектива и отбрасывают всё узко личное. Коллектив должен подчинить себе личность, иначе не побеждают.
– Может быть, – задумчиво согласилась Вера, – но иногда одиноко всё-таки.
– Не до этого теперь.
Вера ничего не ответила.
На другой день мы отправились к Семёну. Мы долго плутали, наконец на одной из окраинных улиц постучались в парадную дверь небольшого домика. Нас встретила старушка. Мы назвали фамилию финского товарища, у него скрывался Семён. Старушка пригласила нас знаками пройти в квартиру. Мы последовали за ней. В прихожей стоял… финский полисмен.
– Попались, чёрт возьми! – прошептал Валентин, пятясь обратно к выходу. Я тоже растерялся.
Полисмен подошёл, дружелюбно подал нам руку. Ничего не понимая, мы поздоровались. В это время из другой комнаты вылез огромного роста солдат с круглым подбородком, губа у него была рассечена. Оправляя солдатскую блузу, он подошёл к Валентину.
– Здравствуй. Ну, проходи.
Мы вошли во вторую комнату. Валентин прикрыл дверь.
– Что это значит? Тебя арестовали? Откуда здесь полиция?
Семён ухмыльнулся.
– Бог грехам терпит. Да вить это и есть мой хозяин. У них я и ночую. Парень – ничего себе, из наших. Сейчас на дежурство собирается.
– Вот тебе и фунт, – только и сумел сказать Валентин, изнеможённо опускаясь на стул и обтирая со лба сразу выступившую испарину.
На столе лежало несколько книг на немецком и французском языках. Я успел разобрать фамилии Каутского, Плеханова, Лафарга. В дверь осторожно постучали. Вошёл полисмен. Он был уже в форменной шинели. Он спросил по-русски – не хотят ли гости кофе. Мы поблагодарили, от кофе отказались. Он приложил руку к козырьку, вышел.
– Три дня здесь сижу, – сказал Семён. – Дюже хорошо кормят. А скучно. Одно занятие – читаю. Есть тут у меня одна настоящая книга. Вот. – Он подал нам карманное Евангелие, смущённо и неуверенно глядя на нас, продолжал: – Ну, как просто и понятно тут всё прописано! Скажем, о богатом и бедном Лазаре или насчёт верблюда.
Валентин покачал головой.
– Ах, Семён, Семён, кто про что, а ты про своё. Старовата книга.
– Хорошая книга, – твёрдо ответил Семён и взял её снова в жилистые, красные руки. – Наша книга, бедняцкая.
Как я потом узнал от Валентина, Семён принадлежал к самоотверженным работникам военной организации. Он завербовал в казармах не один десяток артиллеристов. Он ревностно распространял наши листки, газеты, брошюры, готовил солдат к восстанию, но лучшей, любимой книгой он почитал Евангелие. Он полагал, что истинный смысл этой книги заключается во всеобщем равенстве и братстве людей, в проповеди общего имущества и в отречении от собственности. Смысл этот, по его мнению, тщательно скрывался от народа священниками, чиновниками, помещиками, и главная задача всякого прозревшего заключается в раскрытии сущности евангельского учения. Он не расставался с Евангелием. Пользуясь им, он проповедовал отнятие без выкупа земель и угодий у помещиков, насильственное свержение царского строя. Он упрямо подбирал оправдывающие эту тактику притчи и тексты.
Валентин, признавая, по-видимому, всю бесполезность бесед о «бедняцкой книге», перевёл разговор на положение Семёна. Оставаться Семёну в Гельсингфорсе нельзя. Нужно или уехать за границу, или перейти на нелегальное положение в России. За границей, например в Швеции, можно устроиться на фабрике.
Семён смотрел вниз, расставив в тяжёлых, неуклюжих сапогах ноги. Потом, вздохнув, сказал:
– В Россию поеду, к своим. Когда уходил в солдаты, правды не знал. Поеду, расскажу землякам, как нужно жить.
Валентин находил, что ехать к односельчанам Семёну не следует: его станут разыскивать, как дезертира, – в этих случаях власти всегда дают знать на родину.
Семён спокойно возразил:
– Знаю, а поехать надо. Во тьме живут, а есть настоящие люди. Правду узнают – в огонь за неё пойдут… Я на короткое время, поживу, попрячусь, а потом подамся в другие места. А за границей, на чужой земле, мне делать нечего, сами понимаете. Тоска заест.
Валентин пытался ещё раз убедить Семёна не показываться на родину, но Семён прочно стоял на своём. Условились о паспорте, о деньгах и об отъезде. Семён просил посидеть с ним, жалуясь на скуку, вновь заговорил о богатых и бедных по Евангелию. О помещиках, фабрикантах и чиновниках он отзывался без злобы, даже как бы с сожалением. Перед ним раскрылась новая жизнь «по божьему закону». Путь к этой жизни орошался кровью, он принимал это, но, принимая, старательно обходил неприятное, страшное, хотя и неизбежное, отвёртывался, осиянный великой истиной, обретённой им в древней книге. Он беседовал, горбатясь, потирая мясистые ладони меж колен, то и дело одёргивая гимнастёрку и поправляя пояс.








