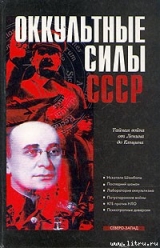
Текст книги "Оккультные силы СССР"
Автор книги: Александр Колпакиди
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 46 страниц)
АНДРЕЙ НИКИТИН. ТАМПЛИЕРОВ – НА ЛУБЯНКУ!
Многие слышали о средневековом католическом духовно-рыцарском ордене тамплиеров («храмовников», от франц. temple – храм). Орден был основан в начале XII века, вскоре после первого крестового похода. Первоначально резиденция ордена находилась в Иерусалиме, близ церкви, построенной на месте древнего Иерусалимского храма. С этим фактом связывают и название ордена, хотя не следует забывать распространенное устное предание о том, что храмовники стремились к превращению несовершенного земного мира в гармоничную и стройную систему, к созданию духовного храма. После падения христианского Иерусалимского королевства центр ордена переместился в Европу. В начале XIV века французский король Филипп IV, опасаясь роста могущества ордена, привлек его рыцарей к церковному суду, многих в 1310 году сожгли на костре. Орден был упразднен указом папы Климента V в 1312 году.
Действительно ли прекратил тогда свое существование орден Рыцарей Храма? Средневековые поэмы и романы называют тамплиеров хранителями Грааля – священной чаши с кровью Иисуса Христа. Грааль сокрыт в таинственном, почти никому не ведомом замке. Само существование рыцарей перемещается таким образом в «пространство мифа», а значит, выводится из-под власти земных законов, в том числе и закона неизбежной смерти. Достаточно устойчиво мнение, что тамплиеры были духовными предшественниками розенкрейцеров и более поздних мистических орденов и обществ. Тамплиеров иногда сближают с альбигойцами – представителями неортодоксального, гонимого направления в христианстве средневековой Франции и Прованса.
Как разобраться в этом сейчас? Обратиться к первоисточникам? Такой путь многим представляется наиболее надежным, наиболее научным. Однако легенды и обрывки старинных хроник малоубедительны для современного человека. Другое дело, если бы тамплиеры или альбигойцы дожили до XX столетия и смогли сами рассказать о себе…
И вот оказывается, что среди советских граждан, репрессированных в 30-е годы, были люди, обвиненные именно в принадлежности к ордену тамплиеров. Существует ли связь между ними и рыцарями минувшего? Что могло стать духовной основой возрождения (или активизации деятельности) ордена, причем в России, а не на Западе? Может быть, идеи преображения мира, соделания его Храмом Духа – идеи, созвучные устремлениям русской интеллигенции начала XX века?
Следственное дело № 103514
Если быть точным, дела за таким номером – 103514 – уже давно не существовало. Девять не слишком толстых канцелярских папок, которые назад положили передо мной на стол в одной из комнат приемной ФСБ СССР, содержали далеко не полный корпус документов прежнего следственного дела, получившего свое теперешнее оформление только в 1936 году – пять лет спустя после завершения. Впрочем, судя по некоторым пометкам, к ним обращались не раз: и в 1937 – 1938 годах, и в 1941-м, и позднее, – интересуясь людьми и именами. Видимо, тогда же поставленные на «тематический учет», они хранились в Центральном архиве ОГПУ – НКВД – МГБ – КГБ сначала за номером 499556, а затем, по-видимому, после реабилитации всех поименованных в нем лиц, – за номером Р-33312, под каким я и получил его для ознакомления и работы.
Майор госбезопасности, на чью долю выпало меня «опекать» и который сам тщательно изучил перед встречей эти материалы, в заключение нашей беседы, как бы извиняясь за своих предшественников, произнес: «…Ну а на то, что там понаписано, особого внимания не обращайте. Ничего этого, конечно же, на самом деле не было. Сами знаете, что тогда делалось!..»
Мне оставалось только понимающе кивнуть головой. В самом деле, в этих папках я не ожидал найти ничего из ряда вон выходящего. Они интересовали меня лишь потому, что в числе прочих включали и дела моих родителей, арестованных осенью 1930 года, а затем отправленных на Беломорканал. По рассказам мрей матери, Веры Робертовны Никитиной (1897 – 1976), и по оставленным ею воспоминаниям я знал, как это происходило и что им пришлось перенести. Вместе с тем она всегда подчеркивала, что, по счастью, они прошли через Лубянку и лагеря в то время, когда еще не начались ужасы беспредела. Так что за все время следствия, а потом и за годы, проведенные на Беломорканале и Свирьстрое, ей ни разу не пришлось столкнуться с издевательствами или откровенным садизмом, в отличие от тогдашней ситуации на Соловках.
Обратиться к следственным материалам меня подвигнуло отнюдь не праздное любопытство. Собирая в последние годы материалы о жизни и творчестве моего отца, театрального художника Леонида Александровича Никитина (1896 – 1942), погибшего в результате второй волны репрессий в лагерном лазарете города Канска (Красноярский край), очень скоро я обнаружил, что вместе с ними извлекаю из забвения обширный, большинству моих современников совершенно не известный пласт истории нашей культуры. Я открывал имена давно забытых людей, пропавших без вести в лагерях, обнаруживал словно бы вычеркнутые из памяти истории театральные постановки, рукописи, так и не ставшие книгами, прослеживал никому уже не ведомые ниточки, связывавшие людей и создававшие ткань нашей национальной культуры.
Кое-что удавалось найти в государственных архивах – письма, рукописи, фотографии. Однако самые необходимые сведения о человеке, даты его рождения и смерти, скупой перечень его занятий между этими крайними вехами приходилось искать за воротами «дома на Лубянке», которые однажды – и навсегда! – сомкнулись за его спиной. В известной мере это касалось и жизни моих родителей. Я не знал предъявленного им обвинения уже потому, что его не знала и моя мать, поскольку никакого суда и разбирательства в то время не было, приговор выносили в отсутствие обвиняемых, а им объявляли только срок и пункты традиционной 58-й статьи, согласно которым театральный художник и его неработающая жена обвинялись на пятнадцатом году строительства социализма в «контрреволюционной деятельности».
Вероятно, не только теперь, но и тогда это выглядело абсурдом. По-видимому, так же расценивали это и сотрудники КГБ – и те, кто в 1962 году давал заключение о реабилитации моих родителей, и те, кто проверял дело в 1975 году, реабилитируя остальных участников, и тот майор госбезопасности, который деликатно посоветовал мне «не брать в голову» следственное обвинение. Не случайно в реабилитационных материалах, подшитых к делу, особо отмечалось, что: из обвиняемых никто виновным в какой-либо контрреволюционной или антисоветской деятельности себя не признал, категорически отвергая самую ее возможность, материалы следствия доказательств вины не содержат, а кроме того, из протоколов допросов не видно, чтобы следователи стремились к убедительной аргументации обвинения.
Между тем формулы обвинения были не только жесткими, но поначалу и ошеломляющими.
В составленном 9 января 1931 года обвинительном заключении помощник начальника 1-го Отделения Секретного отдела ОГПУ Э. Р. Кирре утверждал, что арестованные были.членами анархо-мистической контрреволюционной организации «Орден Света», которая представляла собой возглавляемую командором ветвь древнего рыцарского ордена тамплиеров. Члены ордена именовали себя рыцарями, были организованы в кружки-отряды, занимались изучением «мистической литературы» и готовили антисоветский переворот.
Больше того, Кирре утверждал, что «Орден Света» ставил своей целью «борьбу с соввластью как властью Иальдобаофа (одного из воплощений Сатаны) и установление анархического строя». Делалось же все это «путем противодействия и вредительства соввласти на колхозном фронте, среди совучрежде-ний и предприятий. Пропагандировался мистический анархизм с кафедры и по кружкам, в которых вырабатывались <…> руководители, главным образом из среды интеллигенции». Правда, обвинитель признавал, что «пропаганда» велась путем рассказа членам кружков легенд, запись коих категорически запрещалась под угрозой исключения из ордена и «вплоть до физического воздействия». Последнее следовало понимать как ликвидацию отступника, поскольку чуть ниже говорилось о проповеди «терроризма» «вплоть до убийств». И хотя это плохо согласовывалось с тем, что подрывная работа рыцарей на фронте колхозного строительства заключалась в «попытках евангельской пропаганды среди крестьянской массы» (что никак не подтверждало кровожадность «рыцарей»), Кирре это не смутило.
Параллельно с «Орденом Света» и в качестве его «дочерней» организации среди артистических и художественных кругов московской интеллигенции существовал другой орден – «Храм Искусств», созданный «с целью внедрения в советские артистические круги своей идеологии в противовес линии марксизма, проводимой компартией в искусстве». Для этих целей в его кружках использовались уже не устные легенды, а рукописи «мифов», «в которых проповедовался и противопоставлялся марксизму идеалистический взгляд на искусство с вклиниванием мистических идей».
«Храм Искусств» был не единственным ответвлением «Ордена Света». Информируя о возможных таких организациях в Москве, Ленинграде и других городах, Кирре сообщал о ликвидированном органами ОГПУ летом 1930 г. в Нижнем Новгороде «Ордене Духа», получавшем из Москвы «указания и литературу», а в Сочинском районе на Северном Кавказе – «Ордене тамплиеров и розенкрейцеров», где точно так же «изучали мистическую литературу и готовили восстание против советской власти».
Что же касается конкретных действий арестованных, то вся их вина заключалась в том, что они сравнительно регулярно собирались друг у друга на семейные вечеринки, где «путем чтения мистических произведений, рассказывания сказок, чтения докладов, пения и музыки происходила обработка в анар-хо-мистическом духе намеченных для вербовки в орденские кружки лиц». Несколько серьезнее выглядело обвинение, что московские рыцари наряду с другими музеями посещали Музей П. А. Кропоткина, слушали там лекции, причем некоторые состояли даже членами Анархической секции Комитета по увековечению памяти П. А. Кропоткина, заседания которой проходили в читальном зале этого же музея.
Кроме того, они устраивали публичные платные вечера, средства от которых шли на нужды музея и на "оказание помощи заключенным и ссыльным анархистам через «Черный Крест». Такие вечера «обслуживались бесплатными силами знакомых артистов, а также выступлениями артистов, состоящих членами „Ордена Света“ или „Храма Искусств“. Программы таких вечеров в большинстве случаев носили мистический уклон…».
«Рыцари», объявившиеся в Москве в год искоренения российского крестьянства, торжества «индустриализации» и «диктатуры пролетариата», не были облачены в сверкающие латы, в белые льняные плащи с красным восьмиконечным крестом тамплиеров. В списке заговорщиков – машинистки и стенографистки, переводчики, литераторы, преподаватели вузов, продавцы книг, распространители изданий «Союзпечати», артисты и художники, просто домохозяйки – словом, представители советской интеллигенции, которая едва сводила концы с концами и толклась на бирже труда. О каком рыцарстве, каких тайных знаниях могла идти речь в те зловещие годы «великого перелома» России, когда во имя «светлого будущего» страна сама изничтожалась под корень, целые селения и города приходили в запустение, а людей загоняли в топи, болота, леса, в вечную мерзлоту, к тачкам великих строек? Когда фотографии родителей и родственников уничтожали только потому, что те имели неосторожность запечатлеть себя в мундире чиновника или с пожалованным за героизм или «беспорочную службу» орденом?
И все же я понимал, что с выводами не стоит спешить. Ведь и Воланда с его свитой – тоже рыцарями! – никто поначалу не принимал за «князей тьмы». А в не менее известном романе А. Франса готовящиеся к восстанию и живущие в Париже ангелы точно так же не выделяются из толпы, зарабатывая на скудный ужин и якшаясь с анархистами. Но как в этом случае разграничить литературу и жизнь?
Названия орденов и кружков, упоминаемых в следственном деле, – «Орден Света», «Храм Искусств», «Орден Духа», «Розенкрейцеры», «Тамплиеры», просто «Рыцари»; изъятые при обысках тетрадки с «ритуалами», «легендами» и «мифами», которые руководители «отрядов» рассказывали посвящаемым; подчеркнуто мистический характер собраний и работа на благо общества и каждого отдельного человека – все это вызывает ассоциации с духовным масонством Н. И. Новикова, И. В. Лопухина, И.Г.Шварца. Однако их время (конец XVIII века) сейчас представляется нам столь же далеким от современности, как и отстоящие от них еще дальше рыцарские ордена. Поэтому возрождение духовных устремлений русской интеллигенции конца XVIII века выглядит в 20-х годах нашего столетия столь же невероятным, как и возрождение рыцарства.
Но что-то ведь было!
Читая протоколы, собственноручные показания арестованных, которым всякий раз при вызове на допрос приходилось вступать в своего рода дуэль со следователем, я постепенно начинал понимать, что само «дело» вовсе не замыкается на этих людях. Передо мною лежали фрагменты сложной и обширной картины, действие которой началось задолго до трагической ночи с 11 на 12 сентября 1930 года, а закончилось отнюдь не приговором Коллегии ОГПУ в составе С. А. Мес-синга, Г. И. Бокия и неизвестного мне Кауля и в присутствии прокурора Р. П. Катаняна 13 января 1931 года. Здесь были перемешаны пласты (или потоки?) потаенной жизни предшествовавших лет, которые еще предстояло открывать, изучать и осмысливать, отделяя реальность от «баснословия», как образно выражались в прошлом.
Начинать надо было с самих людей, восстанавливая их взаимоотношения, выясняя группировки и по возможности отделяя политику от быта и духовных устремлений хотя бы уже потому, что крест исторических тамплиеров не походил на «голубую восьмиконечную звезду», фигурировавшую в символике московских рыцарей, как, впрочем, и белая роза, с которой был связан ритуал собраний. Надо было понять, каким образом могли соседствовать мистика легенд с «евангельской проповедью», а они, в свою очередь, – с анархистами и Музеем П.А.Кропоткина, поскольку анархисты, как известно, категорически отрицали какую бы то ни было религиозность и мистицизм.
Ввести меня в круг этих людей, помочь разобраться в них и в событиях мог только один человек – мой отец, который был со всеми ними знаком. Сама его жизнь и работа представляли для меня как бы первичную хронологическую канву, накладывая которую на узоры событий можно было представить недостающие фрагменты рисунка и направление дальнейшего поиска. Впрочем, едва приступив к этой работе, я обнаружил, что в моих руках находятся материалы, прямо выводящие меня к истокам указанных событий.
Арбат, 57
Ключ к делу 1930 года нашелся в автобиографических записках С. М. Эйзенштейна, в главке «Добрый Бог», которая до сих пор не публиковалась на русском языке, а вошла только в западногерманское издание его мемуаров. В ней знаменитый режиссер, рассказывая о своих взаимоотношениях с религией и церковью, упоминает эпизод, связанный с его пребыванием в Минске в 1920 году – в это самое время он встретился с моими родителями.
Здесь необходимо хронологическое отступление, чтобы понять воспоминания Эйзенштейна и познакомиться с людьми, чьи имена всплывают в протоколах допросов 1930 года.
В Москву из Рязани отец переехал вместе со своей матерью и сестрой летом 1915 года, когда поступил на юридический факультет Московского императорского университета. Никитины поселились в Крестовоздвиженском переулке в доме художника Э. Э. Лисснера, который держал собственную студию и сдавал студии двум молодым скульпторам – А. А. Ленскому, сыну известного актера и режиссера Малого театра, и А. С. Бессмертному – одному из близких друзей актера Первой студии Московского Художественного театра Михаила Чехова. Выбор квартиры, скорее всего, был случаен, но тот факт, что с первых же шагов отец очутился в среде артистической молодежи Москвы, связанной именно с Художественным театром, оказался решающим для его дальнейшей жизни и творчества.
В доме Лисснера кроме Михаила Чехова бывали актер Первой студии В. С. Смышляев, будущий режиссер Ю. А. Завадский, тоже студент юридического факультета, поэт и переводчик П. А. Аренский, сын известного композитора, и многие другие. Именно мой отец познакомил начинающего поэта Павла Антокольского с Завадским и Вахтанговым.
Безумные годы Гражданской войны разбросали этих людей по стране. Мои родители успели пожениться летом 1918 года и с тех пор вместе колесили по фронтам, побывав сначала на Юго-Западном, а затем, после краткой передышки в Москве, – на Западном. Летом 1920 года, когда фронт сдвинулся на запад, они оказались в освобожденном от белополяков Минске.
«Наша минская трехкомнатная квартира, – вспоминала мать, – располагалась в прекрасном особняке с садом. В большой гостиной стояли огромный диван-тахта, стол и рояль. По вечерам к нам собирались москвичи – здесь был хоть какой-то уют, чай с хлебом и сахаром, музыка… Аренский читал свои стихи и переводы, прекрасно играл доктор П. Н. Васильев, говорили об искусстве и литературе. На одном из таких вечеров и появился Сережа Эйзенштейн – его привел к нам Аренский – среднего роста, очень худенький мальчик с большой пышной шевелюрой, который говорил ломающимся голосом молодого петушка…»
Больше всех новым знакомствам радовался Эйзенштейн. 15 августа 1920 года он писал матери:
«Знакомлюсь тут с очень интересными людьми, особенно с одним литератором, весьма солидным, – пишет о Скрябине…» А в письме от 27 августа 1920 года, сообщая, что начал изучать японский язык, поясняет: «Это влияние моего большого друга, писателя Аренского (кажется, я тебе писал о том, как прекрасна его статья о Скрябине и интересны его замыслы мистерий и поэм)». Свой новый дружеский круг в Минске Эйзенштейн определяет в письме от 10 сентября 1920 года, где сообщает, что получил направление на курсы Академии Генштаба РККА для занятий японским языком. Едут же они «втроем: Аренский (я тебе, кажется, уже писал, что он писатель и сын композитора), один очень интересный и высокоталантливый художник (теоретик „неовитализма“ и „моновитизма“ в живописи) и я».
Но самое любопытное для нас то, что в этом письме, преодолев свою обычную скрытность, Эйзенштейн сообщает матери:
«Имел здесь очень интересную встречу – сейчас перешедшую в теснейшую дружбу нас троих с лицом совершенно необыкновенным: странствующим архиепископом Ордена Рыцарей Духа… Начать с того, что он видит астральное тело всех и по нему может о человеке говорить самые его сокровенные мысли. Мы все испытали это на себе. Сейчас засиживаемся до 4 – 5 утра над изучением книг мудрости Древнего Египта, Каббалы, Основ Высшей Магии, оккультизма… какое громадное количество лекций (вчетвером) он нам прочел об „извечных вопросах“, сколько сведений сообщил о древних масонах, розенкрейцерах, восточных магах, Египте и недавних (дореволюционных) тайных орденах! Тебя бы все это бесконечно заинтересовало, но всего писать не могу и прошу дальше никому не говорить. Сейчас проходим теоретическую часть практического курса выработки воли. Вообще он излагает удивительно захватывающее учение. И опять же, дальнейшее – Москва. Туда, вероятно, прибудет и он. Знания его прямо безграничны…»
Эйзенштейн оставляет нас в неведении как о «странствующем архиепископе», так и о четвертом человеке, слушавшем его лекции. Но, по счастью, упомянутая главка «Добрый Бог» автобиографических воспоминаний режиссера многое проясняет. Во второй ее части Эйзенштейн обращается к Минску 1920 года, где он познакомился с «профессором литературы и философии» Зубакиным. Этот командированный из Смоленска клубный инструктор и лектор оказался «розенкрейцерским епископом Богори Вторым».
Дальнейшее настолько любопытно, что я полагаю нужным привести текст Эйзенштейна целиком:
"Я никогда не забуду помещения «ложи» в Минске. В проходном дворе – одноэтажный дом, занятый под красноармейский постой. Несколько комнат с койками, портянками, обмотками, гармонью и балалайкой. Задумчивые и озабоченные красноармейцы. Маленькая дверь дальше. За дверью что-то вроде бывшего кабинета с письменным столом с оторванными дверцами. Дальше еще дверь в совсем маленькую комнатку. Мы проходим туда – несколько человек.
Громадного роста, состоявший когда-то в анархистах, дегенерировавший русский аристократ с немецкой фамилией. Неудачник – сын одного из второстепенных русских композиторов. Актер Смолин из передвижной фронтовой труппы. Между исполнениями роли Мирцева в пьесе «Вера Мирцева» он лечит мигрени наложением рук и часами смотрит в хрустальный шар в своем номере гостиницы.
Тренькает за дверью балалайка. Стучат котелки с ужином из походной кухни во дворе. А здесь – омовение ног посвящаемым руками самого епископа. Странная парчовая митра и подобие епитрахили на нем. Какие-то слова. И вот мы, взявшись за руки, проходим мимо зеркала. Зеркало посылает союз наш в астрал. Стучат опустевшие котелки. Балалайку за дверью сменяет гармонь. А мы уже – рыцари. Розенкрейцеры. И с ближайших дней епископ посвящает нас в учение Каббалы и «Арканы» Таро. Я, конечно, иронически безудержен, но пока не показываю вида…"
Не будем обращать внимания на ироничность и на подчеркнутую пренебрежительность Эйзенштейна к своим спутникам, столь контрастирующие с неподдельным восторгом по их поводу в письмах, – ведь воспоминания эти написаны в 1946 году, когда почти все они погибли в лагерях. Для нашего рассказа важно другое. Во-первых, мы узнаем о существовании в прифронтовом Минске 1920 года «Ордена Злато-Розового Креста» (это подтверждается и другими источниками); во-вторых, узнаем о посвящении Эйзенштейна и Аренского именно в розенкрейцерство, что сопровождалось изучением оккультной литературы, а в более ранние времена – и занятиями алхимией; в-третьих, мы узнаем имя «странствующего архиепископа Ордена Рыцарей Духа» – Борис Михайлович Зубакин (1894 – 1938).
Но вернемся к рассказу Эйзенштейна.
«Осенью того же 1920 года „рыцари“ по долгу службы – за исключением долговязого и артиста-целителя, куда-то пропавших, – в Москве. Среди новых адептов – Михаил Чехов и Смышляев. В холодной гостиной, где я сплю на сундуке (по-видимому, речь идет о квартире М. М. Штрауха на Чистых прудах. – А. Н.), – беседы. Сейчас они приобретают скорее теософский уклон. Все чаще упоминается Рудольф Штейнер. Валя Смышляев пытается внушением ускорять рост морковной рассады. Павел Андреевич (надо „Антонович“. – А. Н.) увлечен гипнозом. Все бредят йогами… Помню беседы о „незримом лотосе“, невидимо расцветающем в груди посвященного. Помню благоговейную тишину и стеклянные, неподвижно устремленные к учителю очи верующих… Я то готов лопнуть от скуки, то разорваться от смеха. Наконец, меня объявляют „странствующим рыцарем“ – выдают мне вольную, – и я стараюсь раскинуть маршруты моих странствий подальше от розенкрейцеров, Штейнера, Блаватской…»
В этих маршрутах Эйзенштейн ушел так далеко от своих друзей, что возвращение оказалось невозможным. По-своему он был прав. «Человек рационального и методичного ума, жесткого и сухого воображения», «глубокий эгоцентрист, собранный и замкнутый» (так характеризовал его В. В. Тихонович, работавший с ним тогда в Пролеткульте), Эйзенштейн обладал еще; и огромным талантом, требовавшим действенного выхода и; сиюминутной реализации. Он умел схватить удачу: любил победителей и способен был разорвать любые узы, отбрасывая все, что стояло на его пути. Так произошло чуть позже с тем же Смышляевым, пригласившим Эйзенштейна по рекомендации Аренского и Никитина работать в театре Пролеткульта, откуда через полтора года был изгнан не только Смышляев, но, как писал в одной из своих автобиографий Эйзенштейн, и «последние остатки школы Художественного театра».
Случилось это уже в 1922 году. А зимой 1920 – 1921-го трое тогда еще друзей – Смышляев, Эйзенштейн и Никитин – на сцене московского театра Пролеткульта поставили знаменитый спектакль «Мексиканец» по Джеку Лондону. Для нашего рассказа он интересен тем, что художник и постановщики при оформлении использовали оккультную символику. Треугольники, кубы, окружности, овалы, эллипсы, пирамиды и прочие элементы костюмов, обстановки и декораций, воспринимаемые большинством зрителей всего лишь как «дань формализму», на самом деле выполняли в раскрытии замысла важные функции, понятные лишь посвященным.
Были ли посвященные среди зрителей – трудно сказать, но сам факт, что во главе восставшего народа, согласно спектаклю, оказывается тайная организация, позволяет предположить, что в сознании постановщиков она как-то ассоциировалась с ложей или тайным орденом.
Никитин, начиная с зимы 1921 – 1922 года, вел в студии Про– . леткульта курс оформления спектакля для режиссеров и читал историю изобразительных искусств. Эти два курса стали для него основными до конца 20-х годов, причем читал он их, как записано в протоколе его допроса, во многих вузах Москвы. Однако – и это остановило мое внимание – в перечне названных отцом вузов по какой-то причине не был указан главный – Белорусская государственная драматическая студия в Москве, – где он оформил почти все постановки с 1924-го по 1926 год и где в качестве преподавателей собрались друзья его ранней молодости: Смышляев, Завадский, его сестра, Аренский, Смышляева-Аренская и многие другие. Первоначально студия создавалась при МХАТе, однако в 1922 году основная труппа Художественного театра во главе с К. С. Станиславским уехала на гастроли за границу, и молодых белорусов стал опекать МХТ второй . Художественным руководителем к ним был приглашен Смышляев. А тот, в свою очередь, пригласил друзей читать лекции и вести занятия.
Зачем было скрывать этот факт? Мне кажется, разгадку подсказывает репертуар студии.
Первым ее спектаклем стал «Царь Максимилиан» по А. М. Ремизову, показанный в ноябре 1924 года в Москве и поставленный в стиле средневековых мистерий с явными элементами рыцарской символики. Чрезвычайно интересно воспоминание С. М. Станюты (единственной оставшейся теперь в живых участницы спектакля) о том, как студийцы вживались в образ средневековых странствующих актеров, как отрабатывали жесты и движения, имевшие определенное символическое значение. Это невольно всплывало в памяти, когда я читал показания отца, пытавшегося именно «через театр» объяснить возникновение ритуальности «орденских сборищ», отказываясь признать фактическое существование ордена и его мистическую направленность:
«По вопросу о так называемом „Ордене Света“ сообщаю, что такого Ордена я не организовывал и никогда рыцарем этого Ордена себя не называл. Однако представление об этом Ордене у некоторых лиц, как о возможном явлении, могло возникнуть в связи со мной благодаря значительному моему интересу к Орденам средневековья в период 1924/25 года… Изучение средневекового искусства и литературы, посвященной средневековью, побуждало меня отнестись с особым интересом к идеям средневекового рыцарства и формам его внешнего проявления. Моя работа в театре способствовала моей восприимчивости к внешним проявлениям рыцарства, и мне казалось, что в условиях современной художественной деятельности может явиться плодотворным заимствование стилистических особенностей этого явления… Возникла мысль проделать лабораторно-экспериментальную работу по театральной реализации известных художественных образов, связанных с рыцарством, вплоть до воссоздания внешних форм ритуала посвящения и других торжественных церемоний по-историческим материалам, имеющимся в литературе… Други-; ми словами, мне казалось целесообразным применить уже испытанный на театре в системе Станиславского метод лабораторного вживания в художественный образ».
Следом за «Царем Максимилианом» была поставлена феерия «Апраметная» по белорусской сказке в обработке народного учителя В. Шалевича. Затем были «Сон в летнюю ночь» Шекспира с центральной сценой волшебного леса и сна Тита-нии; «Вакханки» Еврипида; «Эрос и Психея» Ю. Жулавского – пьеса, повествующая о бесконечных перевоплощениях Души, ищущей Света, о поисках утраченной Аркадии…
В каждом из этих спектаклей можно было найти достаточно мистических аллюзий и символики для того, чтобы в те годы, когда в Москве велось следствие по делу тамплиеров, обрушить ураган партийной критики на «васильковую мистику» Второго Белорусского государственного театра (ныне – Театр имени Я. Коласа в Витебске), в который к тому времени превратилась студия. По счастью, в мистике этих спектаклей критики усматривали отнюдь не розенкрейцерство, а всего только «романтику национализма», хотя и это не спасло некоторых его актеров и режиссеров от роковой 58-й статьи…
Умолчание в показаниях отца об одной из самых ярких страниц его жизни и творчества наводило на мысль, что занятия со студийцами не ограничивались только учебной программой, что они были значительно глубже и серьезнее, а сам театр в Витебске представлял собой одно из ответвлений ордена.
Основание для такого предположения дают и признания Ф. Ф. Гиршфельда, человека, выступившего на следствии с «искренними показаниями» и тем заслужившего (редкий случай!) свободу.
Гиршфельд был одноклассником среднего брата моей матери, Николая Робертовича Ланга, а потому бывал еще в доме моего прадеда. Встретив Гиршфельда в 1924 году в Москве, Н. Р. Ланг ввел его в дом Никитиных. Уже будучи принятым в один из рыцарских кружков и посвященным в 1-ю степень, Гиршфельд решил его покинуть. «Собрания эти перестали быть для меня интересными, мне было скучно на них, и в это время во мне крепло трезвое марксистское материалистическое мировоззрение», – объяснял он на следствии. Между тем какое-то время Гиршфельд, согласно показаниям А. С. Поля, являлся помощником Ю. А. Завадского по административной части его студии, а потому хорошо знал Аренского, который в те годы был женат на В. А. Завадской.
Так вот, по утверждению Гиршфельда, основными объектами работы ордена в области искусства, как ему «удалось выяснить по разговорам у Никитиных, была Белорусская студия и Второй МХТ. Смышляев <…> занимал одно время руководящую должность в Белорусской студии и использовал свое положение для привлечения туда Никитина. Ими была проведена там довольно основательная мистическая обработка. Результатом ее явились постановки „Царь Максимилиан“ и „Апраметная“, выдержанные целиком в мистическом духе…»
Столь же любопытны его показания относительно Второго МХТа, где также «проводилась интенсивная работа» и откуда в орден было привлечено несколько актеров, в том числе А. И. Благонравов и Л. И. Дейкун, которых называют и все остальные сознавшиеся. Труднее проверить другое утверждение Гирш-фельда, ссылавшегося на разговоры с А. С. Полем, – что «в 1924 – 1925 годах почти весь Второй МХТ был охвачен мистическим движением <…> в организации состоял и Станиславский, который, впрочем, очень скоро отошел». Зато в правоте его следующих слов не приходилось сомневаться: «Мне известно, что Смышляев работал над постановкой „Золотого горшка“ Гофмана (в переработке Аренского) – пьесы сугубо мистического характера. Однако эта пьеса не была пропущена Главреперт-комом. Художником этой постановки был также приглашен Никитин. В таком же духе была поставлена во Втором МХТе „Орестея“, снятая после нескольких спектаклей…»








