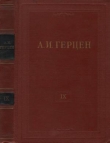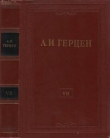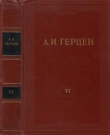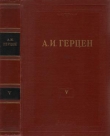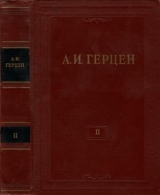
Текст книги "Том 2. Статьи и фельетоны 1841–1846. Дневник"
Автор книги: Александр Герцен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 37 страниц)
20. А как взглянешь около себя… Бедный, бедный русский мужик. И что досаднее всего видеть – средство поправить его состояние по большей части под руками, алчность помещиков и неустройство государственных крестьян повергает их в это положение. Глядя на их жизнь, кажется чем-то чудовищно преступным жить в роскоши; обыкновенно мужик здешней полосы никогда не ест мяса, у него едва хватает хлеба; коли побогаче, ест капусту; он каждый день с своей семьею отыгрывается от голодной смерти. О запасах думать нечего; умри лошадь, корова – он пошел ко дну. У кого много работников в семье, те живут получше; но много ли таких? Возле их бедных полей богатые поля помещика, обработанные его руками, скирды хлеба, копны сена – какое ангельское самоотвержение! Сегодня приходили к окну нищие из соседней деревни; помещик выгоняет их ежедневно на работу поголовно – у них хлеба нет, это бросается в глаза, а если есть только хлеб, то совесть помещика чиста, чего же им более, они сыты. Мы дивимся гладиаторам, – а разве через век не будут дивиться нам, нашей свирепой жестокости, отсутствию человеколюбия в нас? Чем мы лучше суринамских колонистов, англичан в Индии? Нет, мы хуже, потому что крестьяне наши лучше диких, – кротко, грустно несут они тяжелый крест жизни, черно проводят ее, имея в перспективе розги, голод и барщину, если оброчный – рекрутство, взятие во двор. Наши славянофилы толкуют об общинном начале, о том, что у нас нет пролетариев, о разделе полей – все это хорошие зародыши, и долею они основаны на неразвитости. Так, у бедуинов право собственности не имеет эгоистичного характера европейского; но они забывают, с другой стороны, отсутствие всякого уважения к себе, глупую выносливость всяких притеснений, словом, возможность жить при таком порядке дел. Мудрено ли, что у нашего крестьянина не развилось право собственности в смысле личного владения, когда его полоса не его полоса, когда даже его жена, дочь, сын – не его? Какая собственность у раба; он хуже пролетария – он res[293]293
вещь (лат.). – Ред.
[Закрыть], орудие для обработывания полей. Барин не может убить его – так же, как не мог при Петре в известных местах срубить дуб, – дайте ему права суда, тогда только он будет человеком. Двенадцать миллионов людей hors la loi[294]294
вне закона (франц.). – Ред.
[Закрыть]. Carmen horrendum[295]295
Страшный закон (лат.). – Ред.
[Закрыть].
23. Дочитал первые три тома L. Blanc. Как поэтически явился сен-симонизм, как геройски явилась республиканская партия и как вдруг уничтожились одни и обессилели другие! Но если они видимо уничтожились и ослабли, то в нравах, в общем мнении осталось очень-очень много. У них не было полной отгадки. Между тем необходимость социального переворота теперь стала очевидна, враги развития, как Гизо, понимают и трепещут. Изменение права собственности, коммунальная жизнь, организация работ – вопросы, занимающие всех, видящих далее носа, нелепость случайного и нелепого распределения такого важного орудия, как богатство, нелепость гражданского порядка, приносящего на жертву огромное большинство, невозможность равенства при таком устройстве – все это стало очевидно, – а давно ли? Возражения со стороны консерватистов проникнуты, сознательно или бессознательно, эгоизмом и своекорыстием привилегированных каст. Теперь, например, толкуют, что при организации равного воспитания отец не может дать того воспитания, которое он считает лучшим, а забывают, что теперь все отцы низших классов не могут дать никакого воспитания своим детям. Конечно, при лучшем общественном устройстве многие не будут иметь возможности тратить деньги, как теперь, они стеснятся, но никто не будет мереть с голоду. А разве при развитии идеи права не стесняется самодержавная воля деспота, разве ему не хуже, например, в Англии, нежели в России? Франции принадлежит великая инициатива этого переворота. Она ему положила начало Конвентом. Болезненно достигает она до осуществления. Достигнет ли, когда? – Все равно человечество ей не забудет первый шаг. Удивляюсь, как славянобеснующиеся не понимают истории, не понимают европейского развития, – это помешательство. Славяне в будущем, вероятно, призваны ко многому, но что же они сделали в прошедшем со своим стоячим православием и чуждостью от всего человеческого?
30. Гостили Белинский, Боткин, Грановские. История Боткина отравила почти все время, она поселила неловкость между нами и покрыла чем-то тяжелым все время. Конечно, он не прав, как смешно слабый характер, как человек, приучившийся рефлектировать там, где должно действовать, наконец, как человек, ставящий эгоистически выше всего какое-то себепотворство, обоготворяющий маленькие удобства и боящийся поднести чашу жизни к устам, потому что тяжело держать ее. Все это так; более, мы только тех людей можем уважать, которые, решивши в сердце и в голове вопрос, ломят все препятствия, пренебрегают ранами, словом, имеют храбрость поступка и всех последствий его, доросли до действительной жизни. Но, с другой стороны, нельзя не видеть, что слабость Боткина испугалась в самом деле страшного. Он содрогнулся от слова брак, истинная любовь не содрогнулась бы, но все же брак страшен, контрактование себя, кабала, цепь. Брак не есть истинный результат любви, а христианский результат ее, он обрушивает страшную ответственность воспитания детей, семейной жизни etc., etc. Мне семейная жизнь легка с этой стороны, – но это случайность, и именно потому я имею голос. Между свободным счастием человека и его осуществлением везде путы и препятствия прежнего религиозного воззрения. В будущую эпоху нет брака, жена освободится от рабства, да и что за слово жена? Женщина до того унижена, что, как животное, называется именем хозяина. Свободное отношение полов, публичное воспитание и организация собственности. Нравственность, совесть, а не полиция, общественное мнение определят подробности сношений.
Глубоко грустные стоны издаются и теперь еще по временам из болезненной души Н<аташи>. Ей судьба привила дар страданий; история Боткина опять потрясла ее и растравила старое, причина все одна; мы не можем свободно и широко взглянуть на отношения людей между собою, христианские призраки мешают. Они были необходимы в свое время – теперь их не нужно. Христианский брак был нужен для того, чтоб приучить людей в жене уважать женщину, – ревнивая любовь средних веков, идеализация девицы окружили женщину светлым кругом, и он останется и будет тем светлее, чем далее разовьется нравственность.
Христианское общество, как всякое одностороннее, имеет всегда в себе самом обратную сторону. Неразрывный брак, с одной стороны, и, с другой – публичные домы, где женщина брошена в грязный разврат, поставлена ниже животного. Но как примирить, как устроить? Сен-симонисты дали великий пример смирения, они ждали голоса женщины, чтоб решить вопрос; но с тех пор, разве голос G. Sand не заявлял мнение женщины?
Белинский не переменился ни на волос, вечно в экстреме; но глубоко вникающий и симпатичный с одной стороны, резкий до цинизма в словах, но верный в смелости и не трус, конечно, в консеквентности. Я люблю его речь и недовольный вид и даже ругательство.
Июль месяц.
4. «Révolution d’Angleterre. Charles I» par Guizot. Для того, чтоб дойти до вселенского переворота конца XVIII столетия, надобно было испытать частные эманципационные перевороты. Реформация торжественно заключается английской революцией. Она далеко от всеобъемлющего характера французской, она боится инициативы, старается каждому требованию придать историческую основу, она предъявляет только такие права, на которые она имеет исторические антецеденты, она двигается вперед, но спиною – беспрестанно смотря на прошедшее и боясь, особенно в первую половину, сознаться, что идет по вовсе не разработанной земле и новой. Между тем все вопросы первой важности обсуживаются с трибуны и в брошюрах. Республиканское устройство пресвитерианской церкви, разноголосица независимых, нижний парламент, в глазах народа захватывающий власть, внедряют великие идеи о праве народа, о самодержавии народа; массы воспитываются. Полковник Кромвель, вербуя себе солдат, говорил им: «Знайте вперед, я не хочу лицемерить, не говорю – беру вас защищать короля и парламент; нет, если б король стоял передо мной, я первый пустил бы ему пулю в лоб» и пр. При начале революции массы отступили бы с ужасом от человека, который бы дерзнул произнести слова эти. Кромвель знал, с кем говорит, все энергические из слушателей шли под его знамя. В Англии, как тут, так и до наших дней, удивляет нас, привыкнувших к военно-восточному деспотизму, глубокое, твердое, величаво-спокойное сознание прав своих и прав благородства, достоинства человека вообще. Гизо приводит в pièces justificatives[296]296
в качестве оправдательных документов (франц.). – Ред.
[Закрыть] пример допроса лорда при Елизавете, говорившего в парламенте очень смело против нее. С какою доблестью отвечает он и с какою доблестью члены верховного суда понимают правоту его! Права свободно разумной личности признаны с тою же неколебимостью, с какою у нас, например, они все отвергнуты. Во время первой войны король и парламент пленным ни с той, ни с другой стороны не делали обид, и общественное мнение громко восстало, когда король для унижения пленников велел им дефилировать перед собою, а в его глазах они были государственные преступники. Вот этого-то воспитания в правомерное состояние у нас вовсе нет; даже мы не уважаем и ту законность, которая дается нашим сводом. Оттого свод беспрестанно нарушается внизу массой подлых агентов и самим народом, для выгод которого сделан закон. С другой стороны, высшей властью, которая не видит в нем закона, а распоряжения, указы, состоящие до нового указа. Отсюда этот хаос неопределенных прав, где иной раз власть старается об развитии элективного начала или коллегиального управления, а массы противудействуют ему; а другой раз малейшее поползновение приобрести гражданские права со стороны лиц, особенно же заявление своих прав, сознание их, принимается за бунт и также властью наказывается кнутом и всем на свете.
Расстояние наше с Европой во всем неизмеримо. В Европе самодержавие было болезнь одного века, от которой сама власть тотчас стремилась отречься (скрывая цель под личиною общественной пользы), у нас в заключение всей истории нашей, не имевшей никакого знамени, в XIX веке водрузили хоругвь, на которой просто и ясно говорится, что цель наша, слово эпохи – самодержавие. Народ – только поддержка самодержавия. Представьте европейские государства: Сардинию, Неаполь, Австрию, где бы цинизм деспотизма дошел до того, чтоб на знамени написать «абсолютизм – самовольство власти…»
6. Обыкновенно восстают против делопроизводства процессов Людвига XVI и Карла I. Политические преступники во время переворота всегда судятся вне обыкновенных форм, цель этого рода процессов вовсе не раскрытие истины, виновности, а обвинение, победа принципа. Людвиг XVI и Карл I положили головы для торжества идеи революционной и для спасения самой революции, обстоятельства Англии и Франции сверх фанатизма привели к трагической катастрофе. Не гораздо ли страннее и гнуснее видеть, как в монархиях в спокойное время, когда ничего не боятся, судят исключительными судами и инквизиторскими порядками не токмо политических преступников, нолюдей неосторожных, авторов эпиграммы или остроты за чашей вина? Зачем всегда указывать на бурное время, когда в штилъ, без нужды, делают то же? Да, жалостно прощанье Карла I с детьми. А разве все погибающие в Спилберге, Сибири, Бобруйске, Динабурге, Петропавловской крепости бездетны? Да, может, они и не прощались с ними; да, может, их дети пошли по миру. Люди до сих пор не могут поверить, что они не токмо перед богом, но и перед людьми равны.
Перечитывали наши письма 1835-36 годов. Хороши все эти звуки и песни любви, как давно неслыханная национальная песня, а уж сколько прожито с тех пор! Эта восторженная любовь, полная юности и романтизма, перешла в иную форму, более истинную и действительную, но не так радужно и ярко светлую. Читая, навертывается улыбка – переносишься в те времена, завидуешь им и чувствуешь, что теперь совершеннолетнее. Эти шаги в совершеннолетие считаются потерями душами нежными. Трезвый взгляд очень труден, так же, как консеквентность своим началам. И истинно тяжело, кого судьба наградила страшной логикой и когда у него нет недвижимого имения, куда он не пускает мысль.
9. «Histoire de la contre-révolution en Angleterre» par Ar. Carrel. XVI век начал в границах реформации эманципацию Европы от христианства, нельзя было миру феодальному и католическому без боя уступить, тем более, что и сами реформаторы и все секты противупапские, кроме малых исключений, не отделались от феодализма. Распутный Карл II и отвратительно ограниченный Яков II были органами этого прошедшего, ищущего себе места в мире, явно отрекшемся от него. Разница притеснений и ужасов Якова с нашим состоянием огромная, там есть партия за него, у нас только повиновение из невежества и выгоды. У нас власть не имеет партии proprie sic dictum[297]297
в собственном смысле слова (лат.). – Ред.
[Закрыть]. Абсолютизм в Европе хотел обоготворить историческое начало монархической власти, у нас императорство одной стороной в противуположности с историей, оно эманципационно по петровскому элементу и притеснительно во имя силы, на которую опирается, во имя грубой материальной силы. Яков II прямо боролся, и с ним боролись, там были права на борьбу, ему бог знает каких трудов стоило сделать судебную власть подлою, у нас понятия нет о праве вне произвола. Там насилие, революция, абнормальность – у нас обыкновенный порядок дел; оттого там человек шел на плаху невинно, но мог высказать это, у нас молча и немо казнили бы его, у нас не усомнились бы в том, что он казнен по праву. Карель замечает, что республика была невозможна для Англии при ее разделении на классы, – бессомненно. Оттого-то и во Франции не провозглашается республика. Государство разделенное должно иметь центр, связующий его, – государя, иначе будет охлократия или régime de terreur[298]298
режим террора (франц.). – Ред.
[Закрыть]. Самая власть Кромвеля опиралась на консервативных интересах одного класса так, как власть Людвига-Филиппа.
10. Феодальный быт и управление развились органически из элементов народных и исторических, и развились во всей силе и красе с чрезвычайной многосторонностью и последовательностью. В нем и им развиты католицизм и рыцарство, романтизм и общины. Но стремительно развивающийся дух Европы в несколько веков изжил романтико-феодальное содержание, остались формы, да и те должны были ждать видоизменений – час христиано-германского мира наступал; он делался тесен для вновь развивавшихся идей – революция за революцией начинают с XV столетия громить феодальное statu quo[299]299
Здесь: строй (лат.). – Ред.
[Закрыть]. Реформация начала освобождение от католицизма и вместе с тем от христианства. Считают после Реформации одну политическую революцию, состоящую в освобождении народов от власти, приобретении прав и пр., – но параллельно с нею шла другая революция, ниспровергавшая с другого конца все феодальное устройство – развитие центральной власти, абсолютизма; абсолютизм, для прикрытия своей новизны, революционности, назвал себя историческим, повел свое начало от времен доисторических, но это чистая ложь. Абсолютизм центральной власти относительно феодального устройства так же революционен, как либерализм, и политический характер деспотизма Людвига XIV не имеет той религиозной связи с народом, с государством, как власть королей в средние века.
После Вестфальского мира разработался новый элемент, сделавшийся преобладающим до французской революции, – это дипломатия и политика, основанием их – эгоизм и плутовство; все делалось, как у игроков с подтасованными картами, народный голос становился не нужен, самый голос чести, сильный в средние века, умолк. Народы управлялись дворами. Там гнездились торгаши народной крови и благосостояния, делили земли, присоединяли чужое, отчуждали свое полицейскими распоряжениями, поддерживая их в случае нужды армиями. Постоянные армии (учреждение антифеодальное) сделались величайшей опорой централизации и всех увеличений королевской власти. Но, разъединенная с народом, власть эта становилась более и более оскорбительною и должна была, пройдя грязным периодом публичной безнравственности и разврата, пасть, если не везде фактически, то везде во мнении. Миновало с дипломатией и дворами то величавое, видневшееся на челе царей средних веков, о чем Шекспир так прекрасно сказал: «И океан не смоет елея с чела моего». Цари, окруженные непреклонными, гордыми герцогами и вассалами, – тогда они были необходимы и в них веровали, и они веровали в себя (какие бы индивидуальные отступления ни были). Рыцари стали дворовыми людьми, челядью королей. Обман и ложь считались не пороком для власти; а рядом реформация подталкивала детские верования, уму, мысли дано было уважение. Французская революция является совершенно последовательным вторым отрицанием феодализма. Центральная власть отреклась от народа и аристократов, оставя божественность короля в пользу его. Французская революция была тем же действием со стороны масс; она доказала небожественность власти и замкнула приготовительную эру перехода в новый мир. В наше время фактически, по старой памяти, многое стоит – но дряхлое, оглупевшее, как Талейран в последние годы, представитель этого былого. Плутовство в дипломатии осталось мерзкой привычкой – оно невозможно. Это изнашивание форм, некогда прекрасных, есть признак сильной жизни, это, говоря языком философии, та великая трансценденция der übergreifenden Subjectivität[300]300
перехватывающей личности (нем.). – Ред.
[Закрыть] человечества, из которой состоит история. Народы, слабые внутренними началами, бедные жизнию и мыслию, как Китай, Персия, века живут под одной формой, и им она довлеет.
11. XVIII век начался в мраке страшных событий, которыми окончивался христианский мир. Людвиг XIV давил полстолетия почти всю Европу, он уже совершил отрицание былого бессознательно и был просто деспот, тиран. Его назвали великим, потому что современники его, за исключением Вильгельма III, были малы и низки. Читая об нем, меришь наглазно, сколько мы подвинулись; для Европы теперь все это невозможно, у нас хотя возможно, но уже дико. Гонение гугенотов, уничтожение целых городов, обманы и пронырство в сношениях с союзниками – это величие. Хороша и Германия того века. ОднаАнглия и Голландия искупали тогда человечество, и ими успокоивается взгляд, останавливаясь на Вильгельме III. Англия велика своим предварением в политическом воспитании всех народов. Около Людвига составилась атмосфера подлости, все в ней было подло: Боссюэт и Кольбер, литература и церковь, войско и парламент – всё были лакеи, едва кое-где вырезывается величественная в своей кроткой простоте фигура Фенелона. Вильгельм III был не тори и не виг. Наполеон еще более был вне всех партий. В этом свидетельство их превосходства над современниками, они глядели обширнее, они вышли из пробитых полей на свежую дорогу. Сверх того, в этом глубокий такт действительности. Партии сердятся на таких людей, они кажутся изменниками с обеих сторон, чаще всего они бывают правее обеих сторон и именно потому не могут принять à coeur[301]301
близко к сердцу (франц.). – Ред.
[Закрыть] все увлечения которой-нибудь. Есть другого рода люди, которые потому не принадлежат к партии, что или это не сурьезно, что они ниже всеобщих интересов, – например, Талейран, – или гнусно ячны и подчиняют подлому расчету интересы общие – например, Фуше. Но мы говорим об истинных деятелях в истории. Иметь свою теорию, свои твердые, однажды оконченные стремления и цели – так же негодно в политической деятельности, как в науке. Кромвель говорил: «В перевороте всех дальше уйдет тот, кто не знает, куда идет». Он на себе доказал истину этих слов. Само собою разумеется, что есть краеугольные начала, общие тенденции, очень сознательные и очень сознанные, – но лишь бы не было требования осуществить их по субъективному мнению, надобно дать волю обстоятельствам и, выразумев их указание, стать во главе их, покоряясь им ‒ покорить их себе; это принесение на жертву мнения, неговоря о прочем, совершенно законно уже потому, что я смотрю на предмет с известной точки, а событие, развивая его, развивается вследствие всех сторон. Самый трогательный пример вреда от настроений – Лафайет. Это идеализм в политике. Человек жизни идет до конца, до последних следствий. Человек рефлексии и теорий не идет дальше грани, поставленной им самим, и тут всегда, при благороднейшем стремлении, при безусловной чистоте, при таланте, он тормозит ход происшествий, а так как гора крута, его расшибает, как Жиронду. Ни Робеспьер, ни Наполеон не могли иметь предварительно определенного плана действий; они были живые органы, отдавшиеся событиям, участникам и развивателям их, и, наоборот, развивались ими. Наполеон раз в жизни был с arrière-pensée[302]302
задней мыслью (франц.). – Ред.
[Закрыть], противуположной духу обстоятельств, он, по собственным словам его, понял, что надобно надеть республиканскую шапку, а вместо ее он надел ток с перьями Карла Великого – Ватерлоо было ответом на эту ошибку. Но нелегко уразуметь, сродниться с своим временем так, чтоб понимать его, следить за ним, забегать и не потерять ни своего, ни того, что видоизменяет его. После легко обсуживать ошибки, – события прошедшие, – как труп рассеченный ясно показывает, где причина смерти; но когда они живы – одному острому глазу доступно внутреннее строение из-за цвета и пара страстей и односторонности.
13. Нет скорбнее и грустнее чувства, как несчастно верный взгляд на вещи, снимающий с них наружный покров, удовлетворяющий других в том случае, когда не токмо нет возможности действовать на вещи, но даже нет средства показать другим, что они заблуждаются. Это особное положение, неверие в то, чему верят другие, неразрывная с ними горькая ирония и досада давят душу, живую и раскрытую. Взгляд этот от общего переходит к лицам, и тут еще хуже, он безжалостно вскрывает их, указывает неподложные точки помешательства их, к которым они приросли, – и становится больно за современного человека. Как мало целых, трезвых натур! Иной и трезвее других разумом, эстетическим чувством, да характеру ни на грош. Не признак ли это несовершеннолетия?
Читал «Von der ästhetischen Erziehung der Menschheit» Шиллера. Великое и пророческое творение, оно, как Лессингово воспитание человечества, предупредило многим свое время. Шиллеру не отдавали в последнее время достодолжного; письма эти писаны в 1795 или около – тогда едва начинал писать Шеллинг. Шиллер пошел с точки зрения Канта, а какие сочные, жизненно прекрасные плоды, – он далеко перешел взгляд критической школы. Тут, как в некоторых страницах Гёте, первые аккорды, поэтические и звучные, новой науки (Фихте он изучал, ссылается на него).
16. Schlosser, «Geschichte des XVIII Jahrhunderts». Великий XVIII век начался с такой же крайности, как окончился, но вовсе в противуположном смысле. Самодержавие, достигнувши полного развития, взяло на себя показать немыслящим массам всю нечеловечность свою, оно обезумело и в каком-то буйном опьянении, по горло в крови, развратное и наглое, показало, чего можно ждать от нелепого переноса всех прав на одно лицо, которому нет преград. Оно разорило народы, не умея защитить их, оно поглотило несметные богатства, не сделав улучшений; оно пировало, плахой и цепями останавливая голодный крик страждущей толпы. Толпа заслуживала такого воспитания. Что может лучше характеризовать этот период, как война за испанское престолонаследие и потом за австрийское? Около десяти лет Европа облита кровью, государства разорены, города уничтожены, армии погублены – из чего, где интересы бойцов? Из того, чтоб втеснить народу полубезумного меланхолика, чуждого по нравам и по происхождению, в короли, нисколько не заботясь, хочет ли его или нет народ. Чтоб увенчать тупость подобной войны, судьба сшутила, призвав его соперника – лицо, столь же ничтожное, – смертью брата на другой трон. С какою наглостью делят и переделивают кровавые куски испанской монархии, какое право, какой смысл? Идея законности наследия одна выдвигается вперед, это неблагородный бой у гроба о достоянии покойника, миллионы людей доставляют это достояние, а с ними обращаются, как с стадами. Вот к чему пришел христианский мир, вечно стремившийся к недосягаемому идеалу, невозможному и мечтательному. А массы – массы смотрели, оцепенелые от ужаса, и не могли в себе победить застарелую болезнь ума, привязывавшую их к династиям. Жалкая Германия выпила всю горечь позора в бедствий, ее династы валялись в грязи, нанимаясь к Людвигу XIV или императору; опозоренные, они утопали в разврате и пили по капле кровь глупых народов, не умевших даже негодовать. Династы занимались церемониалами и дипломатией, никогда не подумавши о том, что делается у них под ногами. Может, этот remue-ménage[303]303
суматоха (франц.). – Ред.
[Закрыть] пригодился для будущего, растолкал народы, занес зародыши человеческих идей в косные классы – живой организм европейский все претворил и переработал, – но из этого нельзя ни йотой уменьшить печать позора абсолютической эпохе. И не умели видеть народы возле стоявшую Англию, возле стоявшую Голландию – слепота несовершеннолетия, детского взгляда только излечивается временем. Северная война не лучше. Собственно цель, интерес был у Петра I, и Петр I тут, как Фридрих II после, не принадлежит к стае самодержцев начала XVIII века. Во-первых, они революционеры, во-вторых, гениальные люди; они шли своей дорогой, во многом впадали в ошибки, но имели интересы великие, – результаты, до которых достигли, гигантские. Петр, с наружностью и с духом полуварвара, но гениальный и незыблемый в великом намерении приобщить к человеческому развитию < 1 нрзб.> страну свою, очень странен в дикой грубости своей, возле изнеженных и утонченных Августов et Cnie. Человек, отрекшийся от всего былого страны своей, покрасневший за нее и кровью водворявший новый порядок, имеет в себе что-то революционное, хотя и на троне, и в самом деле в нем даже нет требований на феодальное поклонение, на церемонность и пр., общую всем в то время. Он схватил европеизм в Голландии – лучший источник того времени, он принадлежал новой Европе, внедрял ее, как варвар, но правительство втолкнул в колею, вовсе не похожую на европейских династов, хуже и лучше, наверное, не так же. Материальный, положительный гнет, не опирающийся на прошедшем, революционный и тиранический, опережающий страну – для того, чтоб не давать ей развиваться вольно, а из-под кнута, европеизм в наружности и совершенное отсутствие человечности внутри – таков характер современный, идущий от Петра. Тем не менее лицо его велико в этом веке, и мысль его велика, она еще не совсем исполнилась, но, вероятно, будет и ей осуществление. Петр, как только почувствовал силу, замешался в большую часть европейских интриг, принял участие, подал голос, посылал войска, справедливо и нет, но Европа приучилась к имени России, и Россия была втолкнута в семью европейских народов. Россия и Пруссия – два свежие элемента для развития, Пруссия – королевство послереформационное, ей в основе не феодальная мысль, но нельзя не согласиться, что в ее начальном развитии ужасная прозаичность и ее гений – прозаик Фридрих II. Странно видеть, как капральской палкой и мещанским понятием об экономии в Пруссии, кнутом и топором в России вселяется гуманизм. Дурные средства непременно должны были отразиться в результатах. Пруссия бездушна и zu nüchtern[304]304
слишком трезва (нем.). – Ред.
[Закрыть]. Германия вообще, потративши всю силу на бой за религию, на Тридцатилетнюю войну, ниже всей Европы в развитии гуманном. Как согласить такую почву с литературой, вскоре имевшей Лессинга, Гёте и Шиллера?
21. Посещение Фил., – оно мне было дорого сверх личных отношений, потому что показывает жажду людей сообщаться, обновляться, передавать свое; сто верст скверной дороги и три дня – жертва, которую даром не делают, особенно люди, делающие это не от пустоты и скуки. Такие вещи иногда если не мирят, то укрощают мою нелюбовь к нашему обществу. Письмо от Огарева из Bagni di Lucca – и хорошо. Главное, в нем не видать горизонта. Ничего не может быть страшнее, когда в человеке виден горизонт, – с ним нет полной свободы, нет той бесконечности симпатии.
23. В начале XVIII столетия твердо и мощно стоит мир христиано-самодержавный, феодально-монархический. Внизу бессознательная толпа за все страдает и плотит, вверху власть par la grâce de Dieu[305]305
божьей милостью (франц.). – Ред.
[Закрыть], поддерживаемая дворянством и войском. Он не боится, да и где его состоятельные враги, неужели несколько литераторов? А между тем червь гробовой уже точит этот мир; страшное дуновение Англии, два раза освобожденной и, наконец, вышедшей лучшими умами из религиозной односторонности, веяло скептицизмом и рассудочным движением на Францию и вызывало людей, далеко ушедших вперед с легкой руки английской пропаганды – Монтескье, Вольтера etc., etc. Как слаб был этот твердый существующий порядок! Его сила и мощь были призрачны; так сгнивший пень стоит, будто силен и здоров, сгнивши и превратившись в землю внутри. Замечательно, что антихристианская пропаганда развивалась вместе с рядом либеральных идей в Англии и Франции в аристократии, которой сила только и зависела от того же феодально-религиозного воззрения, которое подрывалось. И возможно ли было мечтать, что после этих ударов христианство и феодализм еще живы? Толпы тогда были изъяты движения, но Руссо дал иное направление развитию.
27. Судьбы Германии жалки и пошлы в XVIII веке. Ее аристократы – всё-таки мещане, cela n’est pas du comme il faut[306]306
они не принадлежат к порядочному обществу (франц.). – Ред.
[Закрыть], нет грации, нет благородства. И отвратительные кретины, царствовавшие, не занимаясь, разоряя, уничтожая в глупой роскоши свои народы, заставляют дивиться, откуда взялись целые поколения дураков и мерзавцев на троне и около, и еще более дивиться этой кошачьей живучести немцев, которых разоряют, разоряют – и войной, и войсками, и налогами, и фальшивыми деньгами, и таксами, и всем на свете, – а они всё с голоду не мрут. Вот великие результаты картофельной экономии. Безнравственность в Германии доходила до высшего предела, ни малейшей тени человеческого достоинства. Крепости набиты арестантами, гонения за религию, гонения за стихи, гонения за дерзкое слово об министре – все это тихо, без шума, и народ ничего. Были и в других землях ужасы в половине XVIII века, например, английский парламент страшно наказал шотландское восстание, но там это абнормальность, а тут все это в порядке вещей. Ученые и духовенство – первые клевреты власти. Французы, сгнетенные деспотизмом Люд<вига> XV, гнушались немецкой подлостью. Во Франции чувствуется веяние нового духа в каждом литературном произведении, там читаешь, улыбаясь, видя, как эти люди пляшут на шаг от пропасти, по другую сторону которой Франция обновляется. В Германии нет ни одного луча света, там один либерал – Фридрих II, самодержец Пруссии. И как подумаешь, что едва 75 лет прошло, как Европа спала в унижении, едва пробуждаемая благовестом водворителей нового мира, и взглянешь на современное ее состояние, далекое от достижения, но тем не менее развитое потребностию, – невольно благоговейный трепет уважения к человечеству обнимает душу. Велика французская революция. Она первая возвестила миру, удивленным народам и царям, что мир новый родился – и старому нет места.