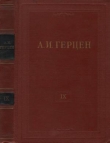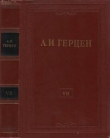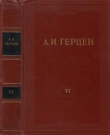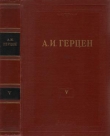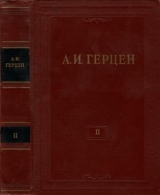
Текст книги "Том 2. Статьи и фельетоны 1841–1846. Дневник"
Автор книги: Александр Герцен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 37 страниц)
19. Четыре года тому назад, 19 марта, уехал Огарев из Владимира, после первого свиданья. Как все тогда было светло! Не прошло года после свадьбы; тихая, спокойная, прекрасная идиллия владимирской жизни. Недоставало только друга – и он явился, радостный и упоенный своим счастием. Все улыбалось. Ни одного диссонанса не было видно. Мы были чрезвычайно счастливы, юно счастливы. Любовь, дружба, преданность всеобщим интересам, сознание блаженства – это был блестящий эпилог юности, точка поворота, к которой все собралось в праздничной одежде. Давши эту награду за прошлое, этот залог будущему, судьба повлекла нас быстро по железной дороге. Сколько переменилось в эти четыре года, сколько испытаний! Главное цело, все цело: и дружба, и любовь, и преданность общим интересам, – но освещение не то, алый свет юности заменился северным, ясным, но холодным солнцем реального пониманья. Чище, совершеннолетнее пониманье, но нет нимба, окружавшего все для нас. Период романтизма исчез, тяжелые удары и годы убили его. Мы, не останавливаясь, шли вперед, многого достигли, но юные формы приняли мускулезный и похудевший вид путника усталого, сожженного солнцем, искусившегося всеми тягостями пути, знающего теперь все препятствия и пр. Первый удар был страшен, потому что разом потряс самые нежные струны. Это ссора с Марией Львовной – а четыре года тому назад мы расстались, как брат с сестрою. Ее раздор с мужем, его слабость – и целая история, отвратительная и мучительная. А потом вторая ссылка… и многое. Мне кажется, наступает теперь новая эпоха – успокоения совершеннолетнего и деятельности более развитой. А впрочем, поживем – увидим. Теперь одна цель, одно желание – поправить здоровье Natalie и ехать, ехать на юг, в степь, если нельзя в Италию.
23. Тихое счастие домашнее снова начинает кротко согревать мое беспокойное существование. Здоровье Нат<аши> получше, дух ее распространил опять свои крылья во всем спокойном, благородном характере. Бурные дни эти доказали мне всю великую необходимость для меня в ней. Все святейшие корни бытия сплетены с нею неразрывно. Лишь бы как-нибудь устроить ее здоровье. Что за прекрасная, сильная личность Ивана Киреевского! Сколько погибло в нем, и притом развитого! Он сломался так, как может сломаться дуб. Жаль его, ужасно жаль. Он чахнет, борьба в нем продолжается глухо и подрывает его. Он один искупает всю партию славянофилов.
25 марта.
Год, как начат этот журнал, тридцать один год мне. Этот год был с излишеством богат опытом, толчками по плюсу и по минусу, – в новый вступили весело в кругу друзей и знакомых.
27. Не могу не заметить остроту уморительную. На днях за ужином я сказал, что наш девиз – taceamus[267]267
будем молчать (лат.). – Ред.
[Закрыть]. Хомяков прибавил: taceamus igitur[268]268
итак, помолчим (лат.). – Ред.
[Закрыть]. А А. И. Тургенев тотчас спел: Taceamus igitur, Russi dum sumus, post Mongolam servitutem, post Polonam (не упомню) – nos habebit humus!..[269]269
Итак, помолчим, пока мы еще русские, после монгольского рабcтва, после польского… нас примет земля! (лат.). – Ред.
[Закрыть] Да, помолчим!
В Германии яростные гонения на свободу книгопечатания. Прусский король является без маски, баварский выдерживает роль, которую играл всю жизнь, – претенциозной тупости. Когда он издал свою глупую книжонку, написанную исковерканным языком: «Walhalla’s Genossen»[270]270
«Товарищи по Валгалле» (нем.). – Ред.
[Закрыть], которую в Лейпциге назвали Walfischhalle’s Gunsten, в одном из лейпцигских журналов было сказано от имени Людвига Баварца: «Mein Bruder in der Wart der ist redselig, ich aber bin schreibselig»[271]271
«Мой брат любит поговорить, а я люблю пописывать» (нем.). – Ред.
[Закрыть]. Хороши эти литераторы и говоруны!
30. Едва прошло несколько спокойных дней – Саша занемог, и очень круто. Неужели вся жизнь должна быть пыткой и мученьем, сменяемым для отдыха только и для того, чтоб не уничтожился человек, – покоем? Грустно, тяжело и томно тем, что ничего не можешь делать, как быть зрителем. Человек по песчинке, несчетным трудом, потом и кровью копит, а случай хватит и одним глупым ударом разрушает выстраданное. Едва теперь удалось несколько поправить расстроенное здоровье Наташи, спокойствие, внимание, гармония кругом едва начали возвращать силы. Вот новый толчок. И кто его знает, каков он будет, – и весна, кровью полна голова, и гадко.
Апрель месяц.
5. Длинный разговор о философии с Ив. Киреевским. Глубокая, сильная, энергическая до фанатизма личность. Наука, по его мнению, – чистый формализм, самое мышление – способность формальная, оттого огромная сторона истины, ее субстанциальность, является в науке только формально и, след., абстрактно, не истинно или бедно истинно. Философия не может решить свою задачу, не достигнет примирения и истины, потому что ее путь недостаточен etc… etc. Слово есть также формальное выражение, не исчерпывающее то, что хочешь сказать, а передающее односторонно. Конечно, наука par droit de naissanse[272]272
Здесь: по своей природе (франц.). – Ред.
[Закрыть] абстрактна и, пожалуй, формальна; но в полном развитии своем ее формализм – диалектическое развитие, составляющее органическое тело истины, ее форму – но такую, в которую утянуто само содержание. Содержание животного – не члены его, взятые как члены, но и не вне членов, оно само ставит органы и расчленяется. Конечно, та же наука имеет результатом негацию и переходит себя, ибо философия каждой эпохи есть фактический, исторический мир той эпохи, схваченный в мышлении. Переходя себя, она переходит необходимо в новый положительный мир, уничтожив все незыблемо твердое старого. А Киреевский хочет спасения старого во имя несостоятельности науки. Так легко критика не засыпает.
A propos. В 1 № «Revue des Deux Mondes» статья какого-то Lèbre о Гегеле и Шеллинге. Очень умно и проницательно написана. Честь французу. Все ловко и живо схвачено, многое понято верно и горячо. Жаль, что сжатые рамки не позволили ему высказаться. Он говорит о реакции Шеллинга как о неудачной попытке положительной философии, вне логики (и между тем на разуме) опертой и пр. Все то, что я заметил из нескольких лекций, прочтенных мною. Поэтически возвышенное стремление, разбивающееся об форму несвойственную, мистические обеты, видения. Но в гостях хорошо, а дома лучше. Греч подавал донос на «Отечественные записки», и III отделение собственной канцелярии, отвергнув его с презрением, написало ему полный ответ. Литератор, уничтоженный, замятый в грязь Дубельтом – во имя гуманности!
10. Невольно вспоминается, что было в эти дни 8 лет тому назад. Меня отправили в Пермь, – день был такой же солнечный, но теплее. Как юн я тогда был, девятимесячная тюрьма только прибавила экзальтации. 9 апреля я простился и виделся с Наташей; тут впервые мысль любви к ней, благоговения, einer Huldigung[273]273
поклонения (нем.). – Ред.
[Закрыть] явились в голове – и я был весь под влиянием свиданья. Выезд был странно тяжел. В Перове я часа два ждал Кетчера, он не приехал – и я с растерзанным сердцем поскакал. Поскакал в жизнь. Да, лишь с этого дня считается практическая жизнь – и, господи, сколько прожито и нажито в эти 8 лет! Будто бы в пристани, – но это не так, это станция, une halte[274]274
остановка (франц.). – Ред.
[Закрыть], вчера так тихо, мирно сидели мы вечер у Грановского, мы, они, Кетчер и Боткин, – какая благородная кучка людей, какой любовью перевязанная! В настоящем много прекрасного; ловить, ловить, все ловить и всем упиваться: дружбой, вином, любовью, искусством. Это значит жить. Вперед смотреть отрадно и страшно, тучи, волканические гибели – и хорошая погода после туч, да, может, солнце этих ведренных дней посветит на могилы наши. А это скверно. Нет столько самоотвержения, чтоб отказаться от участия в награде, когда не отказываешься ни от какого труда. И частно то грядущее, и отрадно, и страшно. Болезнь Наташи не уменьшается.
И что за странное устройство людское! Нам хорошо теперь, окруженные удивительной симпатией, благороднейшими лицами, с которыми давно не видались, которых видеть люблю. А между тем мне бы хотелось в даль, в глушь, где бы было тепло, где бы было море и где бы мы остались только вдвоем. Сегодня я читал какую-то статью о «Мертвых душах» в «Отечественных записках», там приложены отрывки. Между прочим, русский пейзаж (зимняя и летняя дорога), перечитывание этих строк задушило меня какой-то безвыходной грустью, эта степь – Русь так живо представилась мне, современный вопрос так болезненно повторялся, что я готов был рыдать. Долог сон, тяжел. За что мы рано проснулись – спать бы себе, как всё около. – Довольно!
13. Боже мой, какими глубокими мучениями учит жизнь, лета и события, только они могут совершить становление в жизнь, ни талант, ни гений! В мышлении все мое. Тут что-то ускользнуло, растет независимо и вырастает в чудовище. Мне так тяжело было вчера и сегодня. Я становлюсь в жизни скептиком и себя презираю за этот скептицизм. Где сила любви? Я мог, любя, нанести оскорбление, пасть мелко, гнусно. Она, еще более любя, не может стереть этого падения с меня, не может принести мне на жертву мучительного Grübelei оскорблений; что ж может человек для человека? Сделать жертву в том случае, когда ему приятнее жертвовать, нежели не жертвовать. Страшно, лучшие, святейшие отношения, индивидуализируясь и углубляясь в одном личном, грозят страшными ударами. Что замешало в мою жизнь этот звук, страшно раздирающий душу? А бывают минуты, в которые жизнь просто становится противна и отвратительна.
15. Письмо от Огарева, письмо от Белинского и длинный разговор с Кетчером и Наташей. Странная вещь, до какой степени каждый человек – он сам и ни в каком случае не может выйти из себя или подняться в такую сферу, в которой бы в самом деле поглощались его личные особенности, Eigentümlichkeiten[275]275
своеобразные черты (нем.). – Ред.
[Закрыть] характера и пр. Как опыт и навык к верному взгляду беспрестанно открывает в жизни, в людях новое и как по большей части тягостно трезвое воззрение, – нимба нет, которым все окружалось. Мы удивляемся великим самопожертвованиям потому, что меряем все на свой аршин. Все дело в том, что чем человек жертвует, то не есть его существенный интерес, или наслаждение самопожертвования превышает его. Всякое «я» тянет к себе, даже в любви и дружбе. Эгоизм сосредоточенный есть только болезненное, исключительное, сумасшедшее проявление ячности, которая имеет сильный, резкий голос во всех начинаниях людских. Сознание – не вовсе признанная власть над личным влечением. Огарев понимает, что он свое положение делает безвыходным именно по нерешительности, и не делает однако ни шагу потому, что самая тягость его положения для него легче, нежели решиться на что-нибудь… И все-таки как прекрасны люди, как Огарев, в другом роде – как Белинский! Какой любовью и каким приветом мы окружены!
Граф Строганов писал еще к гр. Бенкендорфу и просил доложить государю о моем путешествии… О боже, неужели так близко совершение мечты, упования самого заповедного, – мне страшно вздумать, что в июле, быть может, проведу месяц о Огаревым на Lago Maggiore[276]276
озере Маджоре (итал.). – Ред.
[Закрыть], я поюнею, это одно из последних требований чисто личных.
18. Как бы не так! Письмо от Строганова, которым извещает об отказе. Какое постоянное, упорное, злое гонение! И за что? Какие тут причины? Фридрих II говорил, что он с одним Салтыковым не мог воевать и что тот его всегда приводил в замешательство своими движениями, потому что они были лишены всякой причины и всякого смысла. Не всему можно искать причин! Еще мечта, одна из предпоследних, убита. Тяжела шапка рабства, состояние бесправия душит, и никакого конца не предвидится. И ее положение не изменяется, все то же болезненное настроение, та же грусть. Один я как-то безобразно здоров физически, а внутри иногда бывает хорошо, а часто ночь ночью – как-то холодно в груди, давящая тоска, убийственная, разлагающая мозг не костей, а духа.
Друзья, друзья, они много делают, мы ими окружены, как прелестным венком, – но мне надобно быть без всякой задней мысли, чтоб отдаваться им, а когда сквозь их и свой смех я вижу слезы ее, я кажусь беглецом с поля битвы, и радость меркнет. Путешествие, Италия излечили бы ее и меня; какое страшное насилие, через поколение никто не поверит, что люди могли, не повесившись с отчаяния, жить под таким гнетом. Гибель, потуханье где-нибудь в холодных, снеговых полянах, без участья, без отзыва – хороша будущность! Одно осталось – заниматься. Итак, опять за книги – и затаить все живое в душе, и обмануть себя схоластикой. – Abomination![277]277
Мерзость! (франц.). – Ред.
[Закрыть]
21. Спорили, спорили и, как всегда, кончили ничем, холодными речами и остротами. Наше состояние безвыходно, потому что ложно, потому что историческая логика указывает, что мы вне народных потребностей и наше дело – отчаянное страдание. Страдание бессимпатичное, не оценяемое и, конечно, полезное для будущего, но нам не дающее никакого личного вознаграждения; жить отвлеченной идеей самопожертвования неестественно, даже религиозные фанатики имели награду личную в уповании. Стоицизм есть тоже отчаянное положение.
22. Ужасно проведенный вечер и ночь. Ее грусть принимает вид безвыходного отчаяния. Бывало, за слезами следовали светлые слова. Я не знаю, что мне делать. Ни моя любовь, ни молитва к ней – ничего не помогает. Я гибну, нравственно униженный, флетрированный[278]278
запятнанный, от flétrir (франц.). – Ред.
[Закрыть]. Каплю елея на раны, каплю воды на алканье… изнемогаю. Я шутя, бессознательно, буйствуя, развязал руки низкой натуре своей, разбил здание всей жизни, я не умел сохранить, потому что слишком много дано было. Теперь нет помощи, что укажет время – не знаю; я надеялся, я предвидел, что все это пройдет, что ужасное положение пройдет, как катастрофа, но светлое то прошло. Она бывает жестка, беспощадна со мной, – много надобно было, чтоб довести до этого ангельскую доброту. Она не слушает более слов моей любви, а все же, подчас мне кажется, я не заслужил этого; я так много люблю, так искренно раскаиваюсь. Жизнь ужасно тяжела – подчас мне (и это первый раз, как себя запомню) кажется, хорошо умереть, «глупую сказку, как говорит Макбет, рассказанную дураком», закрыть – и да здравстует небытие! Страшно, земля под ногами колеблется. Нет точки, на которую опереться. А мои мечты… мечты! Иногда хотелось бы броситься на грудь кого-нибудь близкого, и говорить, и стонать, а иногда так пошлы кажутся все эти друзья; не нужно их, все они ничего не понимают.
У меня не осталось ничего святого, одна она – она и бог, бессмертье, и искупленье, и перед ней я святотатец. Она хочет не может отпустить мне. Ночь, ночь!!
28. Она сказала на концерте Листа новость. Господи, что будет, то будет. Может, это выход, представляемый судьбою. Все взволновалось во мне, и какое-то чувство радостное переплелось с тысячью других чувств. О, если б любовь могла творить чудеса, я совершил бы их. Надежда и страх.
Май месяц.
1. На прошлой неделе слушал несколько раз Листа. Когда столько и столько накричат, ждешь бог весть чего, и часто обманываешься – именно потому, что ожидания сверхъестественны, неисполнимы. Однако истинные таланты не теряют ничего от крика фамы[279]279
славы, от fama (лат.). – Ред.
[Закрыть]. Такова Тальони, на которую я смотрел иногда сквозь слезы, таков и Лист, которого слушая, иногда навертывается слеза. Поразительный талант!
Вчера дикий концерт цыган. Для Листа это было ново, и он увлекся. Музыка цыган, их пение не есть просто пение, а драма, в которой солист увлекает хор – безгранично и буйно. Понять легко, почему на вакханалиях цыгане делают такой эффект.
6. Я беспрестанно строю, строю вновь храм домашнего счастия, и он мне кажется опять незыблемым – а через день все рушится, как прах. Какая страшная казнь мне! Все, что я делаю для того, чтоб исправить, оказывается недостаточным, я святотатственными руками коснулся дерзко и грубо до святых отношений, я мог забыть их, я оправдывал себя – и обрушил страшные несчастия на голову свою. Хотя бы… да в том-то и дело, что не мне выбор. Я, привязанный внутренне к позорному столбу, должен страдать; я играл всеми благами жизни – проиграл, это естественно. Но я понимаю, что это не так, что во мне таилась всегда основа святая и чистая. Да зачем же она не удержала меня? О, если после всех этих мучений должно усугубиться мое несчастие, если… страшно сказать… что тогда будет? Есть выход. Да уж веры нет в свою силу. Я нравственно запятнан. Тяжело, бесконечно тяжело, и тем тяжелее, что я, как ребенок, хватаюсь за каждую тень надежды и, по прежней светлости характера – открываю душу радостным упованиям, а время обличает неосновательность их.
Прием Листа у Павлова выразил как-то всю юность нашего общества и весь характер его. Литераторы и шпионы, все выказывающее себя. Мне было грустно. А Лист мил и умен.
9. Пять лет после моей свадьбы. Этот пятый год был тяжел, он раздавил последние цветы юности, последние упования – и был прав: налегать, играть своим счастием – значит оправдать бедствия, накликать их. Одно осталось цело, свято, как было: это она, она, изнуренная, склонившаяся под бременем жизни, – под бременем, которое я не умел сделать легче. Я вгляделся в себя и в жизнь. У меня характер ничтожный, легкомысленный, – людям нравится во мне широкий взгляд, человеческие симпатии, теплая дружба, доброта, и они не видят, что fond[280]280
основа (франц.). – Ред.
[Закрыть] всему – слабый характер, не в том смысле, как у Огарева, – инертивно слабый, а суетливо слабый, и, как такой, склонный к прекрасным порывам и гнуснейшим поступкам. После гнусного поступка я понимаю всю отвратительность его, то есть слишком поздно, а твердой хранительной силы нет. И эти падения повергают меня в скептицизм страшный, убийственный, повязка падает за повязкой, мечта за мечтой, и простота результатов, до которых доходишь этим путем, страшна, хуже всякого отчаяния именно по наглой наготе своей. Вчера говорил об этом с ближайшими людьми, но и они не хотят понять, один ум становится ими во что-нибудь и благородная поступь, так сказать. Мне больно принимать их любовь, зная, что они ее дурно поместили. Да, да, последние листы облетели – будет ли весна и новый лист, могучий по возрасту, кто скажет? И призвание общее и частное призвание – все оказалось мечтою, и страшные, раздирающие сомнения царят в душе – слезы о веке, слезы о стране, и о друзьях, и обней. Чаша эта горька! А пять-то лет тому назад – как все было светло и ясно; это был предел, далее которого индивидуальное счастие не идет. Шаг далее – шаг вон. Шаг вон значило для нее шаг к могиле. Страшная логика у жизни. Иногда, кажется, для того лишить себя жизни, чтоб испортить развитие этих королларий[281]281
последствий, от corollaire (франц.). – Ред.
[Закрыть], чтоб сделать насмешку.
На днях читал я Киреевскому и Хомякову чертвертую статью – большой эффект и рукоплескания. Третья статья напечатана в «Отечественных записках» и тоже производит говор, – но прежде я более бы вкусил эти рукоплескания, упился бы ими от души, теперь для меня существует одно упоение – via humida[282]282
мокрый путь (лат.). – Ред.
[Закрыть], т. е. вином.
13. Барон Якстгаузен и Козегартен – путешественники из Пруссии, занимающиеся исследованиями славянских племен и в особенности бытом и состоянием крестьян в Европе. Я имел случай говорить с Якстгаузеном; меня удивил ясный взгляд на быт наших мужиков, на помещичью власть, земскую полицию и управление вообще. Он находит важным элементом, сохранившимся из глубокой древности, общинность, его-то надобно развивать, сообразно требованиям времени etc.; индивидуальное освобождение с землею и без земли он не считает полезным, оно противупоставляет единичную, слабую семью всем страшным притеснениям земской полиции, das Beamtenwesen ist gräßlich in Rußland[283]283
чиновничество ужасно в России (нем.). – Ред.
[Закрыть]. «Зачем у вас судейская власть не поставлена самобытно относительно других властей? Зачем дворяне не умеют пользоваться выборами и избирать на уездные места порядочных людей?» – Мало ли зачем! Затем, что правительство не вынесет никакой самобытной власти, затем, что исправник трактуется как лакей, затем, что в уездных городах жить нельзя – нет ни лекарей, ни средств воспитать детей, ни общества, ни удобств жизни! Он хотел, чтоб ему сказали нормальное отношение помещичьих крестьян к господину, например, в Московской губ., алгебраическую формулу, так сказать. Но это вздор: если б отношение общины сельской к помещику изменялось с ее величиною, с количеством земель или иных условий жизни, тогда можно бы понять какую-нибудь норму. Это не так. Состояние общины NN зависит от того, что помещик ее богат или беден, служит или не служит, живет в Петербурге или в деревне, управляет сам или приказчиком. Вот это-то и есть жалкая и беспорядочная случайность, подавляющая собою развитие. Между прочим, говоря о дворовых людях и мастеровых, барон Якстгаузен заметил: «Il y a des principes d’un saint-simonisme renversé (à chacun selon ses talents»[284]284
«Вот принципы сен-симонизма наизнанку (каждому по его талантам)» (франц.). – Ред.
[Закрыть], т. е. что чем талантливее, тем больше дуют с него оброка. Демократическая нивелировка.
15. Скоро будет Белинский, жду, очень жду его, я мало имел близких отношений по внешности с ним, но мы много понимаем друг друга. И я люблю его резкую односторонность, всегда полную энергии и бесстрашную. Потом, он по-своему симпатичен. Мне надобны эти обновления, как свежие примочки воспаленному месту; я как-то быстро изнашиваю жизнь. Он пишет о моем счастии, а я ему хочу высказать, как я не умел понять его, как я забылся, зазнался. Он меня осудит, – и мне останется, покраснея и затаив слезу, слушать. То же будет, когда явится Огарев! Одно, одно, лишь бы новые силы помогли ей; мне страшно жить так: я стою со всем благом моей жизни, с моим руном на весеннем льде, и эти минуты внутреннего трепета – их ничем ничто не вознаградит. Страшный скептицизм остается результатом всего этого, и ни занятия, ничто не мощно победить боли.
26. Одиннадцать дней не дотрогивался до журнала, ну что же в них – ничего, жадное стремление к какой-то полной жизни и скептицизм, всё мутящий. Всякий день уносит что-нибудь. Я быстро отцвел и отживаю теперь свою осень, за которой не будет весны. Шиллер бесконечно прав, говоря, что Irrtum – Leben[285]285
заблуждение – это жизнь (нем.). – Ред.
[Закрыть]; Медузины взгляды скептицизма убили черты, оживленные мечтами, и пр. Я смотрю около – всё дети, умные, полные благородства, высоких симпатий и веры, детской веры, всё они могут делать, потому что они игру принимают за дело. Дитя потому con amore[286]286
с увлечением (итал.). – Ред.
[Закрыть] дергает шнурок, что он твердо убежден в лошади на конце шнурка. На днях говорили о бессмертии. Я не верилв бессмертие, но желал его, этот раз я с ужасом заметил, что мне все равно и что мысль уничтожения даже сладка в иную минуту; выдохнуться под прекрасным небом, среди людей свободных, пышных растений, благословляя детей, друзей, лишь бы не увидать упрека на чьем-либо лице.
Зачем женщина вообще не отдается столько живым общим интересам, а ведет жизнь исключительно личную? Зачем они терзаются личным и счастливы личным? Социализм какую перемену внесет в этом отношении.
29. Я забывался, падал и очистился, как христианин, кровью невинного. Но эта кровь вопиет, я изнемогаю, теряю все силы. Ее слова, ее уничтоженье, горесть. Нет, я не так пал, не падшему пощада, – если б у меня был характер, я зарезался бы. Кроме эгоизма, есть натяжки у людей, гипостазия эгоизма, он начало и конец всего, плюс гордость и желание наслаждений. Жить иную минуту легко, а всегда – тяжело, бесконечно тяжело. Я ослабел как-то.
31. Сегодня или вчера год, как приехал Огарев в Новгород. Этот год страшно обширен по внутренним событиям, в нем я отстрадался за все благо моей прошлой жизни. Последний безотчетно светлый миг – был миг, в который мы проводили его. Вслед за тем нечистые волнения, тоска душного состояния ссылки, переезд, дурачество – и горестное, раздирающее душу сознание, что я, дурачась, не смотрел на существо, близ меня стоящее, что я поколебал ее веру, отнял основу нравственного быта, убил, разрушил. Когда я опомнился, я бросился на колени, я рыдал, я умолял – но было поздно. Есть страшные развития души, которые не имеют прошедшего, – для них прошедшее вечно живо, они не гнутся, а ломятся, – они падают падением другого и не могут сладить с собою. Вчера вечером наш разговор об этом был кроток, меня посетило опять давно не известное чувство гармонии, и я плакал от радостного чувства. О, если б она знала все, что делается в душе моей, она увидела бы, что никогда я не был достойнее блага ее любви, я стал чище, выше всею глубиной моего падения.
Размышления по поводу «Записки об Останкине». Дружба и любовь должны бежать холодной, юридической справедливости. Любовь с основания пристрастна, лицеприятна, в этом ее характер. Такт, уважение, деликатность на всех степенях сношения людей друг с другом; близость, пренебрегающая этим, близка к шероховатости. Уважение, вера – вот база истинной симпатии.'
Июнь месяц.
4. «Histoire de X ans», L. Blanc. Чрезвычайно замечательное явление по взгляду, по изложению и по ревеляциям[287]287
разоблачениям, от révélation (франц.). – Ред.
[Закрыть]. В революции 30 июля вся Франция и вся первая половина XIX века имеют представителей en bien и en mal[288]288
и в хорошем и в плохом (франц.). – Ред.
[Закрыть]. Франция величественно и торжественно восстает, оскорбленная глупыми ордонансами, противудействие геройское, но которое, умевши победить, не имело выдержки и позволило себя глупо обмануть. Скептический, не дошедший до формулирования своей мысли XIX век не имел ничего готового. Демократия была бессистемная, социализм – едва родившийся. С первых дней революции провидишь, чья победа: робкая, трусливая, корыстолюбивая и переменчивая bourgeoisie[289]289
буржуазия (франц.). – Ред.
[Закрыть] завладеет всем, и в центре ее, окруженный неблагородными лицами и несколькими обманутыми, как Казимир, хитрый Лудвиг-Филипп, человек прозаический, далекий от всякой гениальности, царь во имя посредственности и для нее. Камера – грязное болото, в котором исчезает великий поток революции, – боясь народа более, нежели Бурбонов, спешила сделать короля. А король ее разом обманул мошеннически Карла X, и Камеру, и народ. Отъезжающий старик, окруженный своей семьей, верный этикетам и рыцарски преданный идее, которой уже нет, примиряет с собою, его жаль, он окружен каким-то поэтическим отблеском прошедших веков. Лудвиг-Филипп, принимающий без штанов депутации, представляет какую-то циническую фигуру, поселяющую отвращение.
14. Покровское. Странно идет наша жизнь. Возле каждой минуты блага и счастия какая-то безотходная ирония ставит страшные привидения. Третьего дня мы приехали сюда, и я давно не был в таком светло-радостном расположении; вид полей меня обмыл, мне было хорошо, очень хорошо… тишина кругом, спокойствие, все расположило душу к ряду впечатлений безотчетно гармонических. А сегодня утром в нескольких шагах от дому утонул Матвей. Я любил его, он был для меня более, нежели слуга, я в нем воспитал благородные свойства, и они принялись; он мальчиком вступил в мой дом и с летами приобрел истинно человеческие достоинства. Он развился более, нежели надобно, avec une précocité[290]290
Здесь: с быстротой (франц.). – Ред.
[Закрыть], которая начинала его мучить неравномерностью своей. Он тяготился своим состоянием, часто бывал небрежен, но всегда благороден, он искупал целый класс людей в моих глазах. И вдруг погибнуть так глупо, так бессмысленно случайно, 22 лет – это страшно. Какой скептицизм навевают такие примеры! Вчера он упал было с плотины. Саша со слезами бросился к нему и сказал: «Я тебя люблю, не утони», – это последняя сладкая минута его. Я советовал не купаться за плотиной – он не послушался, сегодня утром пошел и заплатил жизнию за неосторожность. Может, для него смерть благо, жизнь ему сулила страшные удары; с нежной душой, он был все же слуга, у него не было будущего. Но страшно быть свидетелем такого спасения от будущего.
Когда я прибежал на берег, его искали и полчаса не могли найти в глубине, я велел спустить плотину, его поймали неводом и вытащили. Боже, этот цветущий силами, молодой человек, который вчера вечером пребеззаботно говорил со мною, который не думал, конечно, о смерти, теперь посинелый труп с открытыми глазами. Что думал он, как шел вдвоем купаться, они дурачились в реке: что думал он, протянувши руки и не найдя тотчас помощи? Еще раз страшно!
Грустное впечатление этого случая надолго отравит нашу деревенскую жизнь, а она было началась так благотворно. Бедный Матвей! Писал к его матери.
Вчера деревенские мальчики приходили играть к Саше, мне грустно было смотреть на них. С каким радушием наперерыв они старались чем-нибудь потешить Сашу! Низшие классы ужасно оклеветаны. Посмотрите, как добр, как весь предается ласке ‒ простолюдин (разумеется, исключая дворовых), стоит с ним обходиться по-человечески. Грубые приемы наши ставят его en garde[291]291
настороже (франц.). – Ред.
[Закрыть]; самая привычка подозревать, что его хотят обидеть, насторожила их. Но когда он уверится, что к нему подходят с любовью, он встрепенется и рад жизнь положить за всякого. Горе людям, пользующимся властью, чтоб еще более втаптывать в грязь народ, и стыд им за клевету подлую и низкую на них – они клевещут, чтоб оправдаться. А те, бедные, не имеют этой последовательности ненависти к истинно враждебному стану.
16. Вчера хоронили его. Кетчер и я несли гроб. Мир его памяти. Как живое быстро минует, переходит, пораженное смертью! Жизнь, как поток, тотчас находит свое русло и течет.
Уединение сельской жизни, близость с природой и даль от людей чрезвычайно хороши. Человек должен по временам отходить в сторону, чтоб собраться. Внешнее однообразие жизни деревенской дает простор внутренним процессам.
Каждая безделица в этом доме и в окольных местах напоминает мне меня в разные эпохи моей жизни; я нашел надпись, сделанную мною в 1827 году, и другую – в 1838. Какая поэма, роман, какой ряд событий и видоизменений между этими годами! Стремлюсь побывать в Васильевском, там я долее живал, и лучшие воспоминания детства и отрочества связаны с горами, видами этой деревни. Лета развития не прибавляют груз, а, напротив, потребляют массу мечтаний и верований юношеских; становится все легче, плечи многих довлеют нести тяжести, но ничего не нести надобно иметь вдесятеро более сил. Думать, что судьба человека, например, таинственно предопределена, стараться разгадать эту тайну, узнать нечто грозное легче, нежели знать, что никакого секрета нет спрятанного о жизни каждого человека. До большей легкости ноши достиг я рядом бурных испытаний, но мне грустнее. В 1827 я был пятнадцати лет, идеи древнего республиканизма бродили в голове, я верил непреложно, что «взойдет заря пленительного счастья»; тут, в этой комнатке, лежа на этом диване, я читал Плутарха, и свежее, отроческое сердце билось. В 1838 я приезжал из ссылки, через несколько месяцев после свадьбы, мне было двадцать шесть лет, и жизнь раскрыла все прелести и упоения. Теперь, в 1843, измученный многим, с скептицизмом в душе, я ищу у тех же полей участия. А юности уже нет, а верованийнет – только что-то похожее волнует подчас кровь.
18. 2 том L. Blanc, 1831 год. Отличительная черта французского правления после революции 30 года – ограниченность, коварство и старание мошенническими штуками скрыть своекорыстные и жалкие виды. Дома, в Камере, в сношениях с государями и с народами – то же самое. Талейран доказал, наконец, что плутовство не значит гениальность. Король потерял всякое уважение, – Dupont de l’Eure уличил его в лжи. Л<юдвиг> Ф<илипп> взбесился и сказал, что он обнародует его грубость. «Почем знать, – отвечал министр, – кому поверят, вам или Dupont de l’Eure». Король смирился. Обиднее всего тупость тогдашнего управления, Франции выпадала гегемония всей либеральной Европы – а она загрязнилась в дипломатических сделках, выдавала, продавала своих приверженцев. Орлеанская эпоха не смоет этих пятен. Бельгия, Испания, Италия и Польша уличают ее в эгоизме и трусости. В противуположность ей карлисты получают благородный свет. Одно объяснение – неразвитость демократической партии; политические перевороты без социального сделались невозможны. А царство среднего сословия было все же продолжение феодального социализма , которого высшее развитие в Америке, остановившейся на односторонней тенденции. Северная Америка – nec plus ultra[292]292
высшая ступень (лат.). – Ред.
[Закрыть] феодального развития, так, как оно должно было явиться в мире реформационном.