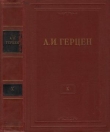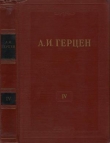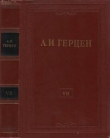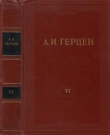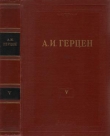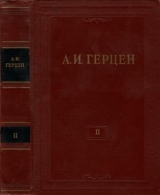
Текст книги "Том 2. Статьи и фельетоны 1841–1846. Дневник"
Автор книги: Александр Герцен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 37 страниц)
Г-н Рулье, вполне понимая, что наукообразно изложить психологию животных при современном состоянии естествоведения невозможно, избрал манеру бюффоновского рассказа; рассказ его об инстинкте и рассудке, о сметливости животных и их нравах был жив, нов и опирался на богатые сведения г. профессора, известного своими важными заслугами по части московской палеонтологии; в его словах, в его постоянной защите животного нам приятно было видеть какое-то восстановление достоинства существ, оскорбляемых гордостью человека даже в теории. В одной из следующих статей мы попросим дозволения сказать наше мнение о теориях и воззрении г. Рулье, теперь ограничимся мы изложением одного желания, приходившего нам в голову несколько раз, когда мы слушали увлекательный рассказ ученого. Целость всего сказанного ускользает; нам кажется, что это происходит от порядка, избранного г. профессором. Если б вместо того, чтоб последовательно переходить от одной психической стороны животной жизни к другой, г. профессор развертывал психическую деятельность животного царства в генетическом порядке, в том порядке, в котором она развивается от низших классов до млекопитающих, было бы больше целости, и сама собою складывалась бы в уме слушателей история психического прогресса в ее прямом соотношении с формою; к тому же это дало бы случай г. профессору познакомить своих слушателей с этими формами, с этими орудиями психической жизни, которые, беспрерывно развиваясь во все стороны, тысячью путями стремятся к одной цели, всегда сохраняя правильную соответственность между степенью развития психической деятельности, органом и средою.
<1845>
Несколько замечаний об историческом развитии чести*
(«Современник» 1848)
Il me serait bien difficile de te faire sentir ce que c’est (le point d’honneur), car nous n’en avons point précisement l’idée. Usbeck à Ibben[112]112
Мне трудно объяснить тебе, что это такое (вопрос чести), потому что у нас нет соответствующего понятия. Узбек – Иббену (франц.). – Ред.
[Закрыть].«Восточные письма» Монтескье
Часто споры бывают поводом к поединку; недавно случилось противоположное: какой-то поединок подал повод к бесконечным спорам. Одни горячо защищали поединки, другие предавали их проклятию. «Дерзкое самоуправство», – говорили одни. «Но кто же лучше меня самого управится в собственном деле?» – отвечали другие. – «Убийство», – говорили одни. – «Война», – отвечали другие. Между этими противоположными воззрениями образовалась благоразумная средина, которая находила, что теоретически оправдать дуэль так же невозможно, как практически избежать ее, основываясь на премудром правиле, что «так должно быть» противоположно с «тем, что есть на самом деле». Разумеется, что все эти споры кончились, как всегда, совершенным затемнением вопроса и ожесточенной упорностью каждого в своих мнениях. Главный порицатель дуэлей до того разгорячился, что чуть не вызвал рыцарственного защитника их.
Возвратившись домой после горячего прения и вспоминая на досуге все слышанное и говоренное, я увидел, что вопрос этот несравненно глубже и сложнее и что его не разрешишь ни панегириком, ни порицаньем.
Новое законодательство всех европейских государств осудило поединки, поставило их почти рядом с убийством, но поединки не искоренились. Несмотря на запрещения Густава-Адольфа, дрались под виселицей; несмотря на меры Ришелье, дрались перед плахой. Судьи твердые и нелицеприятные во всех случаях бывают снисходительны к дуэлистам, общественное мнение за них; человек, защитивший честь свою поединком, уважается. Все мыслящие люди отказывают не только отдельному лицу, но и целому обществу в праве убийства, и большая часть утверждает, что дуэль – неизбежное зло, единое возможное ограждение неприкосновенности лица от оскорбления. Такое противоречие законодательства с общественным мнением, практического приложения с теоретическим понятием прямо ведет к вопросу: «На каком основании держится поединок в образованнейших странах Европы?»
Много было писано о поединках, начиная с Брантома; но их рассматривали так, как наши милые спорщики, с произвольных точек зрения и под влиянием незыблемых предрассудков или готовых понятий. Бранили поединки на основании неприлагаемой, мечтательной морали и, вместо обсуживания дела, высказывали холодные риторические фразы о смиренном прощении; бранили их на основании юридическом, которое требует, чтоб дело обиды было решено не обиженным, а судьей; осуждали их с точки зрения римского права, не отстранив предварительно феодального понятия о личности, твердо стоящей за свои права. Вопрос о том, почему римское понятие о государстве единственно истинно и почему феодальное понятие о личности, о ее наследственных, семейных и политических правах, развитое средними веками, неизменно, не был решаем даже в такое время, которое, повидимому, отрекалось от всего феодального, – во время переворотов. Лучшее доказательство, что человек остался при своем прежнем понятии о себе и о государстве. Современный человек думает, что средние века далеко от него, а они в нем: он тот же рыцарь, но переложенный на другие нравы.
Не имея возможности, по многим причинам, предоставить историческую монографию о поединках, я хотел сколько-нибудь способствовать уяснению вопроса, занимавшего споривших приятелей, и с этой целью написал сжатый исторический очерк развития чести, предоставляя им выводить последствия какие угодно. Я нигде не защищаю дуэли и нигде не браню ее.
Бранить или хвалить какой-нибудь всеобщий исторический факт – дело совершенно праздное, извиняемое только благородным увлечением, в силу которого вырываются речи негодования или восторга. Доверие к роду человеческому требует настолько уважения к вековым явлениям, чтоб, и отрешаясь от них, не порицать их: в порицании много суетности и легкомыслия; дикие с честью хоронят умерших, а не ругаются над трупами. Кто бранится, тот не выше бранимого: бранятся там, где недостает доказательств. И какая цель подобных разглагольствований? Исправление нравов разве? Я думаю, выросшего человека мудрено исправить педагогическими средствами и благородным негодованием, когда он плохо исправляется уголовными средствами и негодованием палача. Достигайте, чтоб он понял истину, – это будет вернее; идти далее, хвалить или порицать показывает неуважение к его смыслу. Сказать, что поединок – зло, нелепость, преступление, легко и справедливо, но недостаточно; неужели же нет причин, почему это зло, эта нелепость сохранилась до сих пор? Если же, вместо порицания и одностороннего суждения, мы разберем и внутреннюю сторону предмета, тогда мы узнаем общие основания, на которых опирался поединок, и легко, может быть, найдем связь его с другими явлениями, их круговую поруку; такой разбор может нас привести в свою очередь – как бы в вознаграждение за то, что мы узнали историческое основание факта, отвергаемого нами, – к раскрытию неразумности фактов, незыблемо признаваемых нами; et c’est autant de pris sur le diable[113]113
и это уже будет какой-то победой над дьяволом (франц.). – Ред.
[Закрыть], как говорят французы. Резкость односторонних суждений на первую минуту ослепляет; в них больше характерного, определенного; но если вглядеться им прямо в глаза, тощесть их тотчас открывается. «Всего резче видят одну сторону, – сказал Аристотель, – те, которые видят мало сторон».
I
У человека, вместе с сознанием, развивается потребность нечто свое спасти из вихря случайностей, поставить неприкосновенным и святым, почтить себя уважением его, поставить его выше жизни своей. Пристально вглядываясь в длинный ряд превращений чтимого, мы увидим, что основа ему не что иное, как чувство собственного достоинства и стремление сохранить нравственную самобытность своей личности, – и то и другое сначала в формах детских, потом отроческих, как во всяком человеческом развитии. Сначала это чувство выражается в семейных отношениях, в фанатической привязанности к роду, племени, обычаю, преданию, к своим богам в противоположность соседским. Потом оно является свято уважаемым общим делом (res publica); государство, город поглощает еще человека, но уже он силен своим гражданским значением. Не удовлетворенный однакож общим делом, человек ищет свое дело, обращается внутрь себя, в груди своей начинает открывать нечто твердое и незыблемое, в себе находит мерило своего достоинства и хладнокровно смотрит на племя, на город, на государство; тогда быстро развивается в нем понятие чести и собственного достоинства. Но это еще не все. Перенося в грудь свою свое чтимое, человек переносит его на истинную почву; но какова эта грудь? Может быть, он понимает себя не таким, каким он действительно есть, – ниже и выше, духовнее и животнее, затерянным в общине или одиноким в себе самом; наконец, может быть, его грудь, в которую он переносит кивот свой, не его грудь; может быть, свободный от прежних уз, он перевязан новыми; а каким он себя понимает, так понимает он и свою честь. «Основа чести может быть нравственна и необходима, может быть случайна и бессмысленна», но всегда и вечно она есть «отражение человеком своей самобытности»[114]114
Hegel, Aesthetik. Т. II.
[Закрыть] сообразно тому, как он ее понимает или, вернее, как ее понимает его эпоха.
Три великие эпохи жизни человечества представляют нам те три разные пониманья человеческого достоинства, до которых мы коснулись. Восток представляет низшую ступень древнего понятия о личности; она почти затеряна в племени, в царстве. Греко-римский мир с своими гражданами – высшее его развитие. Основа человеческого достоинства обоими была понята вне человека. Наконец, средние века обернули вопрос: существенным сделалась личность, несущественным – res publica. Самая эта исключительность указывает на необходимую односторонность последствий. Жизнь общественная – такое же естественное определение человека, как достоинство его личности. Без сомнения, личность – действительная вершина исторического мира: к ней все примыкает, ею все живет; всеобщее без личности – пустое отвлечение; но личность только и имеет полную действительность по той мере, по которой она в обществе. Аристотель превосходно назвал человека «зоон политикон». Истинное понятие о личности равно не может определиться ни в том случае, когда личность будет пожертвована государству, как в Риме, ни когда государство будет пожертвовано личности, как в средние века. Одно разумное, сознательное сочетание личности и государства приведет к истинному понятию о лице вообще, а с тем вместе к истинному понятию о чести. Сочетание это – труднейшая задача, поставленная современным мышлением; перед нею остановились, пораженные несостоятельностью разрешений, самые смелые умы, самые отважные пересоздатели общественного порядка, грустно задумались и почти ничего не сказали. Мы не беремся дотрогиваться до нее, но думаем однако, что она не разрешена механическими опытами сочетать феодальную личность с римским понятием государства; это – одно перемирье, т. е. такое соединение враждебных начал, при котором каждый остается при своей неприязни, но, уступая внешним обстоятельствам, не дерется, а протягивает руку врагу. Конечно, жизнь, несмотря на все учения о политике и о праве, делает свое дело, роется кротом и везде прорывается к свету; в этом нет сомнения, иначе мы не дошли бы не только до решений, но и до положения вопросов, а это дело важное; правильно понятый вопрос – пол-ответа. Однако нельзя не сознаться, что в самой философии права, в самих утопиях разных толков господствуют одни отжившие или отживающие понятия о государстве и о личности. Впрочем, нам не нужно разрешения этой задачи, – цель наша ограниченнее: мы имеем только в предмете указать круговую поруку поединка с пониманьем прав личности, от восточной непосредственности до щепетильного point d’honneur’a[115]115
вопроса чести (франц.). – Ред.
[Закрыть] французского дворянина.
II
Людям надобно было все детское доверие и всю беззаботность животного, всю настойчивость и упорность естественного побуждения, чтобы своими разрастающимися семьями обжить землю. Жизнь семьями обусловила возможность всего человеческого развития. Конечно, семьи не оттого не расходились, что была при этом какая-нибудь мысль; разум еще дремал тогда у человека, и ему достаточно было той низшей степени рассудка, которая совпадает с самим органическим процессом, в силу которой, например, новорожденный ищет пищу ртом в первый день своего рождения. Люди жили семьями, руководствуясь тем же инстинктом, которым руководствуются животные породы, скитающиеся стадами, собирающиеся в рои. Забытый и неизвестный труд дикого человека был тягостен, он облегчался одною грубостью обреченного на этот труд. Веками и веками усилий приладился человек к грозной, беспощадной среде и ее приладил к себе: казалось, стихии ежеминутно могут мощным бесстрастием своим, непреодолимой силой уничтожить бесследно это слабое существо, и, вероятно, не одна тысяча легла, подавленная невнимательной природой, строго исполнявшей законы свои возле них; но это слабое существо имело перед окружавшей его природою большое преимущество – преимущество хитрости, уловок, которыми развитое животное достигает своих целей, а среда не имела ничего враждебного против его работы. Тысячи темных и неизвестных нам поколений удобрили костями своими землю прежде, нежели сознание настолько развилось, что стало помнить свое былое, что это былое сделалось достойно памяти, и тут, через эти тысячелетия, каким мы встречаем человека? Он еще не может прийти в себя, опомниться; он победил, но с робостью в душе, но с сознанием силы природы и своего бессилия; он еще с ужасом смотрел на стихии, подкладывая им злобные мысли, повергался в прах перед их грозной и враждебной мощью и просил пощады; дикая молитва его была воплем страха, в котором еще не звучали титановские ноты Прометея.
Один оплот, один отдых, одна надежда для человека была семья, племя, эта кучка, сросшаяся от единства интересов и единства опасностей, отстоявшая себя против стихий, зверей и врагов, начавшая хранить свое предание и свой обычай. Далекий от сознания своей самобытности, человек поглощался племенем, семьею; все чтимое им было вне его. То были неведомые силы природы, которым он начал придавать человеческие свойства в уродливых размерах, и патриархальные отношения к семье, в которой личность была ничтожна, а род неприкосновенен, свят. На этих-то началах развились колоссальные азиатские монархии. В самом высшем гражданском развитии своем азиатец считал себя несовершеннолетним сыном, рабом; понятие раба его не унижало, скорее его унизило бы название вольного человека: ему бы показалось, что это слово значит бродяга, бездомовник, изгнанный Измаил, не принятый ни в какое племя; и что же он в самом деле один? Но как бы то ни было, признавая себя рабом, несовершеннолетним сыном, онне мог развить в себе понятия о человеческой личности; раб – вещь; истинная личность его в господине, которого он член, орган. Рабу трудно нанести оскорбление: он или не дорос до того, чтоб понять его, или перенес уже безусловное оскорбление утратою всех человеческих прав и примирением с этой утратой. Однако мог ли восточный человек оставаться без всякого понятия о чести? Ни под каким видом. Это так же невозможно для человека, живущего в гражданском обществе, как невозможно бы было себе представить действительное понятие о достоинстве человека у азиатца. На Востоке не могли развиться поединки в нашем смысле; но тем страшнее и злобнее развилась месть, всего чаще не за собственную обиду, а за обиду семьи, обычая; в Японии оскорбленный разрезывает свой живот – новое доказательство, что у них не развито ни тени истинного понятия о бесконечном достоинстве человеческом; японец не находит в себе средства очищения, он не находит того места, которое выше обиды, которое примирится уничтожением оскорбителя: он может смыть обиду только самоубийством. Притом азиатцы мелочно раздражительны, у них казуистика чести развилась не хуже средневекового, но все это – один пустой формализм, что-то условное; так в азиатских царствах дошли до смешного внешние знаки почести, учтивости, т. е. все негодное или по крайней мере пустое, сопровождающее понятие о личном достоинстве, без истинного смысла его[116]116
К подобным явлениям принадлежало наше местничество, основанное на патриархальной породистости, а вовсе не на понятии своего достоинства. Замечательно, что с совершеннейшей потерей всех человеческих понятий о достоинстве и о чести – в восточной империи точно также вырос уродливый, вычурный и смешной формализм почестей, заменивший честь действительную. <Примеч. 1862 г.>
[Закрыть].
Личность азиатских властелинов[117]117
В тексте: царей (проп. ценсурой). <Примеч. 1862 г.>.
[Закрыть] была единая человеческая личность на Востоке, и действительно одни они в Азии понимали честь и вступались за нее. Высоко поставленную личность их было трудно оскорбить; рабами она обидеться не могла: обида существует собственно между личностями, признающими взаимные права; цари могли оскорблять друг друга, и в этих редких случаях царства дрались, опустошались, – вот поединок Востока. Отсутствие сознания личного достоинства, неотрешенность от физических определений, несчастия, неразрывные с детством, погубили Азию. Взгляните на эти чудовищные царства, возникающие с притязанием на покорение вселенной и удивляющие сперва страшной силой, потом страшной слабостью; они сходят с поприща истории, дряхлые в юности, или остаются в жалкой дремоте: без нравственной личности нет движения, прочности, развития. Смутное понятие чести выражалось у азиатца слепой преданностью семье, племени, касте. Помните ли вы, как Ксеркс подвергался опасности на море и кормчий объявил, что корабль грузен? Царедворцы не задумались погибнуть для спасения Ксеркса: медленно выходил каждый из рядов, приближался к царю, склонялся перед ним, потом твердыми шагами шел к борту и кидался в море. Это восточные Термопилы; царедворцы поступили совершенно последовательно. Любимец Дария Истаспа, видя, что он хочет снять осаду Вавилона, обрубил себе уши и нос и в этом жалком виде передался вавилонянам, прося отмщения и говоря, что его изуродовал Дарий. Вавилоняне сделали его военачальником, и он предательски отдал их город Дарию Истаспу. Сколько тут самоотвержения! Это восточный Баярд.
Понятие о личности является сознанным в отношении к государству в мире греко-римском. Личность неразрывна с понятием гражданина, она не свободна еще в отношениик себе: восточное поглощение всех личностей одною повторяется и здесь, но место случайного лица занимает нравственное, мифическое лицо города. Каждый гражданин сознавал в самом себе долю идеальной, царящей личности города или отечества, и эта доля была неприкосновенная, святая святых его души. Патриотизм грека и римлянина был раздражителен и не выносил никакой обиды; в нем заключался древний point d'honneur. Фемистикл, сказавший: «Бей, но дай высказать», тем ярче выражает греческое понятие о чести, что оно в этом случае прямо противоположно средневековому понятию. Но общее, чтимое, святое было понято опять под определением непосредственности и внешности; личность человека и его достоинство поглощались достоинством гражданина, а значение гражданина было основано на случайности месторождения, его права были права монополии; свободы в древнем мире не было; свободен был Рим, Афины, а не люди. «Граждане древнего мира, – сказал, не помню, какой-то историк, – потому считали себя свободными, что все участвовали в правлении, лишавшем ихсвободы». Уважение к себе как к гражданину было недостаточно; оно не помешало ни клиентизму, ни обоготворению цезарей. Римский гражданин, глубоко развращенный невольничеством, привычкой считать, сверх невольников, всех иностранцев полулюдьми, врагами, варварами, не нашел в душе своей никакой нравственной опоры, когда Рим стал падать, да и Рим, с своей стороны, не нашел опоры в своих гражданах. Катон и множество других республиканцев-консерваторов, увидавши, что Рим падет, лишилисебя жизни и поступили совершенно последовательно римскому понятию о чести. Что оставалось в их жизни? Разве она имела значение, независимое от Рима значение не национальное, человеческое? Нет. Правда, Сенека стал поговаривать о неотъемлемом достоинстве человека, присущем ему потому, что он человек, но Сенека родился после смерти республики и в то время, как иной дух начал веять в самом Риме.
Так как истинные личности были в греко-римском мире – города, то и поединки могли быть, в некотором смысле, только между городами или республиками; Афины и Спарта всю жизнь провели в дуэлях. Между частными людьми в Риме поединка не могло быть потому, что дела чести решались цензурой. Государство имело право отнять все нравственное значение гражданина. Если и случалось что-нибудь вроде поединков, то основа их была непременно патриотическая: такова дуэль между Горациями и Куриациями. Греческая философия и римская цивилизация приготовили переход к тем понятиям о личности, которая возвестилась людям евангелием, и если Аристотель был настолько грек, что делил натуру человеческую на свободную и рабскую, то Юлий Цезарь был настолько человек нового мира, что жалел рабов и гладиаторов; очень понятно, почему первый пример гуманности представляет именно тот человек, который нанес смертельный удар республике. Неблагопристойные ругательства Цицерона, в полном заседании Сената, против Антония, которого он обвиняет, между прочим, в том, что он пьяный бегал без всякой одежды по улицам, вызвали ответ одного сенатора, который так же обругал Цицерона и заключил, что если Цицерон носит длинную тогу, то это для прикрытия своих отвратительных ног. Пример этот показывает, что уважение к личности мало было развито в Риме, что всего ярче выразилось в отвратительном отношении патроната и клиентизма.
III
Личность христианина отрешается от древнего гражданского определения. Спаситель зовет мытарей и женщин, отворяет царство божие разбойнику, бесщадно казненному законом гражданским. Слово «невольник», «раб» становится богохульством, нищета – достоинством, национальность теряет смысл в отношении к единственной пастве, к единой церкви: любовь к отечеству уступает первенство любви к ближнему. Личность христианина не только освобождалась от своего гражданского и исключительно национального определения – она стремилась и от всего земного; она совлекла с себя старого Адама, т. е. всю сторону непосредственную, телесную, земную любовь, земное семейство, земные страсти, земную мудрость, земное богатство, даже земное тело. Но братственная община, о которой говорит евангелист Лукав «Деяниях», не знавшая права собственности, имевшая одну душу и одно сердце, распространяясь, встретилась с государством. Ничего не могло быть противуположнее христианским началам, как понятие о государстве, развившееся в римской империи того времени. Диоклециан, первый восточный царь римский, заметил противоречие азиатско-римского понятия о государстве с христианским, он с свирепостью человека, не понимающего дух времени, гнал огнем и мечом юную церковь. Но делать было нечего; им надобно было помириться. Государство было необходимо для христиан: это была доля кесаря, которую надобно было предоставить кесарю. При таком противоречии совести с гражданским порядком, частного с общим, нельзя было развиваться, – можно было остановиться, потерять всякую силу и строение и держаться потому только, что еще падение не совершилось. Это доказывает та часть Римской империи, которая осталась верною древнему государству и которая разлагалась до XV столетия. Действительное примирение вышло инде.
С своей стороны, ничего не может быть противоположное не только восточному рабу, теряющемуся в племени, но и римскому гражданину, поглощенному своим государственным значением, как германец, боящийся всякой централизации и предпочитающий дикую независимость удобствам гражданской жизни. Германцы жили кучками, общинами, знаменами или дружинами; они почти не принадлежали земле, на которой родились, носили родину с собой и везде были дома. Когда хаотическое брожение переселений, завоеваний, первого устройства успокоилось, когда германцы приняли христианство, когда весь этот новый мир начал слагаться, принимая в себя и остатки древней цивилизации и новую религию, развивая ими свою собственную сущность, тогда первым полным и органическим следствием взаимного проникновения этих элементов является рыцарство. Рыцарством вооруженная ватага кондотьеров, наездников, необузданных воинов поднялась из мира грабежей и насилия в феодальное благоустройство. Ключом свода этого готического братства, этих военных граждан, единственных правоверных людей того времени, была беспредельная самоуверенность в достоинстве своей личности и личности ближнего, разумеется, признанного равным по феодальным понятиям. Это было нечто совершенно новое. Не только каждый клочок земли захотел самобытности после того, как весь мир жил одним Римом, но каждый непобежденный человек понимал себя независимым, своевольным. Феодализм – апотеоза личности воина, монадология в гражданском развитии; в нем нет действительного центра.
Понятие о государстве, о городе как о едином действительном, к которому отнесен человек, пало; человек как воин-защитник, как рыцарь начал понимать себя собственным средоточием; понявши это, он должен был высоко поставить свою честь, свою самобытность – гордую и независимую. Не массы сознали эту мысль о достоинстве личности: массы были побежденные, массы были отсталые горожане, люди римских понятий, массы были несчастные земледельцы, для которых час сознания еще не наставал; ее поняли доблестнейшие из воинов, ее поняли духовные. Ничего не может быть пагубнее для истории, как вносить современные вопросы симпатий и антипатий в разбор былых событий; если в некоторых странах позволяют людям судиться пэрами, то какое же право мы имеем судить прошедшее не по его понятиям, а по понятиям иного времени? Мы привыкли сопрягать с словом «рыцарство» понятие угнетения, несправедливости, касты; но с тем самым словом мы вправе сопрягать смысл совершенно противоположный. Мы теперь смотрим на рыцарство как на прошедший институт; его слабые стороны для нас раскрыты; нас оскорбляет его гордое чувство бесконечного достоинства, основанное на бесконечном унижении привязанного к земле; оно пало от своей односторонности, оно наказано; оно до того умерло, наконец, что пора ему отдать полную справедливость.
Взгляните на рыцарство, отступивши в VII, VIII столетие, – и оно представится передовой фалангой человечества; оцените внутреннюю мысль его о достоинстве человеческой личности, о святой неприкосновенности ее, о строгой чистоте – и вы поймете великое начало, внесенное им в историю. Оттого мы рыцарей можем принять за высших представителей средних веков; истинные представители эпохи – не арифметическое большинство, не золотая посредственность, а те, которые достигли полного развития, энергические и сильные деятельностью; другие были в ребячестве или в дряхлости. Человек научился уважать человека в рыцаре; этого мы им не забудем. Гордое требование признания рыцарских прав было почвою, на которой выросло сознание права и достоинства человека вообще. Рыцарь далеко не был ниже римского гражданина. Римский гражданин имеет перед ним то преимущество, что он развил свое понятие; но то, чего домогался рыцарь, было выше того, чего достигнул римлянин. Сущность гражданина – вне его, случайность рождения определяет права его; сущность рыцаря – в нем самом, и он становится рыцарем, а не родится. Его право не принадлежит его личности как случайной, а принадлежит ему по развитии в случайной личности ее родового значения (разумеется так, как оно понималось в те времена). Никто не был признаваем христианином по одному физическому рождению; никто не родился рыцарем; для первого надобно было духовное рождение крещением, для второго – искус и торжественное признание посвящением. Рыцари были единственные свободные люди в средних веках; они составляли между собой братство, рассеянное по всему католическому миру и сочувствовавшее между собою; их соединяло единство обычаев, единство понятий о своем достоинстве, единство предрассудков; каждый рыцарь сознавал неприкосновенное величие своей личности и готов был доказывать его мечом. Но можно ли назвать братством учреждение, при котором массы были угнетены? А как же древние республики называются республиками, когда в них одни граждане имели права? Низшие классы в средних веках не только не были признаны высшими, но и собою не были признаны; их признавала одна церковь и перед алтарем они были равны; человек признается человеком настолько, насколько он сам себя признает человеком. Кровавые события времен Жакри выразили иные потребности со стороны народа и обнаружили иное сознание, и рыцари всеми ужасами и свирепостями того времени не могли ничего сделать. То же в городах: по мере того, как коммуны начинали сознавать свои права, рыцари со скрежетом зубов должны были уступать; сознание это росло, а рыцарство дряхлело. В 1614 году оно еще протестовало против смелости среднего состояния, дерзнувшего назваться братом рыцарства, а в 1787 году Сиэс издал свою брошюру du tiers-état[118]118
о третьем сословии (франц.). – Ред.
[Закрыть] и уверял, что среднее состояние всё, – мнение, в которое теперь никто не верит.
Права личности у рыцарей доказывались и поддерживались оружием; мир феодальный был дик и груб; кроме оружия и материальной силы, человек не находил себе другого оплота. Рыцарь был прежде всего воин, победитель; подозрение в трусости и неумении владеть мечом было высшим оскорблением. Рыцарство и тут в мир вечной войны и резни внесло свое благотворное влияние: свирепое и необузданное насилие облагороживается; враги не бросаются друг на друга, как звери, а выходят торжественно на поединок – благородно, открыто, с равным оружием. Поединок был совершенно на месте у этого военного братства. Кто судья над рыцарем, как не он сам, как не равный ему противник? Для горожанина, для простолюдина существует судебное место; но разве рыцарь подсудим кому-нибудь в деле чести, и что государство и его закон за мерило, за возмездник его оскорблению? Он сам себе достанет право – копьем, мечом. Он признавал самоуправство естественным, неотъемлемым правом. Зачем он, оскорбленный, пойдет искать юридической расправы, когда он не верит в ее возможность восстановить честь? Он ищет собственной опасностью, смертью свой суд и в нем оправдания себя в чужих глазах и своих: казнь виновного согласна с решением небесным. Конечно, храбрость и ловкость в управлении оружием – самый жалкий критериум истины, хотя, заметим мимоходом, трусость – вечный ошейник рабства. В наше время странно было бы доказывать истину тем, чтоб проткнуть копьем того, кто вздумает возражать или кто не согласен с нами в мнении. Самое требование признания моей личности так, как я хочу, несправедливо; но во время рыцарства, когда чувство чести и самобытности было так ново и одушевляло грубые и с тем вместе полудетские натуры, понятно и деспотическое требование признания и готовность оружьем дать вес своему требованию. Не надобно забывать, сверх того, что тогда человек детски веровал, что небо поможет правому; самые судьи не находили тогда лучшего средства к раскрытию истины, как суд божий, как поединок. Поединок имел религиозную основу и нравственную. Нравственный принцип поединка состоит в том, что истина дороже жизни, что за истину, мною сознанную, я готов умереть и не признаю прав на жизнь отвергающего ее. Мало сознавать достоинство своей личности: надобно, сверх того, понимать, что с утратою его бытие становится ничтожно; надобно быть готовым испустить дух за свою истину – тогда ее уважат, в этом нет сомнения. Человек, всегда готовый принесть себя на жертву за свое убеждение, человек, который не может жить, если до его нравственной основы коснулись оскорбительно, найдет признание.