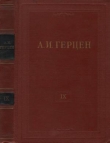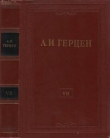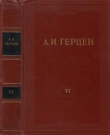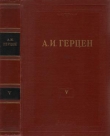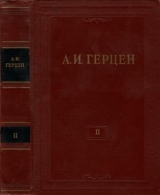
Текст книги "Том 2. Статьи и фельетоны 1841–1846. Дневник"
Автор книги: Александр Герцен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 37 страниц)
13. Сцена, как выразился кто-то, есть парламент литературы, трибуна, пожалуй, церковь искусства и сознания. Ею могут разрешаться живые вопросы современности, по крайней мере обсуживаться, а реальность этого обсуживанья в действии чрезвычайна. Это не лекция, не проповедь, а жизнь, развернутая на самом деле со всеми подробностями, с всеобщим интересом и семейственностью, с страстями и ежедневностью. На днях испытал я это на себе. Небольшая драма заставила меня думать и думать. Юноша влюбился в девицу старее себя. Она его любит, и они женились. Прошло пять лет, молодой человек влюбляется в другую, и начинается тот ужасный бой, который так удивительно выразил Гёте в «Wahlverwandschaft». Муж – человек честный, благородный, он понимает свою обязанность относительно жены, уважает ее высокие достоинства, но не любит ее и скрывает. Жена, необыкновенно благородное создание, любит мужа до безумия, и все понимает, в страданиях. Она решается умертвиться. Муж в отчаянии. Проходит год, она осталась в живых, но ее считают умершей, и первый он убежден в этом. Он женится на другой и встречает на дороге свою первую жену. Женатый от живой жены! Ему кажется, что он сделал что-то чудовищное. Жена (первая) умирает, он хочет убить себя. Но его друг заставляет его жить для второй жены etc. Вот что тут ужасно: все правы. Молодой человек откровенно поступил, женившись на девушке старше его, – но это была неосторожность, в ней заключалось адское семя, из которого должно, могло по крайней мере, вырасти то несчастие, которое выросло. Но за неосторожность развитие жизни наказывает его вдесятеро против всякого уголовного преступника. А жена – добродетельная, отдававшаяся ему так самоотверженно и вовсе, – что ей делать? Отойти прочь, оставить его. Да где эти герои, гиганты, или, лучше, эгоисты? Она и прежде могла бы расчесть. Но бог с ними, с хорошими счетчиками, они не бывают несчастны – но и блаженство жизни и полнота ее не для них. Женщина убита, она ничего не имеет вне мужа. Муж убит, он бесчестен в своих глазах, он обманщик в обе стороны, он раб. Они влекут быстро друг друга к могиле, слабейший падет прежде, второй спасен. Не тут-то было, угрызение совести навеки стало набрасывать траур. Эдакая безвыходность! Брак, когда от него отлетит дух, – позорнейшая и нелепейшая цепь. Как, на каких условиях дозволяется ее бросить, – трудный вопрос, которому фактическое разрешение дадут грядущие поколения. Но я замечу вот что. Да неужели для человека только и дано в удел, что любиться, и неужели одна любовь дает Grundton всей жизни, – на все есть время. Зачем этот человек не раскрыл свою душу общим человеческим интересам, зачем он не дорос до них? Зачем и женщина эта построила весь храм своей жизни на таком песчаном грунте? Как можно иметь единым якорем спасения индивидуальность чью-нибудь? Все оттого, что мы дети, дети и дети.
Древний мир вовсе не знал той трагической стороны семейной жизни, которая развилась в сени феодально-христианского мира. Древний мир был односторонен, он не признал права женщины; но мы можем перестать быть Вертерами и Тогенбургами, не впадая в его односторонность. Какой фазис в жизни занимает любовь, потом семейство? Какой бы ни занимало, но исключительно человек не должен себя погружать в одно индивидуальное чувство. У него якорь спасения в идее, в мире общих интересов; дух человека носится между этими двумя мирами. Пренебреги он сердцем, индивидуальным, он былбы урод, – обратно – то же.
Встарь религиозные люди находили примирение и выход в религии – она тоже всеобща. Выход был мнимый – но врачевал.
22. Высочайшее произведение русской живописи, разумеется, «Последний день Помпеи». Странно, предмет ее переходит черту трагического, самая борьба невозможна. Дикая, необузданная Naturgewalt, с одной стороны, и безвыходно трагическая гибель всем предстоящим. Мало воображение дополняет и видит ту же гибель за рамами картины. Что против этой силы сделает черноволосый Плиний, что христианин? Почему русского художника вдохновил именно этот предмет?
Наоборот. На фронтоне Исаакиевской церкви будет барельеф, представляющий Исаакия Далматского, гордо не покоряющегося императору, бесящемуся и досадующему нанего. Надобно думать, что ценсура не пропустит этого барельефа!
Геройство консеквентности, самоотвержение принятия последствий так трудно, что величайшие люди останавливались перед очевидными результатами своих же принципов. Таков Гегель, развитие юного гегельянизма, развитие его начал; до Гегель бы отрекся от них, он любил, уважал das Bestehende[188]188
существующее (нем.). – Ред.
[Закрыть], он видел, что оно не вынесет удара, – и не хотел ударить, ему казалось, на первый случай и того довольно, что он дошел до своих начал. Юное поколение с них начало, шаг вперед был именно тот удар, который должен был глубоко поразить das Bestehende. Гегель бы отрекся от них; но вот в чем дело: они вернее были бы ему, нежели он сам. Т. е. ему, мыслителю, отрешенному от его случайной личности, эпохи и пр., Шеллинг – живой пример, как можно отстать от собственной своей мысли, когда мыслитель остановится на половинной дороге ее развития, не имея, впрочем, силы остановить им же данного движения. Положение Шеллинга истинно трагическое, как выразился Руге. Всякая остановка, половинность не годится, когда развитие идет вперед. Жиронда явным образом положила голову на плаху, ставши между якобинцами и монархистами Ежели б королевская партия одолела, их всё бы казнили. Таково ныне положение правой стороны гегельянизма. Маргейнеке поступил с доброй целью для Бруно Бауэра престранно, он хотел попасть в juste milieu[189]189
золотую середину (франц.). – Ред.
[Закрыть] и попал между двух стульев на пол. И прусское правительство и юная гегельянская школа его обругали.
Будь горяч или холоден! А главное будь консеквентен, умей subir[190]190
переносить (франц.). – Ред.
[Закрыть] истину во весь объем.
30. Продолжая, вот еще что следует заметить. Не должно обвинять Гегеля в хитрости, в лицемерстве. Новое воззрение так далеко отрезывало от прежнего, что он не смел себе признаться во всех следствиях своих начал, оттого неминуемое последствие – неясность в многих практических выводах. Он хочет не истинного, естественного, само собою текущего результата, но еще чтоб он был в ладу с существующим. Ему страшно было говорить так, как страшно б было другим слушать. Юная школа могла высказать больше, для нее не шло вперед то уважение к окружающему фактическому миру, которое было у Гегеля; но не должно забывать, что не шло именно потому, что Гегель поставил юное поколение на высокую точку, с которой они могли разом увидеть то, что он вырабатывал и что ему открывалось, как вид входящему на гору. Когда он взошел, ему не видать было больше горы, он испугался этого, она слишком была связана со всеми испытаниями, судьбами, которые он пережил. Таково всегда было развитие во времени идеи. А потому величайшая справедливость должна быть в приговорах деятелям. И Лютер, и Мирабо, и Платон были перейдены, т. е. развиты.
Критика делается исполненною высокой страстности, она делается религиозна, наконец. Самое отрицание, конечно, вместе и положение. Ее знает свобода так, как знала философия самопознание. Свобода, т. е. освобождение от внешнего, мертвого ограничения, от цепей былого, не признанного за вечное самопознанием, свобода действования по разумению, мышление, изложение мысли etc.
Христианство удивительно приготовило индивидуальность к настоящему. Углубление в себя, признание бесконечности в себе, очищенный и вместе доведенный до высочайшей степени эгоизм и, след., развитие собственного достоинства. А с другой стороны, мысль самопожертвования для всеобщего, любовь и пр. Эта борьба сама по себе развила все богатство духа человеческого. А с другой стороны, борьба с материальным, временным. Эта вечная ложь феодальных веков, говорящих о уничтожении страстей, о пренебрежении землей и поступающих совсем иначе, ‒ сколько должна была развить практического и теоретического. Современность, ставящая реальнейшей сущностью государство (именно царство божие на земле, по религиозному выражению), разом уничтожает ложь, ибо государство имеет и свою временную сторону и свою вечную, любовь и эгоизм, развитие себя и отдание себя, всеобщее в каждом и каждый, втекающий, снимающийся всеобщим, которому царь – Разум. Тут истинное осуществление темно провиденного христианством и всему отзыв etc.
Читал на днях комедию Бомарше. Нет сомнения, что «Свадьба Фигаро» – гениальное произведение и единственное нафранцузской сцене. В ней все живо, трепещет, пышет огнем, умом, критикой и, след., оппозицией. Мысль его ясна в Фигаро, хотя от этого само лицо не приобрело особенной действительности, для меня chef d’oeuvre – его Сусанна, Херубим и графиня.
Вопрос о семейной жизни, об отношениях брака его очень занимал; это главная тема почти всех комедий его. В «La mère coupable» он взялся лицом к лицу с своей задачей. Пьеса немного резонерствующая, писанная в его старости, но он сам говорит, что она для него результат долгих медитаций и что до нее он доходил «Севильским цирюльником» и «Свадьбой Фигаро». Тема глубока. Граф Альмавива, бесившийся несколько лет от ревности, ненавидящий сына своего по подозрению, что он не от него родился, добивается доказательств и между тем берет меры уничтожить именье, передать и пр. Наконец, доказательства пришли. Он сын Херубима. Граф жестоко, свирепо упрекает жену. Ангельское, самоотверженное существо, павшее давно, случайно, будучи оставлена мужем, увлеченная безумной страстью Херубима, она проводила время свое в глубоком раскаянии. Упреки ей приняты как наказание, но под тяжестию их она ломается. Человеческое чувство побеждает в графе романтизм ревности. Он просит прощения у жены, от души обнимает, признает Леона, так, как его жена уже прежде признала его побочную дочь, и гармоническое счастие водворяется на место дикого борения страстей, которыми, быть может, слишком искупились невинная вина графини и легкомыслие (несравненно виновнейшего) графа. Действие пьесы хорошо, человечески примиряющее. Радуешься, видя графа, выходящего из заколдованного круга предрассудков и фанатизма.
Мысль реабилитации женщины – одна из любимых и ярко прорезывается везде у Бомарше рядом с негодованием, насмешкой против аристократии и тогдашнего состояния. Уже в «Barbier de Séville» притесненная Розина имеет все его симпатии, и он заставляет ее сказать, когда Бартоло говорит, что муж имеет право читать письма жены: «Mais pourquoi lui donnerait-on la preference d’une indignité qu’on ne fait à personne?» (Acte II. Sc. XV)[191]191
«Но почему давать ему право совершать недостойные поступки, которого не дают никому?» (Действие II, явление XV) (франц.). – Ред.
[Закрыть]. В «Свадьбе Фигаро» женщина торжествует безусловно: во-первых, в этой неуловимой, острой милой Сусанне, которая победила самого Фигаро, победила торжественно, – потому что он не умел стать выше подозрения, потому что и в нем выражалась тиранская натура мужчины. Во-вторых, в графине. Муж-волокита смеет, имеет право (и доселе) теснить жену ревностью, он ее мучит за взгляды, шутки, он ее готов опозорить, предать общественному поруганию за поступок, который он сейчас готов был совершить и который, если б совершил, извлек бы улыбку у всех, кроме Фигаро. Эту неправду, эту дикую неправду и выставил Бомарше, и он, конечно, был из первых, понявших илотское состояние женщины. И все эти бешеные страсти ревности, мщения и пр. казались так справедливо текущими из самых естественных отношений мужа и жены. Между тем, глядя им в глаза прямо и трезво, видишь, что это всё привидения, не имеющие действительности. А сколько слез, сколько крови пролилось во имя их!
Октябрь месяц.
7. «De la Prusse par un inconnu, 1842». Автор выдается за француза. Католик à la mode[192]192
по современной моде (франц.). – Ред.
[Закрыть], то есть с демократическими выходками; но книга исполнена интереса, несмотря на односторонность. Пруссия должна была, если не вся, то правительством, покраснеть до ушей. Скрытный, обманчивый, безэнергичный и тупой деспотизм, облеченный в формы германо-quasi-европейские. Как странно сделается на душе, когда видишь все бедное развитие права где-нибудь в Пруссии, вдруг взглянешь домой – и Пруссия покажется раем земным.
16. Пересматривал и поправлял статью «Grübeln[193]193
Раздумье (нем.). – Ред.
[Закрыть], по поводу одной драмы», т. е. развитие мысли, записанной после бенефиса Самойлова (8 лет старше), – статья вышла недурна. Она назначается в альманах Грановского вместо «Дилетантизма», отнятого для «Отечественных записок». A propos, в последнем № повесть известного графа Ф. В. Ростопчина. Много юмора, остроты и меткого взгляда.
22. День рождения Н<аташи)> – 25 лет. Страшно идет время. Вчера я смотрел долго на два портрета мои Витберговой работы. Один делан в конце 1835, другой в половине 1836, оба были похожи, особенно первый. И мне стало грустно, первый раз я испытал чувство человека, не токмо вышедшего из юности, но и отдалившегося от нее. Где эти черты, где это выражение, где мягкость, нежность, грация? Семь лет, и какая перемена! Я перенесся в то время. Это был период романтизма в моей жизни, мистический идеализм, полный поэзии, любовь – всепоглощающее и всенаправлявшее чувство. Одиночество, первый год ссылки, несколко месяцев после тюрьмы. Это был период der Gemütlichkeit[194]194
Здесь: лиризма (нем.). – Ред.
[Закрыть], но у меня никогда не было жизни, так сосредоточенной в личных отношениях, чтоб хоть на время забыть всеобщие интересы; напротив, я со всем огнем любви жил в сфере общечеловеческих, современных вопросов, придавая им субъективно-мечтательный цвет. Наконец, в 1838 году, жизнь достигла до той высшей степени целого развития, далее которой идти нельзя. Надобно объяснить. С 1838 шел ли я назад, или вперед? Сомненья нет, что вперед, взгляд стал шире, основательнее, ближе к истине, я отделался от тысячи предрассудков с тех пор, много занимался etc. Но для меня как для лица – лучшего, полнейшего периода жизни не может быть, как от половины 1838 до половины 1839. Сторона мысли, разума взяла верх над страстностью (и должна была); но с тем вместе потухли множество наслаждений. Тот год тем важен, что тогда все было уравновешено и развернуто в пышный цвет, стройный, согласный концерт всех элементов. Такой период в истории человечества была греческая жизнь. Человечество гораздо дальше двинулось в христианском и современном мире, но того юношеского, стройного согласия внутреннего и внешнего нет, одна сторона пожертвована другой. Тот год был лучшим годом для наших индивидуальностей. Испив всю чашу наслажденья индивидуального бытия, надобно продолжать службу роду человеческому, хотя бы она была и нелегка. Да зачем же переживается такой прекрасный период, зачем он так скоро проходит? Он не проходит, а изменяется. Да и, сверх того, все индивидуальное подчинено времени, хотя, с другой стороны, полнота наслаждения вне всякого времени, она заключает бесконечность в настоящем и есть достойная цель индивидуального бытия. А propos…
Часто говорят, земной шар, как индивидуум, имеющий органическое развитие, имел (какое бы оно ни было) временное начало и, след., будет иметь конец (недавно еще говорил мне об этом M. Gros, philosophe franco-germanique[195]195
г-н Гро, франко-германский философ (франц.). – Ред.
[Закрыть]), а с ним и человечество. Словом, судьба планеты – судьба индивидуального. Для чего все развитие, к чему и пр.? Вопрос трудный. Физически не знаю, как отвечать на самую гипотезу гибели планеты. Но этим, если хотят (как Gros) доказать личность бога ддя бессмертие души, не много возьмут. Да самое развитие ist Lohn, der reichlich lohnet[196]196
щедрая награда (нем.). – Ред.
[Закрыть], – вечность не в числе лет от рождения до ~, а в развитии в себе божественного, духа, не имеющего зависимости от времени.
26. Вчера в восьмом часу утра умер Вадим. Он был болен c месяц. Последнюю ночь я провел у его кровати, и он окончил жизнь при мне. Мы последние годы волею и неволею видались редко. Он жил в южных губерниях, я в северных, он в Москве – я в Петербурге; к этому присоединялась разница в образе воззрения на предмет – слишком яркая, чтоб можно было примириться, забыв ее, и недостаточно развитая, чтоб именно по самой противуположности мнений найти друг в друге особый интерес. Он от славянофильства дошел до ортодоксности и даже до ненависти к Западу; таким образом ему пришлось отвергнуть все историческое развитие человечества, всю науку, философию, всю мысль нашего века, – на это сил не было, осталось das vornehme Ignorieren[197]197
высокомерное презрение (нем.). – Ред.
[Закрыть] и защита места, тут надобно дойти до безумия, чтоб сделаться интересным, т. е. как Морошкин. Но при всем этом и несмотря на другие личные отношения, я ценил в этом человеке всегда высокое благородство души, чистоту жизни, с которой он проламывался сквозь ужасные несчастия и недостатки. Год тому назад он еще был полон сил, предприятий, даже когда я приехал в Москву в июле, он был здоров или жаловался на общее расстройство; в августе и именно 26, в именины Наташи, он был у меня и говорил, что простужен, что надобно поберечься. Потом я его с месяц не видал, он жил на даче; приехавши, я застал его очень похудевшим, в ипохондрии; в начале октября развилась чахотка, и вчера я присутствовал при великой тайне смерти, и вся эта δύναμις[198]198
сила (греч.). – Ред.
[Закрыть], вся потенция, энергия, как угодно, – исчезла, уничтожилась, оставя после себя след на веществе уже гниющем и на костях, которые долго не сгниют – но сгниют же. Дней пять перед смертью меня ужаснула не худоба его, не кашель, а заметная тупость умственных способностей и чрезвычайная ограниченность даже, это потуханье интеллектуальной стороны шло возрастая; за день до смерти, за два он только занимался болезнию, говорил о лекарствах, о их действиях. В два часа ночи (с 24 на 25) он проснулся, ему было полегче, однако жена догадалась, что не перед добром, привела детей, он улыбнулся. Жена сказала ему, чтоб перекрестил их, он сделал вид, что спать хочет, потом закрыл глаза и уснул. Прислали за мной. Я пришел в начале четвертого, он спал спокойно, изредка только издавая легкий стон, и, не просыпаясь, не раскрывая глаз, не взойдя ни на минуту в сознание, умер. В 7 часов утра дыхание стало реже, прерывистое, он раза два продолжительно застонал, и дыхание прекратилось, и в ту же минуту лицо его приняло спокойный вид. Через два часа мы его уже переносили на стол, а еще через два часа мальчик от Кампиони снимал маску, заливши алебастром лицо. Тайна, и грозная, страшная тайна. А как наглазно видно тут, что Jenseits[199]199
потусторонний мир (нем.). – Ред.
[Закрыть] – мечта, что дух без тела невозможен, что он только в нем и с ним что-нибудь! – «Мы увидимся, скоро увидимся!», ‒ говорила жена, – теплое, облегчающее верование, мое последнее верование, за которое я держался всеми силами. Нет, и тебя я принес на жертву истине. А горько расставаться с тобою было, романтическое упование новой жизни.
Когда я вышел из их дома, чтоб послать им людей и сделать часть распоряжений, солнце светило, морозный день был северно хорош, на улице движенье, жизнь. Жизнь вечна; жизнь идет своим чередом, она производит для себя и уничтожает, испортивши, износивши формы, не жалея об них. Я приехал к Кампиони. Никого нет в первой зале, я в другую: статуи, картины, роскошные, грациозные формы жизни поразили меня после того, как я так пристально вгляделся в угловатые, ужасные формы смерти. А в другой комнате девочка лет 15 пела веселую итальянскую песню. Говоря об этом дне, я не должен пропустить лицо, поразившее меня изяществом всего существа своего. Черткова (Елизавета Григорьевна, урожденная графиня Чернышева, т. е. Чернышевых в самом деле, а не военного министра), сначала она поразила меня удивительно благородной и выразительной наружностью, в ней видна аристократическая кровь, это одна из героинь Вальтера Скотта, высокая, худая, не в первой молодости, грандиозная и hehr[200]200
возвышенная (нем.). – Ред.
[Закрыть], как говорят немцы. Но потом она меня удивила образом участия: ни беспрерывных слез, ни банальных утешений, ни перешептыванья, ни жестов, ничего, – спокойное, глубокое участие, без слов, но ясно звучащее в этой группе, составленной из мертвеца и его приятелей, хлопочущих около него, и жены в отчаянии, и детей испуганных. Эта женщина была похожа на те явленные образа богородицы, которые виделись прежними святыми и которые сходили примирительной голубицей между богом и человеком. Эта женщина была артистическая необходимость в этой группе, без нее картина была бы surchargée[201]201
перегружена (франц.) – Ред.
[Закрыть] черного и безнадежного. Вот и моя дань аристократии, в ней именно важнейшую долю изящной формы и изящных форм надо отнести чистой, благородной крови и нравам истинной аристократии. Проведя весь этот день и все сутки в натянуто напряженном состоянии, в котором одно сильное чувство сменялось другим, – скорбь, тяжкие мысли и пр., – когда я вечером поздно остался дома, один с Наташей, возле спал малютка, тишина, – тогда мне стало чрезвычайно легко, я взошел опять в среду истинной жизни, ибо судорожные экстатические минуты составляют крайность.
А давно ли Вадим, только что выпущенный из университета кандидатом, в преизбытке сил, с необузданным самолюбием, с русской удалью делил все мечты, все увлеченья наши, это было с конца 1831 до начала 1834. 11 лет, впрочем! После женитьбы он много изменился, а может, не он, а мы двинулись вперед, а он остался на старом месте. Попавши в славянизм, он даже и на старом месте не остался, а пошел иным путем назад; все общие человеческие интересы, все современные вопросы занимали его только по мере их причастности к славянскому миру, а тут надобно заметить, что именно им-то они вовсе и не занимаются. Мы расстались довольно холодно. В 1840 году мы встретились в Петербурге, расстояние между нами было непереходимое; но я тогда в нем оценил прекрасного семейного человека, и мы сблизились опять и так остались до его кончины. В последнее время его финансовое положение начало было поправляться, но несчастье за несчастьем лишало возможности улучшить жизнь, работой он был завален, может, он касался, наконец, до спокойствия в материальном отношении, – но жизнь порвалась.
И она давно ли, кажется, жила у нас в доме, приезжая из Корчевы, Темира, девица беззаботная и un peu pédante[202]202
немного педантичная (франц.). – Ред.
[Закрыть]. А теперь вдова, в крайности, с двумя детьми и с третьим неродившимся. Будущность ее ужасна, не представляется ни пристанища, ни куска хлеба. Конечно, найдутся люди, но хлеб милостыни, что ни говори, – с песком. Вот еще семейство в счет Астраковых, Медведевых, Витберга и многих, многих. Страшно вспомнить, всем помочь сил нет. А кого же обойти?
29. Вчера схоронили Вадима в Симонове. Похороны были торжественны по истинному участию людей, окружавших гроб. Жена твердо шла за гробом, стояла возле, и, когда привинтили крышку, она облокотилась на гроб. Никто не смел ни двинуть гроб, ни прервать этой немой горести. Она долго стояла, слез не было, но взгляд ее был невыносим, кругом все рыдало; в ее взгляде было видно что-то беспредельно отчаянное и убитое и вместе недоумение, вопрос, упрек. В Симонове покойника встретил сам архимандрит (Мелхиседек), бывший приятелем с Вадимом, и эта дань уважения была хороша. Жена стала возле могилы, ее уже закапывали, так же страшно молча и без слез. Архимандрит подошел к ней и сказал: «Довольно, это не наше, в церковь, за мной, молиться богу». И мы взошли в церковь уже без покойника, уже он стал совершенно прошедшее. Вот где крепость религии, в эти минуты человек готов все сделать, чтоб найти выход и примирение. Религия врачует все. Когда мыслитель, гражданин говорит о подчинении индивидуального всеобщему, на них смотрят как на людей без сердца, когда художник или ученый скажет, что звук его лиры, его кисть – утешительница в его горести, назовут эгоистом. А когда религия грозно говорит: «Оставь, это мое, идем молиться, покоряйся безропотно», тогда все покоряется и склоняет колена, без рассуждений, повинуясь слепо.
Ноябрь месяц.
1. Дух человеческий роет себе да роет внутри, он делает свое как в роде, так и в лице. Жена Вадима, которая первые дни своего несчастия была в полнейшей вере, вдруг со вчерашнего дня начинает сомневаться и беспрестанно колеблется между детским признанием и полным отрицанием. Она называет это падением, молится о подкреплении, но молитва не исполняется; тут ясно видно благородное, человеческое направление, не дозволяющее обольщать себя, и, с другой стороны, видно, как слабо действует при современном состоянии развития духа религиозная положительность.
2. Письмо от Сатина из Ганау. Огарев опять наделал глупостей в отношении к жене, снова сошелся с нею, поступал слабо, обманывал, унижался и опять сошелся. После всего бывшего! Вот что я писал к Огареву: «Бедный, бедный Огарев – я грущу о твоем положении, но ни слова, когда дружба истощила безуспешно все, чтоб предупредить, отвратить, ее дело остаться верною в любви. Дай руку, как бы ты ни поступил, не хочу быть судьей твоим, хочу быть твоим другом, я отворачиваюсь от темной стороны твоей жизни и знаю всю полноту прекрасного и высокого, заключенного в ней. У тебя широкие вороты для выхода из личных отношений – искусство, мир всеобщего, я хочу не знать жалкой борьбы, от которой раны, конечно, будут не на груди». Я откровенно делю с ним его несчастие, понимаю его слабость (как его, ибо во мне есть возможность падений, увлечений, но такой слабости нет и тени), не могу простить его поступка, но далек и от жестокого приговора. У К.* сильная способность любить, но он жесток на словах, скор в приговорах, это его недостаток, его ограниченность. Для хладнокровного наблюдателя это психологический феномен, достойный изучения. Чем эта ограниченная, неблагородная, некрасивая, наконец, женщина, противуположная во всех смыслах, держит его в илотизме? Любовью – он не любит ее, даже не уважает, абстрактной идеей брака – он давно не признает власть его. Чем же? Отталкивающее ее существо так сильно, что все, приближающееся к ней, ненавидит ее, – везде, на Кавказе, в Москве, в Неаполе, Париже она возбудила смех и негодование. Сожаление и слабость, беспредельная слабость – вот что затягивает цепь, которую должно было сбросить, так далеко зашел ее эгоистический, дерзкий нрав. Такая ли будущность ждала Огарева? И в таком-то омуте теряет он силы на глупую борьбу, теряет здоровье, жизнь. Это ужасно. Но теперь-то ему и нужна дружба!
6. Отвратительная тягость нашей эпохи тем ужаснее, что людям мыслящим приходится бороться не с одними людьми силы и власти, а еще с долею литераторов. Славянофильство приносит ежедневно пышные плоды, открытая ненависть к Западу есть открытая ненависть ко всему процессу развития рода человеческого, ибо Запад, как преемник древнего мира, как результат всего движения и всех движений, – все прошлое и настоящее человечество (ибо не арифметическая цифра, счет племен или людей – человечество). Or donc[203]203
Итак (франц.). – Ред.
[Закрыть] вместе с ненавистью и пренебрежением к Западу – ненависть и пренебрежение к свободе мысли, к праву, ко всем гарантиям, ко всей цивилизации. Таким образом, славянофилы само собою становятся со стороны правительства, и на этом не останавливаются, идут далее. Правительство теснит бессмысленно, оно имеет шпионов, которые доносят вздор, оно за вздор бьет казнями и ссылками, но нет настолько образованных шпионов, чтоб указывать всякую мысль, сказанную из свободной души, чтоб понимать в ученой статье направление и пр. Славянофилы взялись за это. Отвратительные доносы Булгарина не оскорбляют, потому что от Булгарина нечего ждать другого, но доносы «Москвитянина» повергают в тоску. Булгарин работает из одного гроша, а эти господа? Из убеждения. Каково же убеждение, дозволяющее прямо делать доносы на лица, подвергая их всем бедствиям деспотического наказания? Правительство, по счастью, безграмотно, не читает журналы. И что за дикие мнения проповедуются ими! А возражать нельзя. Москва – центр всех этих скопищ. Горько и подчас нельзя не сознаться, что Петербург как бы то ни было, а выше Москвы. Ценсура здесь вдесятеро строже – привязчива, подла, притеснительна, а между тем ценсор Крылов – профессор с либеральной renommée[204]204
репутацией (франц.). – Ред.
[Закрыть]. То, что в «Отечественных записках» печатается, то здесь страшно говорить при многих. Слава Петру, отрекшемуся от Москвы! Он видел в ней зимующие корни узкой народности, которая будет противудействовать европеизму и стараться снова отторгнуть Русь от человечества.
Для Пассекова альманаха я изготовил было свою статью «К характеристике неоромантизма». Да помилуйте, этого ценсура не пропустит, это будет обидно для пиетистов, надо так изменить, так скрыть мысль. Боже праведный! В образованных государствах каждый, чувствующий призвание писать, старается раскрыть свою мысль, употребляя на то талант свой, у нас весь талант должен быть употреблен на то, чтоб закрыть свою мысль под рабски вымышленными, условными словами и оборотами. И какую мысль? Пусть бы революционную, возмутительную. Нет, мысль теоретическую, которая до пошлости повторялась в Пруссии и в других монархиях. Может, правительство и промолчало бы – патриоты укажут, растолкуют, перетолкуют! Ужасное, безвыходное состояние!
Анекдот с графом Про, которого выслали за границу, напомнил, между прочим, разговор Конарского с кн. Долгоруким за час до смертной казни.
10. Вчера сосед мой в театре рассказывал, что оперу Россини «Вильгельм Телль» дают у нас под названием «Карл Смелый». Я еще этой глупости не знал, – и смешно, и досадно, и отвратительно.
14. Scène de la vie privée[205]205
Сцена из частной жизни (франц.). – Ред.
[Закрыть], горькое объяснение с отцом. Странное дело, как живущ эгоизм и как он растет с летами, до какой бесчувственности доводит он. После смерти Льва Алексеевича он был испуган, поражен, и с год явно был кротче, но теперь с каждым месяцем я вижу, что он глубже и глубже падает в какую-то жизнь скупца и эгоиста, для которого в мире ничего не существует, кроме капризов. Страшно видеть человека 74 лет, вблизи гроба, ведущего такую жизнь, отрешенную от всех человеческих интересов, и страшно то, что нет возможности поставить себя так, чтоб или молча быть зрителем, или удерживаться в границах при всяком оскорблении.
Я без хвастовства могу сказать, что я прожил собственным опытом и до дна все фазы семейной жизни и увидел всю непрочность связей крови; они крепки, когда их поддерживает духовная связь (то есть когда их не нужно), а без них держатся до первого толчка. Vanitas! Vanitas![206]206
Суета! Суета! (лат.). – Ред.
[Закрыть]
Письмо от Белинского. Фанатик, человек экстремы[207]207
крайностей, от extrême (франц.). – Ред.
[Закрыть], но всегда открытый, сильный, энергичный. Его можно любить или ненавидеть, середины нет. Я истинно его люблю. Тип этой породы людей – Робеспьер. Человек для них ничего, убеждение – всё.
18. А. И. Тургенев – милый болтун; весело видеть, как он, несмотря на седую голову и лета, горячо интересуется всем человеческим, сколько жизни и деятельности! А потом приятно слушать его всесветные рассказы, знакомства со всеми знаменитостями Европы. Тургенев – европейская кумушка, человек au courant[208]208
в курсе (франц.). – Ред.
[Закрыть] всех сплетней разных земель и стран, и всё рассказывает, и всё описывает, острит, хохочет, пишет письма, ездит спать на вечера и faire l’aimable[209]209
любезничать (франц.). – Ред.
[Закрыть] везде.