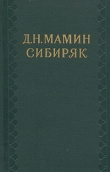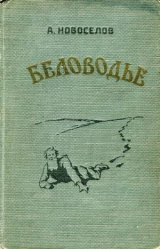
Текст книги "Беловодье"
Автор книги: Александр Новоселов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 12 страниц)
Панфил вздохнул.
– Крепкий был старик. Веру шибко держал.
– Ну, а те как? Монахи? – справился Назар.
– Уехали монахи.
Панфил помолчал и добавил:
– Совсем уехали.
Полянка затихла. Но Хрисанфа подтолкнул нечистый под руку:
– Не помстило им с монахами-то? А?
– Кого это ты? – кротко откликнулся Панфил.
– Да говорю, с монахами-то не помстило? С голодухи, может. Все причудится… А то и концы, поди, хоронили. Старик был денежный. Сказывают, полную сумину серебра китайского повез с собой. Укокали, поди.
Ничего не ответил Панфил.
Асон выждал минуту и, не слыша протестов, тяжело повернулся.
– Тьфу ты, богохульник! – плюнул он в сторону. – Прости меня, царица матушка небесная…
Никто не отозвался даже вздохом. Только в дальних кустах, на краю поляны, прорывался легкий шепот. Там лежали Ванюшка с Акулиной. Под тяжелым домотканым армяком верблюжьей шерсти они не чувствовали зябкой свежести. Акулина все не находила места, не могла устроиться. Сначала долго говорила с мужем. Потом не давали заснуть старики, а теперь нашла забота и тоска. О чем, по чем – она сама не знает. Наконец, устроилась, прижалась крепче к мужу, положила голову к нему на сильное плечо. А Иван поминутно засыпает. Говорить уже не может. Молча проведет ласкающей рукой по горячей спине, и остановится рука на полдороге, повиснет мертвой тяжестью.
– Никак, заснул опять? – с упреком шепчет Акулина.
– Мгы-ы… кого тебе? А?
– Да, говорю, не могут те уняться. Слышь, Асон с Бергалом позубатили.
– Подь они!.. Спи, ли чо ли! Возится и возится… Первый спень – он слаще… после не заснуть… Да ноги-то на улицу пошто суешь? Кака-нибудь нечисть привяжется. Давай их сюда. Вот так… Ну, спи.
Покорная под сильными руками, Акулина сладко съежилась, будто встала между ней и людьми высокая, неодолимая стена. Она уже привыкла к этому. Но тоска была с ней. От нее не спасали и стены.
Акулину никто не корил за Гараську. Бабы долго охали, шептались и плели свое несуразное, да мужики покончили. Не своей охотой добивалась, всякому жизнь дорога, и толковать тут нечего. А что погиб он, так не сегодня – завтра все равно сложил бы варнацкую голову. Ему – по пути.
Прежде чем обрачить, Панфил поставил Акулину на поклоны. Заказал ей сорок тысяч, да девка выбилась из сил, не могла на лошадь сесть, с лица и с тела спала. Старик смиловался, сбавил по дорожному делу. Разбитая, больная Акулина с упорством отбивала каждый день по сотне, и с каждым днем с души отваливался лишний камень. Когда закончила, душа опять воскресла. Расцвела Акулина, снова стала, как и прежде: телом крепкая, упругая, душой – веселая, живая, радостная. Искупила вину, заплатила за все. Но по ночам подкрадывалось что-то беспокойное, неясное, и девка металась в тоске, обдирая зубами высохшие губы. И не поймешь его, никак не расскажешь. То Гараська наступает – щерится, то опять падут на память деревенские. Больше всех почему-то – братишка Пахомик… Подбежит к окну с улицы, взберется по венцам и ляжет грудью на широкий подоконник.
– Нянька, а нянька. Обедать скоро?
– Погоди, не убрались.
– И-ись шибко манит, – сморщится Пахомик, но поскребет босыми загорелыми ногами по стене и отпадет, будто в яму провалится. Как за стол садиться – не найдешь.
Много путается в голове. Всего и не собрать, не вспомнить. Но к утру все пропадет. День в работе, в хлопотах, подумать некогда.
А тут еще совсем другое подступило, новое, страшное, близкое. Свое это. Свое и Ванюшкино. Третий день, как поняла его, почуяла сердцем. Тяжело одной-то, а сказать – не находится слов.
– Ты! Ванюшка!
– Агы-ы… кого там?
Акулина привстала, опустилась на него горячей грудью, прилипла к самому лицу.
– Ваня!
Называла так редко, лишь в минуты близости.
Иван открыл глаза, насторожился. Утомленный вечерними ласками, он осилил усталость, и быстро проснулся.
– Ты чево не спишь-то? Рази холодно? Ложись вот так.
– Ваня!
– Ну?
– Боязно мне што-то.
– Плю-юнь.
– Другой месяц, однако, пошел… Привязалось видно…
– Чево это?
– Да так.
Иван понял без слов, вздрогнул, замер душой.
– Али што почуяла?
– Ага.
Она опрокинулась на спину и лежала, непокрытая по пояс, не чувствуя холода.
Иван приподнялся на локте, склонился над ней и гладил по лицу ладонью. Что было сказать и как сказать? Вдруг явился откуда-то стыд, совсем особенный, не уличный, и то, что раньше было будничным, простым, теперь стало выше давно знакомых слов и понятий.
Словно его чутко подслушивала ночь, Ванюшка наклонился еще ниже, подавляя шепот:
– Понесла?
Акулина не отозвалась, не шевельнулась. Он только видел черные провалы ее глаз и чувствовал – глядят они не по-дневному, не так, как на всех и всегда, а глядят самым дном. Иван обнял ее, тиснул крепко и прилип губами к голой шее…
Костер потух. По краю неба, в глубине долины, пала предрассветная серая занавесь, скрывая великую тайну – нарождение нового яркого дня.
XII
Уже целую неделю шли песками. Во всю ширь раскинулась пустыня, бесконечным морем уходя за горизонт. Лишь позади синеющей невысокой каймой колыхались в знойном мареве оставленные горы. На них оглядывались часто, но никто не говорил об этом, хоронился от других.
Пустыня встретила сурово. Сухая, знойная, величественно строгая в своем молчании, она ничего не сулила и ничем не радовала. Каждый знал, что здесь надежда – только на себя. Раз осмелился – иди вперед, иди, не останавливаясь, не сворачивая и не оглядываясь. Только смелый пройдет. Будет жечь тебя, будет голод томить, будет смертью пугать – все иди, все вперед.
Асон с Панфилом много говорили о прежних странствиях, и к ним прислушивались. И как было не верить, глядя на Панфила? Он опять был впереди, он знал, куда ведет.
Идти старались по ночам: боялись, что лошади не вынесут зноя. Они спали с тела как-то сразу. Сухой, колючий саксаул не мог им заменить душистых зеленых лугов, а воды встречалось так немного, и была она такая, что только мучительный голод и жажда заставляли пить ее сквозь зубы. На каждом дневном переходе попадались колодцы – с широким устьем небрежно разрытые ямы. Прежде чем достать воды, подолгу приходилось выгребать сырой песок, идти дырой все вглубь и вглубь, а потом часами ждать, пока насочится вода…
Ночь была свежая, лунная. Ехали сгрудившись, стараясь держаться плотнее. В родных горах не раз случалось в одиночку путаться ночами по глубоким падям и уремам, слышать треск под крепкою ногой косматого «хозяина», ночевать в покинутой избушке разоренного бродяги, сталкиваться носом к носу с темным человеком, но все это было родное, свое. Пустынные поля пугали мертвой мощью, нехорошей, жуткой пустотой. Лучше бы кручи безумные, чем эта, проклятая небом, застывшая навеки зыбь, давно покинутая всем живым.
При лунном свете серые пески лежали рябью, темными прерывистыми полосами. Чем дальше, тем меньше, короче и ниже становились полосы, сливаясь в ровное, безгранно-огромное поле.
С самого утра на душе неспокойно. Бергал отстал и не показывается. Случилось вечером: у колодца застали небольшой калмыцкий караван. Хрисанф соблазнился, на коней позарился. Стал торговать – не вышло: выдавал за них дешевле, чем за курицу. Обидно стало: вдруг орда и на тебе – артачится. Дальше – больше. Остальные поддержали. Асон с Панфилом вспомнили былое, как насели, как вскинули ружья! Не дрогнула старая рука, наметанная на прицелах по калмыцким головам… Долго кружились и кричали калмыки, попусту разбрасывая стрелы, и не выдержали, побежали, побросавши все добро, оставив пятерых убитыми. Сенечка действовал на славу, а как начали делить, Хрисанф обидел, отобрал вороного коня. Из-за этого коня Бергал и бился, только одного и видел, когда грех на душу принимал – уложил двух человек да побывал на третьем, а Хрисанф налился кровью, подскочил и выхватил из рук поводья.
– Где тебе! Не к рылу конь-то.
Сенечка осатанел, накинулся, да тот отшвырнул его, ногой притопнул и еще расхохотался:.
– Как его забрало, парень!
Теперь Сенечка пропал. Когда пошли со стану, он остался. Думали, догонит, как бывало не раз, а теперь и не придумаешь, куда его закинуло.
– Нет, скажи, кого он там удумал? – снова вспомнил Назар, обращаясь к Асону.
Старик солидно помолчал, поправился в седле и нахлобучил глубже шапку.
– Надо так располагать, что обернулся… Без пути ему с нами.
Он не одобрял Хрисанфа, но и от Бергала с самого начала не ожидал хорошего.
– Лучше бы и не вязался. Миру не выносит, как поганый ладану, а сам все вяжется.
– Душа, парень, ищется, – вставил задремавший в седле Анисим, – жизнь-то шибко уж нескладная, собачья, прямо, так сказать, ну, оно и манит к людям.
– Ну, дак ты пошто все выкамуриваешь? – внушительно спрашивал Назар, будто обращаясь к Сенечке. – Слова гладкого не скажет, все с гвоздями, с заковыками. Покуль гладишь по шерсти – молчит, а поведи напротив – ерихорится.
– Да подавись он и конем-то! – отзывается Хрисанф. – Лошаденка так себе, запаренная, с виду только манит. Будь он с ней! Бери. Отдам…
Панфил придерживает лошадь.
– Всякому, Хрисанф, не за любо покажется. Всем известен Сенечкин обычай. Надо бы подальше.
– Да кому тут коня-то? Ну, скажи, кому отдать? Добро бы, путный был. Сесть путем не сядет, все с пенька таращится.
– Нет, ты шибко его не охаивай, – вступился Анисим, – с лошадью он мастер.
– Мастер! Тоже выговорит… Да отдам, поди он к ляду.
Сам поддернул повод воронка и так сдавил его ногами, что лошадь захрапела, испугалась и шарахнула задом Василисину кобылу.
– Держи, ли чо ли! – взвизгнула баба, хватаясь руками за гриву. – Топчется и топчется…
– У-у ты, Азия! – рычит Хрисанф, еще сильнее забирая повод. – По обычаю видно… Только норовит, куда бы в сторону.
В хвосте, за отбитыми с баранты лошадьми, плетутся молодые.
– Жалко, слышь, Сенечку, – вздыхает Акулина.
Иван что-то думает и убежденно говорит:
– Не пропадет он.
Тяжелой поступью ныряют кони по холодным песчаным холмам. Идут, понуря головы, ленивым шагом. Животы подтянуло. Во рту высохло и горячо. По привычке, будто все еще не веря окружающему, наклоняют они головы и ищут пересохшими губами травы. Но губы прикасаются к холодной и мертвой земле.
Кони чуют что-то необычное, смутно-тревожное. Все идут в полусне и вдруг, словно по команде, высоко поднимут головы, насторожатся, вслушаются, глубоко потянут в себя воздух. Тревога переходит к людям, но никому не хочется сказать об этом.
Перед светом отвоеванные кони стали беспокоиться. Потеряли и усталость. Бодро вскидывают головы, строчат ушами, озираются.
– Не Сенечку ли чуют? – высказал догадку Анисим.
– Бывает это, балуют, – успокоил Асон: – она животная степная, дикая. Взыграют вот, мотри.
Он, обернувшись, крикнул:
– Эй, бабы! Поддержись, кто на калмычках. Тетка Дарья! Ты, однако?
– Чо это?
– Да поддержись, мол. Кони уросят.
Дарья и сама заметила.
– Моя-то все ушами хлопает.
– Ну, вот то-то. Штоб тебя не схлопала.
Хрисанф долго вслушивался. Наконец, когда оживший воронко и еще другой калмык – буланый под Панфилом – звонко и надсадисто заржали, он не скрыл беспокойства.
– Што за притча? Тут, мотри, не Сенечкой попахивает.
– А кого тебе почудило? – пряча страх перед чем-то, засмеялся Назар.
– Да уж это, брат, так – свату сват поклон заказывает. – Он натянул поводья.
– Осади-ка малость. Эй, Панкратыч, придержи.
Все задержали лошадей и, тесно съехавшись, посмотрели на Хрисанфа.
– Землю вот послушать, – ответил он на общий молчаливый вопрос, слезая с лошади, – она не утаит, сейчас расскажет.
Остановившиеся лошади, как по команде, повернули головы, насторожили уши, и опять жеребцы залились, подбирая тощие брюха.
– Я боюсь, Ванюшка, – вздрагивала Акулина.
– Погоди ты… помолчи.
Он сознавал, что, может быть, близко уже то, о чем так много говорили по деревням, чем беловодцы так гордились. Смутно чувствовал, что им, закинутым в пустыню, угрожает что-то и это что-то не от них и не с ними пришло, а наслала его пустыня. Боязни не было. Хотелось открыто и смело посмотреть в глаза тому, что надвигается из холодной, затянутой подлунным сумраком могильной дали. Он наклонился к передней луке и чутко слушал, вглядывался.
– Зря, поди, все? – усумнился Анисим. – Где-нибудь отбилась лошаденка, шарится.
Хрисанф, едва передвигая ноги по песку, отошел и растянулся на земле, прилип к ней ухом. Все затихли. Прошло, казалось, много времени. Хрисанф вскочил. Его засыпали.
– Ну, сказывай!
– Слышно?
– Слышно, што ли?
Он ответил одним словом:
– Наступают.
И никто не нашелся ничего сказать.
– Коней, так, десятка три, не меньше… Подвигают ровным шагом.
– Да кто это? – выкрикнула перепуганная Василиса.
– Нас проведывать с деревни едут, – огрызнулся Хрисанф.
Панфил заторопил.
– Садись, садись! Поедем шибче. Ежли чо, так и уйти не хитрено.
– Куда уйдешь? – наплыл Хрисанф. – Куда уйдешь?..
– Куда тут? – согласился Асон.
Дарья заскулила:
– Вот не надо было по-людски, так бог послал… Отольется за разбой-то…
– Помолчи ты! – строго и испуганно крикнул Назар.
– А помолчи-ка сам! Вот посмотрю, как завертишься. Ну, што теперь? Куды тут?.. Матушка царица, богородица!..
– Ой-ой-ой! Да што это, скажи, нам навязалось… – сквозь слезы вздыхала Василиса.
– Бабам в кучу и молчать! – властно зыкнул Хрисанф.
Не слушая жалоб и стонов, он окинул взглядом всадников и, сознавая силу, стал громко приказывать:
– Коням смену! Пересядь на заводных! Полы за пояс! Стремена огляди, узду! Подбери чумбуры! Сумины сделай на отлет – как ежли уходить, так чтобы сбросить сразу. Да зря не бросай. Без харчей пропадешь. Стреляй не сразу – надвое. Покуль трое заряжают – трое отбивайся. Цель в упор! Сади на муху! Пистон обмени. Подсыпь на полку!..
Небо на востоке задымилось серой мутью. Звезды потеряли яркие иглы-лучи: подходит утро. Стан, готовый к бою, ровным шагом, бесшумно плывет по пескам. Разговоров не слышно. Лица строги и спокойны. Но старики и молодые поминутно смотрят, вслушиваются в белесую глухую муть. Теперь уже ясно, что их обходят, окружают.
– И завсегда вот так, – бросает спокойно Хрисанф, – заездом норовят, собаки.
Круг понемногу суживался; скоро видно стало всадников. Они двигались редкими звеньями, все приближаясь, все затягивая так хорошо закинутую петлю.
И когда невмоготу стало терпеть, когда цепь, казалось, захлестнула вокруг горла, Хрисанф не выдержал. Высоко привставши на стременах, он страшно крикнул что-то непонятное, бросил дерзкий, требующий вызов. Кругом вздрогнули. А лошади нетерпеливо перекликнулись и зашагали нервной поступью.
В цепи, будто выждавши должное, где-то справа, звонко крикнули, и не успели мужики взять на прицел, как в воздухе взвыли грузными шмелями длинные, тонкие стрелы. Дарья взвизгнула, взревела и тяжело упала на бок. Под Асоном взбеленился рыжий: вдруг осел, поднялся на дыбы, лягнул кого-то задом и, взбешенный, ринулся от круга, унося в своей шее стрелу.
– Держи Асон! Держи! – кричал Панфил, прицеливаясь влево.
Грянули гулкие выстрелы. Но снова прогудели ядовитые шмели, впиваясь в сгрудившихся лошадей, и, словно по сигналу, цепь с визгом и криком захлестнула окруженных. Мужики в упор ударили огнем из широкогорлых и длинных стволов, без прицела, по намету. Тяжелыми черными комьями грохнулись двое в песок, но остальные стиснули, в мгновение смяли баб и мужиков, насели с диким ревом, потрясая копьями.
Хрисанф увидел, как Панфил с плеча хлестнул нагайкой подскочившего к нему калмыка и вдруг словно осел, потерялся с коня, а над ним уже суетливо топтались с победными кликами двое. Где он? Как с ним?
– Ну, Панфил, не сдай же! Ну, не сдай, Панфил! – закричал Хрисанф, да так, что справа шарахнулась чья-то брошенная лошадь. – Держись! Крути его!.. Прочь, собаки! Размож-ж-у!
Он ударил коня в ребра и, держа ружье за ствол, взмахнул им, как дубиной. Кто-то дико вскрикнул, что-то хрястнуло под кованым прикладом. Лошадь, скаля зубы, взвилась на дыбы и грудью врезалась в свалку. На песке, ворочаясь, пыхтел Панфил. Не сдержал, видно, старый двух крепких молодых волков. Хрисанф резко опустил приклад и под ним в предсмертной судороге закрутилось что-то грузное, живое. Новый взмах – и Панфил уже был наверху, доканчивая дело своим верным ножом. Он работал молча, и Хрисанфа радовало, что старик так ловко и проворно управляется с насевшими.
– Вали, Панфил! Вали! У-ух ты! Ого-го!
Он тигром рыкнул, круто повернул коня и совсем приготовился обрушиться туда, где с визгом и ревом крутился живой черный клубок, как страшный удар по затылку черным колпаком накрыл все окружающее. Шапка свалилась. Снопом ослепительных искр, как освещенная полуночною молнией, вспыхнула в глазах пустыня. Но свет погас, как и вспыхнул, мгновенно. Хрисанф зашатался и уже готов был опрокинуться с седла, как на горло легла петля. Едва держась на прыгающей лошади, он полусознательно приподнял руки и поймал у горла что-то крепкое, упругое. Побеждая угасающую память, чуть открыл глаза… Бергал!.. Или смерть в его образе? Напряг все силы, разом сбросил с себя черный и душный колпак, оторвался от петли. Нет, нет! Это Бергал! Это Сенечка! Лезет вместе с лошадью, будто переехать хочет, злобно и страшно шипит. Вот выдернул нож!.. И загорелся Хрисанф, пожаром вспыхнул, бросился на Сенечку голодным волком, перевернул его через седло, грузно рухнул вместе с ним, подмял, ударил головой о землю, стиснул крепкими руками глотку… Бергал, умирая, хрипел, а над ним хрипел Хрисанф:
– Христопродавец! Собачье подхвостье! Вот куда! Так вот-те! Вот-те! Сволочь!
Раненая лошадь, потерявшая седока, наткнулась на Хрисанфа, перепрыгнула, хлестнула его задом по спине.
Хрисанф отпал от Сенечки, опомнился. Но чуть привстал, как на него наплыли толпой те, куда он только что так рвался. Баб скрутили, волокут и отбиваются от мужиков. Пыхтят и гайкают. А Ванюшка с Анисимом работают по головам. Но вот обломился Анисим – не остерегся заднего.
Хрисанф вскочил.
– Не сдай! Иван, не сдай!
Как пудовые молоты, опустил он жилистые кулаки, – и погнулись, захрустели кости. От баб разом отступили. Ванюшка поймал Акулину и не знает, куда деться: помутился разум, растерял всю силу.
На Хрисанфа навалились трое, но над ними гаркнул кто-то пронзительным и властным криком, ему отозвались во всех концах, и шайка хлынула в пустыню…
Все пропало. Словно ничего и не было. Будто ураган пронесся. Налетел безумный, беспощадный, закрутил и разбил, и ушел, свободный, к граням неизведанной пустыни, унося с собой надежды.
XIII
Солнце поднималось над землей багровым шаром. И побледневшая перед его лицом лазурь, и до земли пронизанный лучами-стрелами сухой недвижимый воздух, и пески, подернутые мертвой рябью, – все было залито жарким золотом. Но не жизнь к радость, не смех и песни были в знойном молчании – то было великое молчание смерти. Она была близко, была разлита всюду и, спокойная, открыто смотрела беловодцам в глаза. К ней подошли вплотную.
Могилы Сенечки, Асона и Анисима почти не выделялись из песчаных холмов. Назар с Панфилом молча мастерили крестики из завезенных веток саксаула, перевязывая их суровой пряжей. Ветки, сухие и корявые, плохо прилегали, и так они были изогнуты, что только страстное желание подсказывало, что у того и у другого получились не перепутанные диким ветром пучки высохшей травы, а намогильные кресты.
Отпевали покойных по полному чину, хотя гробов и не было. Панфил служил истово, спокойно и торжественно. Теперь, соорудивши крестики, опять молились и вздыхали. Василиса обезумела, лежит пластом и не шелохнется. Глаза открыты. Дышит и не дышит. Помутнело небо. Потерялось солнце. Все ушло куда-то, сдвинулось в тусклые дали. Что случилось? Где она?
– Все теперь ладно, – нарушил тяжкое молчание Панфил, оглядывая бугорки с корявыми крестами.
Василиса вдруг метнулась орлицей, грудью упала на могилу мужа.
Она не могла уже плакать, не могла причитывать. Отдала все слезы серому песку, а слова разбросала по ветру. Она стоном выливала свою смертную боль и, упавши лицом в землю, скребла ее пальцами, будто умоляла бесстрастный песок разверзнуться и отдать ей Анисима.
Дарья скорбно наклонилась над ней и положила руку на плечо, но ничего не посмела сказать: пусть до конца изольется, пусть выплачет горе.
Все сидели молчаливые, тяжелые. А солнце крыло раскаленным одеялом, и под ним становилось так душно, что хотелось уйти в землю и от света, и от зноя, и от этих могил. Велико было горе, но некогда было ему отдаваться. Между мертвецами и живыми вставала бездна, и чем выше поднималось солнце, тем чернее и глубже становилась пропасть, тем дальше и дальше уходили ее берега. Предстояло сделать выбор – перешагнуть через могилы и дерзнуть идти в пустыню или возвратиться к граням жизни.
Лошадей угнали. Уцелела Василисина рыжуха, но и та была исколота, изрублена. Воды и харчей оставалось так немного, что только дня четыре – пять можно было на них продержаться. Все пропало вместе с лошадьми.
Хрисанф долго смотрел на песок и тяжело о чем-то думал, потом прошел глазами по всем лицам и остановился на Панфиле.
– Ну, Панкратыч, сказывай, как помекаешь?
Голос был тихий и покорный. Панфил кротким, но открытым и решительным взглядом посмотрел кругом.
– Миром надо.
– Миром – это правильно. Вот и сказывай. Тебе начало класть.
– Говори, Панфил, – расклонился Назар, сдвигая на затылок кошомную шляпу.
– Говорить надо немного. Слова человеческие, что песок в пустыне: больше говоришь – глубже истину хоронишь.
Он помолчал, поправляя разбитую руку, оглянулся, сдвинул брови, будто клал на весы последнюю, самую малую гирьку, и заговорил тем учительским тоном, к которому привык в моленной.
– Господь нас, братия, настиг… не калмыки – господь! Великое нам испытание поставил. Так-то, разом, без искусу – где же! Пошел – и сразу все тебе открылось… Будто бы на пасеку приехал. Нет, ты огнем опали свою грешную душу, источи из сердца кровь, претерпи до конца… до конца претерпи!
Панфил возвысил голос.
– Без того нельзя помыслить! Страсти нам господь послал, большие страсти! А оно все к лучшему. К лучшему, братия! Великое горе ниспослано. Душа-то пала, страхом убило ее. А это господь нам милости послал. Допустил, знать, до горна небесного, чтобы горем да слезами выжгли все поганое. Доброе это знаменье!
Хрисанф нетерпеливо кашлянул и, глядя в упор на Панфила, спросил громко:
– Значит, дальше пошли?
Панфил вздохнул.
– Назад-то некуда.
Хрисанф долго молчал, рассматривая каждую морщинку, каждый белый волосок на лице старика.
– А эти как? – показал он на баб. – Как ты с ними?
Назар совсем собрался сказать что-то свое, накипевшее, но Иван перебил:
– Кого там разговаривать! – выкрикнул он, вскакивая на ноги. – Не пойдем никуда! Покуль целы остались… куда еще? Дай бог выбраться!.. Баба у меня на сносях ходит. Не пойду!
Акулина испуганно поглядела на Хрисанфа, а тот насупил брови.
– Молодой, да шершавый! Помолчал бы, стариков послушал!
– Не пойду!
– Но, уймись, ли чо ли! – пригрозил Назар, вставая на колени.
– Ты, Панфил Панкратыч, разбери теперь вот што! – волновался он, стараясь высказать набежавшие мысли. – Коней-то нету, харчей-то – вот оно все тут, а пески – конца им не видать. На смерть пойдем мы, Панкратыч. Наказание, может, и вправду нам на милость, а только без харчей не пойдешь. Ну, куда без харчей?
Замолчал и, обтирая ладонью мокрый лоб, взволнованно перебежал глазами по всем лицам. Ему казалось, что и слов не сыщешь сказать убедительней. Ведь так это просто, так понятно: нет харчей – нельзя идти.
Панфил, ни на кого не глядя, сказал тихо-тихо, будто самому себе:
– Близко тут.
Хрисанф прищурился.
– Докуда тут близко?
Но Панфил не ответил.
– Вот чево, Панкратыч!
– Сказывай!
– Не допустил господь, наперекор идти нам не с руки. Вот оборотимся, да сызнова.
Панфил тяжело пересел с ноги на ногу.
– Куда я? Мне не обернуться. Я с обетом.
Хрисанф начинал закипать.
– Обитель ты все… Где она? Кому указана? Надо до угодьев пробраться… Оттоль и к обители можно…
– Нет уж, пойду, – спокойно отозвался Панфил.
Хрисанф насупился. Не мог он, сильный и кипучий, выносить его голоса, такого кроткого и тихого, но всегда спокойного, решительного.
– Так ты што тут? А? Хоронить всех хочешь? Разом штобы?
– Не кричи, Хрисанф Матвеевич, – невозмутимо посмотрел ему в глаза Панфил.
– Хоронить всех? Не пойдем! Вот до вечеру только, а потом одно нам – назад подаваться. Назад! Доскребемся до гор – значит, живы. Умирать не захочешь – дойдешь…
Дарья всхлипнула, взвыла:
– Выведи ты нас, батюшка! – Она обернулась к Хрисанфу и упала головой ему в колени. – Выведи, Хрисанф Матвеевич! По гроб, по конец своей жизни буду бога молить… Пропадем мы тут… Разнесет, развеет наши косточки.
Хрисанф не слушал.
– По мне – этак, а там как кому приглянется. К вечеру складаться…
Назар скорбно крутил головой.
– Ой да, и скажи, стряслось же! Вот напасть! А все Сенечка! Увязался, слышь, на грех да на свою погибель. Ведь это что, скажи, выкинул! С ордой спознался! А?
– Собака драноглазая! – скрипнул зубами Хрисанф.
Он взглянул на могилу Бергала, вскочил, вырвал крестик, изломал и бросил.
– Крест! Куда ему с крестом? К сатане без креста хорошо… Кол ему осиновый!
Панфил в ужасе встал и, вихляясь на тонких ногах, растопырив руки, бросился к Хрисанфу.
– Што ты, што ты! Богородица с тобой! Покойный он!
– Сенечка?! – дерзким хохотом захохотал Хрисанф.
Старик, как стоял, уронил свои руки, ничего не мог сказать и сел.
– Отвернулись! Уходят! Потерял былую силу. Ни словом, ни голосом их не вернешь. Хрисанф теперь им сила. За Хрисанфом пойдут. Не отстать им от мира.
Он не слышал голосов за спиной и не видел, как прошел мимо Хрисанф. Голову теснили тяжелые мысли, немощное тело побеждало дух. Перед Панфилом поплыли в волшебном мареве родные горы, развернулись темные луга, напитанные влагой, напахнуло терпким ароматом большетравья, и живой перед ним стояла грязная деревня со знакомыми домами, с моленной и гурьбой ребятишек на улице. Спокойно там, сытно… Все опять будет свое, родное. Примут с радостью. Будут долго охать и расспрашивать, а там пойдет по-старому.. Пасека брошена. Угодье-то какое! Лесу, лесу! А воды! И бежит она с кручей, будто песни поет. Не замолчит ни днем, ни ночью. И цветов, и трав там всяких! Красота господня! Утром встанешь вместе с солнышком, и нет тебе ни суеты и ни печали. На слезу позывает, как посмотришь. Молится каждая травушка, стоит тихохонько, а молится. И лес, и горы, и букашка всякая, и солнышко – все смеется ангельской улыбкой… День-деньской – по колодкам, а устали нету. От пчелы отстать не хочется…
Панфил сидел, склонивши голову в колени. Акулина, сама разбитая, пришибленная, не могла оторваться от Панфила. Она издали следила за ним и жалела его женской теплой жалостью.
– Один! Куда он? Да и как с ним? Умирать он собрался уж, што ли? На день, на два хватит, а там сгинет… Может быть, и передумает? До вечера-то долго. Ой, дождаться бы только! Нету силушки сидеть среди огня.
Солнце будто и не движется, остановилось в небе. Акулина, спасаясь от жгучего света, прилегла на сумы и наглухо закрылась шалью. Господи! Да неужели же не выйти! Не пожить в деревне по-людски, не походить за домом! Да ведь она бы избу-то держала, как игрушечку!.. Ванюшка хочет на полянке выставить, за Иваном Елисеичем, над самой речкой. А на речку – балкон… расписной… Хозяйство сладить помаленьку. Все бы к месту, все в порядке. Мимо дому добры люди не прошли бы. Жить да радоваться… И вдруг вспомнила… Ребенок! Замерла душа в тоске и сладком трепете. Словно с жару студеной водой по спине окатило. Промелькнуло то, как сказал Ванюшка: «Баба у меня на сносях ходит». И казалось, что это правда, что должно оно случиться скоро, что уже близко это страшное, великое, таинственное. Нет, скорее, скорее! На деревню, к людям, в свою избу!..
Акулина в смятении откинула шаль. Солнце обожгло и ослепило ее, а в его сиянии стоял Панфил. Стоял без шапки, опустивши руки. Но это уже был не тот Панфил, что сидел на песке беспомощный и немощный – сухое, длинное лицо его горело волей. Он стоял без движений, без слов, но по глазам, по каждой тонко вырезанной складке на лице все видели, что он решился, что он остается один, и никакие силы не вернут его.
XIV
Вторые сутки были на исходе, как Панфил все шел и шел. Море-озеро святое было близко. Когда солнце накаляло и песок, и воздух, в дальнем мареве вставали тенистые рощи, и тогда Панфил с новой верой, с новой силой смотрел в сияющее небо. Ему ночью было чудное видение, и он знал теперь дорогу. В котомке у него лежала старая из старых книг – благословение родителя, и с этой книгой, верил он, его пропустят. Книга правильная.
Плечи давит длинное, тяжелое ружье, горячим камнем налегла на голову пуховая шапка, ноги тонут, обрываются, скользят в песке, во рту давно уж сухо, глотку обжигает с каждым вздохом, по губам сочится кровь, а в глазах нехорошо – темно и мутно! Но сквозь темь и муть опять маячат острова и рощи. Близко, близко! Только бы до берега! Припасть к воде…
Но спустилось солнце с неба – и пропали дивные леса…
Был третий полдень. И все также, без границ и без жизни, расстилалась желтая пустыня. Панфил, маленький, сгорбленный, переползал с холма на холм, и высокое солнце видело лишь черную фигурку, в безумстве борющуюся с пустыней, да воробьиный дробный след в волнах песка.
Все медленней и медленней ползет безумец, и вот-вот затихнет, остановится, и оборвется след.
Панфил уже минутами не сознавал, идет ли он или стоит. Ему было все равно. В глазах потемнело. Леса ушли. И возроптала душа. Он давно уже бросил и ружье, и кафтан, идет теперь, делая последние шаги, чтобы пасть и не встать.
Совсем один! Ушли! Теперь подходят к первому колодцу. Жалость и боль за себя вызвали откуда-то последние соленые слезинки… Вспомнилось, как расставались.
Акулина подошла украдкой.
– Дедушка, пойдем, ли чо ли… пропадешь тут. Где тебе?.. После… потом сходишь опять…
Сама плачет и хоронится, чтоб не заметили.
До слез это тронуло. Не баба – золото. Сердце голубиное. Благословил ее горячей старческой молитвой:
– Награди тебя господи за доброту твою, за ласку…
Будто с покойным прощались, искушали сатанинскими речами… Хрисанф не выдержал. Пойми его! Все бегал, рыкал, а как простились да ушли – вернулся. Далеконько были – прибежал.
– Ну, Панкратыч, поднимайся. Будет! Ждут там. Без тебя не пойдем…
Уж не дьявол ли в образе Хрисанфа? Сомустить хотел. Да не дался ему. Заклятием великим отпугнул… Ушел ярый, с богохульными словами…
И опять щемит сердце, да не осталось слез, все высохло.
«Захотели бы, так на руках, силком подняли… Лишний, верно»…