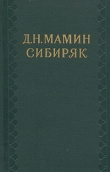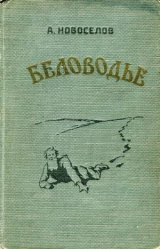
Текст книги "Беловодье"
Автор книги: Александр Новоселов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 12 страниц)
– Не иначе, как Манефа: она девка еще хоть куда.
Но Аннушка всхлипнула уже без смеха и замолкла, будто заперли глухую дверь. Василий понял что-то, потерялся и стоял среди сарая с виноватой улыбкой.
Перед ним была монашка. Шутил с ней, говорил простые деревенские слова, а все побаивался досказать, не решался быть как со своей, с мирской. И вот она вся в черном, а лежит и плачет попросту, по-девичьи. Смеется ли, плачет ли – не разберешь. Нет, плачет.
И вдруг осмелел, позабыл послушницу-тихоню, видел только ту, простую и понятную. Уверенно шагнул и сел с ней рядом на траву. Но девка вздрогнула, проворно вытерла глаза и, оправляя подол, расклонилась. Не взглянувши на Василия, она уставилась глазами в стену и застыла, опять постаревшая, вся недоступная, суровая, чужая. Крепко сжатые губы и углом разломленные брови на лицо набросили не девичью строгую маску – не стало Аннушки, сидит послушница. Да нет же, нет. Прикинулась только монашкой. Жадно, воровски смотрел Василий на подернутый пушком обрез лица, на круглые плечи и спину, на запрятанную в пелеринку грудь. Вот какая. Нарядить бы в бисер да рубаху с вышивкой, а косу бы с лентами выпустить… Не стыдно с этакой проехать по деревне… В кошеве на коврах… С бубенцами на тройке… Дружко Никита впереди… Кровать с пологом на чистой половине…
Грешные мысли набежали суетливой толпой, закружили, опьянили – стало страшно и сладко. Но Аннушка пошевелилась, и Василий испуганно поймал случайно наскочившее:
– Постригаться, сказывают, хочешь?
Она удивилась глазами. Помолчала.
– Кто говорит?
– Болтают старухи.
– За тем пошла. Не знаю. Может, удостоят. Как игуменья – в ей вся сила.
Василий, нагнувшись, вытянул из-под ноги травинку.
– На людях места мало, что ли? С тоски тут задавит. Ишь ведь собрались, могильные…
– За тем пошла, – отрезала упрямо Аннушка, – на свой-то рот зароблю здесь, никто не выкорит, а там…
Дрогнул голос, испугалась, отвернулась.
– Окроме Селифонта никого не найдется? – спрашивал Василий с укором: – Не запросили бы его добра, не шибко надо. Есть вон, сказывают, на Убе Пахом Гаврилыч, так он за добром не пойдет к Селифонту, приданого выряживать не станет. Ему хватит и без этого. За такой-то снохой, говорит, я тысячу верст за полпути положу, хоть сейчас, так можно, лишь бы по закону…
Аннушка слушала, едва понимая. Крепко билось сердце, нагоняя на лицо горячий стыд.
А Василий застыдился и сам. Сломал на мелкие куски травинку и вскочил к лошадям.
– В-во, настукались как! Не запрели бы только с монастырского едала. – Он говорил опять, как всегда: – Седлаться скоро… Теперь до весны. Вот рази, как заедем лес сочить на Бугрышиху-речку… После петровок сразу. Недели на две. Близко тут. Если взять через Волчий ложок – не больше дня…
Василий охорашивал коней, гладил их по спинам ладонью, щупал толстые коленки.
Аннушка смотрела на него – на курчавые светлые волосы, придавленные узкополой шляпой с цветочком спереди, на бордовую рубаху, сильно загрязнившуюся в эти дни, думала: «К чему он это? Вчера тоже говорил. Приедет, видно».
– Ну, да где же, – как бы отгадавши ее мысль, продолжал Василий. – Дай бог с лесом управиться. Участок вон какой заметили. Народу мало…
На стене обрезалась вдруг с потолка до земли яркая полоска света и поползла в одну сторону. На ней выступила головастая широкая фигура.
Аннушка вздрогнула, обернулась к двери, из-за косяка смотрела Параскева.
– Ты не здесь ли, Аннушка? – вглядевшись, потянула она сладко и ласково. – Надо бы там малость… Подь сюды.
Аннушка вскочила и пошла, прилипая к земле, будто на каждом шагу прирастала к ней накрепко. С дороги оглянулась, но Василий припал к лошадиной спине и ничего не видит – не его это дело. Подошла в упор к старухе, чуть взглянула, и упала душа: глаза колют, обжигают позастенной крапивой. Взялась было за дверь – хотела услужить, да Параскева уцепилась, не дала, сама открыла и ждала покорно, пока Аннушка вышла на улицу.
V
– А она сама, сама, Матренка-то!.. Не уважит ему… сама спуталась с рыжим!.. – страстно и отчетливо сказала Манефа со сна.
Аннушка испуганно приподнялась на локте.
– Чего она там?
Но Манефа пожевала губами и затихла.
Подходило полмесяца, как Аннушку перевели к Манефе: старухе крепко занедужилось.
Низкая тесная келейка с квадратным глубоким окошком была срублена еще в ту пору, как заводили обитель. Порадели строители, воздвигли келейку на славу для самой игуменьи. Гладко тесанные бревна обнялись, полегли друг на друга и не растащишь их теперь, не сдвинешь – все обхватные сутунки. От жилья да от копоти помеднели и закрепли как смоленые. От двери заняла полстены беленая лежанка, а поперек избы у дальней стенки – кровать Аннушки – три топорных толстых плахи на высоких козлах. Плахи застланы серой кошмой, а в головах – из обрубка деревянная пологая катушка.
Душно в келье, смрадно от желтой лампадки. Ночь удалась тяжелая и темная. Не шабаршит по стенкам старая черемуха, что разрослась под углом, и не гудит по белкам полуночная погода – ждут чего-то и леса, и горы. Только речка, как и днем, без устали звенит и плещется. Не к добру затихло: где-то собралась, разгорелась гроза и идет по горам на обитель.
Темное оконце все чаще вспыхивает бледным слабым светом, а за горами неясно и глухо гремит, будто проезжают на тяжелых телегах по высоким деревянным мостам. Земля под келейкой тревожно вздрагивает.
От лежанки тянет жаром. Черная заслонка пялится из темноты широкой пастью с длинными повисшими усами – сохнут, преют на ручках шерстяные чулки. А над пастью, в белом гладком лице – провалившийся глаз – любимая Манефина печурка.
Аннушка отбросила суровую азямину, раскидалась по постели. Волосы полураспущенной косой легли через плечо на кошму. Серая холщовая рубаха спустилась с плеча и впилась крепкой кромкой в горячие груди.
Опять то же. Подряд уже много ночей. Василий. Вот он. Желанный, ласковый, единственный. Вот он, ясный и страшный, непонятный и простой – лежит рядом, мучитель. Выпил кровь до капельки, разорвал на части сердце. Нет спасенья от него, душит ласками…
– Не надо, не надо!.. Ну, иди, иди!.. Возьми меня, возьми. Возьми всю до единого… На, на! Все тебе, все!
Рука тискает груди, стучит и рвется сердце, гонит, по жилам огонь – не потушишь его, не зальешь. Дышать нечем. Потолок навалился, опускается все ниже… Вспыхивают молнии, холодными ножами режут черную глухую ночь. Идет что-то страшное, похожее на смерть. Тело выгибается, ложится в муках грудью на колючую кошму…
– Вот я, вся тут… Возьми!..
– Ой, ой! – в смертельном ужасе кричит Манефа, кричит хрипло и пронзительно, по-заячьи.
Пропал, провалился Василий. Аннушка вскочила, села на кровати, проворно натянула сбившуюся становину на ноги. Манефа стоит на коленях, и ищет что-то на стене руками. Шарит, ловит пальцами и говорит себе под нос непонятное быстрым-быстрым говорком. Подошла к ней Аннушка.
– Бабанька, ты чо это, бабанька?
– Вот она, вот! – уже понятно говорила Манефа. – Заплелась… не распутаешь.
Аннушка поймала за руки, Манефа задрожала и опустилась на кошму, не открывая глаз. Легла и забылась в кошмаре, маленькая, высохшая, уже вполовину нездешняя. Редкие седые волосы были перекинуты косичками вокруг головы, а теперь косички, связанные тонкой холстинкой, отметнулись вверх на изголовье. Красноватый мигающий свет от лампадки ходит волнами по стенам, но лежанке, по свернувшемуся в маленький комочек телу, и представляется это тело, едва прикрытое пестрядинной рубахой, совсем не матерью Манефой, такой строгой, ворчливой и набожной, а прозябшей на морозе девочкой, которая вот-вот не сдержится – заплачет тонким голоском и попросит поесть. Личико перекосилось, сморщилось, сейчас вот дрогнет, обольется слезами.
Аннушка посторонилась, всмотрелась – нет, она это, она, Манефа, и морщинки Манефины – стянули кожу, раскололи углами и клетками, ушли с лица на шею и на грудь, чем дальше, тем мельче. А под кожей уже ничего не осталось, и висит она опустевшими мошонками на шее, на щеках и на груди.
Аннушка стояла, холодея перед открывшейся тайной – перед старым изношенным телом, из которого в мученьях вырывалась душа, и смотрела себе на руки, такие крепкие, зажженные на солнце, подубевшие.
– Вот так же высохнут, вот такое будет все-все тело. Горб за шеей натянет… В руках костыль… Лицо сморщится, – блеснула в памяти зеркальная заводка, где так ловко черпать воду, – погаснет краска, побелеют волосы, зубы вывалятся. Ночью вот так же, на этой лежанке.
Обожгло все тело, по спине проворно пробежали ледяные струйки.
– Нет. Не надо. Господи! Нет. Куда я? Куда я?
Аннушка стиснула лицо ладонями и впилась глазами в черный угол над лежанкой.
– Уйти! Забежаться куда-нибудь?..
По долине стремительно пронесся шумный вихрь, навалил черемуху на стену, загремел неплотной дверью, шустрыми руками с крыши до земли обшарил келейку и убежал в ущелины будить леса и травы. За стеной полыхнуло, сдвоилось ярким солнцем и пропало – свет ушел бесшумно сквозь стены, а перед глазами все еще стоит уголок над лежанкой, где, как днем, виднеется тяжелая от пыли паутина и кусочек моху между бревнами. Но не видно стало ни лежанки, ни Манефы, почернело все в келейке. Аннушка, бессильно уронивши руки, обернулась к кивоту на стене подле окошка, где под тремя рядами образов стоял на столике, покрытом вышитыми рушниками, черный старый Спас. Перед Спасом горела вылитая из узорного стекла лампадка и лежали самодельные свечи.
– Свят, свят!..
Рука, поднятая ко лбу, плетью пала на бедро, слова оборвались: над самой келейкой столкнулись горы. Каменные груди раскололись и рассыпались обломками, упали на долину, на келейку. Но помог, знать, старый Спас – не подломилась келейка, лишь жалобно дрогнула, позвенела окошком и стоит себе по-прежнему.
Аннушка стукнулась коленями в пол перед Спасом.
– Господи! Господи! Господи!
Она рвалась к нему, впивалась кулаками в грудь, будто хотела отворить ее настежь и отдать все, положить на столик перед строгим ликом.
Опять полыхнуло, и в блеске молнии мелькнул Василий, – помаячил за окошком палевой рубахой и скрылся; другой молнией скользнуло по душе мирское, грешное, с которым мучилась в постели.
– Господи! Грех-то! Стыд-то! Что я за проклятая? Не погуби меня, господи! Помилуй! Помилуй! Помилуй!..
Хотелось молиться по-постному, со слезами, со стонами, но в глазах пересохло, а молитвы вдруг забылись, и те обрывки из них, что попадали на память, были слабыми, тошными, давно прискучившими. Из души рвались свои слова, свои нескладные молитвы.
– Да ты ведь, господи!.. Ты надо всеми!.. Тебе видно!.. Видел, господи, меня, поганую, видел, видел! Слышал ты меня и не убил, смилосердился… К тебе я, вот я! Возьми меня, господи! Куда я! Сирота я. Возьми! Помилуй, только помилуй. Не надо ничего мне. Отрекаюсь. Отрекаюсь. Иссушу всее себя, исчахну здесь, никуда не пойду. Не погуби!.. Не надо мне его. Господи, не надо. Будь он проклят! Будь проклят!..
Слова рвались горячим шепотом, и старый Спас, сойдя с доски, стоял перед Аннушкой, родной и близкий. Глаза его, мудро спокойные, смотрели в душу, все в ней видели до дна, и сладко было отдавать ему все это – все поганое и грешное.
– Вот я, вся тут, проклятая! Заступи и помилуй.
Одна другую нагоняя, с грохотом метались в небе молнии, носились птицами над острой крышей, яркие, стремительные, где-то падали поблизости, едва не задевая избу, а изба только дрожала, прижимаясь к матери-земле. За каждой вспышкой в келейке становилось темно: перед небесным светом умирала лампадка. Ветра не было, но все сильнее расходился дождь. Одинокими крупными каплями стегнул он сначала по крыше, а потом задробил, зачастил и разом хлынул многоводной широкой рекой.
– Господи! Господи! – колыхалась на коленях Аннушка, стараясь заглушить настойчивый упорный шум.
Но гром, трескучие раскаты, плеск воды – всю мятежную ночь испугал и спутал звон кусочка меди, что упал откуда-то на камни.
– К полуношнице!
Аннушка вздрогнула, потухла, положила голову на столик и закрыла глаза.
Сзади стонет Манефа, а тяжелые медные слитки падают с неба и гудят, захлебываясь, умирая в чем-то мягком и темном.
– Пойти!
Но Манефа опять бредит, на кого-то жалуется.
Аннушка встала, подняла светильню и украдкой оглядела икону, боясь встретиться с большими грустными глазами. Но Спас уже умер, стал опять такой же, как всегда, ушел на старую расколотую доску.
Аннушка встряхнулась, быстро сдернула с постели зипун и, накинувшись, вышла на улицу. Голова закружилась. В грудь ворвался запах леса и дождя…
Кутаясь и вздрагивая, Аннушка стояла на крыльце под широким навесом. Сквозь щели крыши где-то падали наперебой градинки-капельки, разбиваясь о пол, и брызги мелкими росинками садились на босые ноги. Дождь шел ровно и настойчиво. Вода бойко била с деревянных желобов в глубокие наполненные ямки и в темноте уходила из них говорливыми ручьями по наклону к речке. В небе все еще гремели грузные телеги, но обвалов уже не было – стоял ровный перекрестный грохот, то умирающий над самой келейкой, то уходящий в загорные дали. Искры божьего огнива, прячась и играя, неуловимо быстро разрезали тучи золотыми нитями, и всякий раз в небесной черной бездне вырисовывались тесно сдвинутые тяжкие громады, а под ними вырастали из земли и снова в нее уходили скалы и лохматые горы.
Колокол звенел то сильнее то глуше. Аннушка ловила его сквозь туман и, закрывши глаза, видела под колоколом Вассу: сегодня ее очередь.
– Заспалась, поди, сердешная! Честит игуменью словами всякими.
Вспомнила, как пробовал звонить Василий, когда приезжал. Ничего не вышло у него. Поболтал ногами, перепутал все веревки и бросил.
– Поди, скоро приедет… Обещался… Петров уже близко. За тобой, говорит… Увезу…
Дождь оборвался, схлынул. В небе все еще полыхало, но пожар затихал. Со звоном и рокотом бежали в темноте проворные ручьи – торопились к шумной речке, а одинокие последние капли дождя резко падали то на крышу, то в землю, то в большую лужу, что всегда стояла перед келейкой от частых ливней.
– Приедет ли? А как допустит игуменья?..
За дверью кашлянула, застонала Манефа. Аннушка тревожно вслушалась, готовая броситься в избу, но там опять было тихо.
– Мечется сердешная. Умрет, однако.
Из-за угла вдруг вырос огонек и пополз подле стенки, играя в лужицах живыми змейками. Подошла мать Феония. Но видит девка: пялится к окну, заглядывает.
– Ничего себе, спит, – отозвалась тихонько Аннушка.
Феония вздрогнула, отпала от окошка и направила фонарик на крыльцо.
– Не спишь, ли чо ли?
– Не сплю… Духота в избе.
– Ну-ну, толковала уж я – посадили в клетку голубя с вороной… Пособоровать бы надо. Говорила игуменья-то. Завтра, видно. Приуправь там, мотри, обиходь – соберутся. Пойти уж, помолиться. Через речку пройду ли: разлилась, однако, шибко… А вон Параскева тянется, вместе как-нибудь…
Она пощупала фонариком по полу и двинулась.
– Босиком ты. Шла бы в избу. Ночь ведь, сырость…
Под ногами у ней хлюпала вода, а шаги были неуверенные, мелкие. Фонарика не стало видно, и сама Феоньюшка утонула в ночи, только желтый расширяющийся снопок света суетливо бегал по бугру – искал потерянное.
Аннушка дрожала, кутаясь в тяжелый зипун, но вернуться в келейку было страшно и стыдно. Там упрямо ожидали ее Спас и Василий.
VI
Дни перед Петром и Павлом удались на завидаль.
– Послал же господи! – молитвенно твердила Феония, перекликаясь с Параскевой.
Феония с Аннушкой полоскали белье.
Стоя рядом на обнаженных камнях, они шумно плескали студеную воду, оглушительно, с плеча стегая по ней мокрыми жгутами – крепко выбитыми вальком рубахами.
Параскева завернула по пути и стоит позади на ярочке.
– Дни – чего уж! – согласилась она.
Спокойно и радостно было ее желтое в морщинах лицо. Подставила спину под солнышко и поводит плечами, нежит старое тело. Подобрела, затихла, не ворчит, не стонет, словно причастилась только что и не решается вернуться к грешной суете. А на небе – ни облака и над белками чисто, как давно уже не было. В бездонной сини круглым пламенем стоит полуденное солнце. Горы резко вычертили на небесных далях свои зубчатые грани и щетинистые под лесами закругленные вершины. Воздух чист и спокоен. Видно далеко и четко, видно всякую мелочь на опрокинутых в долину горных скатах – и отбежавшие в сторону пихточки, и мелкокаменные россыпи, сползающие с одиноких шишов, и черные ребра одетых в снежные лохмотья поднебесных скал.
Лето выстлало предгорья, холмы и долинку светлыми зелеными коврами, разбросало по коврам желтые, красные, синие краски. Ковры, вымытые ливнями, цветут и лоснятся невиданной парчой. А келейки тоже умылись, посветлели и стоят покойные. Солнце накалило крыши, рассушило доски, оно держит под лучами укрытую парчой сырую землю, и из земли к нему тянется сквозь пышные зелени дурманное ядреное дыхание. Оно кружит голову, томит и опьяняет, чуть приметной рябью колыхаясь по обрезам холмов.
– Ой, испекло! – расклонилась Аннушка, бросая на камень прополосканную штуку.
Она мельком взбросила глаза на Параскеву и сейчас же подхватила мокрую холстину, опять нагнулась и зашумела водой.
– Ишь, растаяла… Квашёнку масла, ровно, съела… Прости меня, господи!..
А Параскева липла с разговором:
– Ягоды теперь наспело! Здесь, вон, по жилому, и то сколько видно. Не прошлешься их никак. С Вассой бы сходили. А? Тебя я, Анна!
– Чо это? – из-под руки откликнулась Аннушка.
– Подите седни же.
– Пойду.
– Феоньюшка! И ты бы тоже.
– Ладно, сходим.
Припомнились Аннушке заимочные ягоды. Откуда только силушка бралась – ходили со свету до ночи и не знали устали.
– Ну, дак управляйтесь уж, пойду я, – решилась, наконец, Параскева. – Надо попроведать Манефу – выползла, вон, на крылечко.
Аннушка не забыла обиды, не забыла, как плели по кельям про нее да про Василия, и больше всех – Параскева. В душе таилось нехорошее.
– Чего это она? Потом, глядишь, опять напустится.
– Не забудешь, видно? – укоризненно вздохнула Феоньюшка, садясь на камень. – Отдохнуть маленько. У тебя последняя?
– Да, нету больше.
– Отдохни.
Обе молча сидели, распустившись телом. Но Феоньюшка все думала про старое.
– Пожила со свое, помыкалась за десятерых, – кротко говорила она, смотря за речку. – Никому не сказывала, а стороной идет про прежнее-то, про ее – не дай господи ни врагу, ни супостату, много вытерпела, вот ее и точит. А как солнышко по-праздничному приберется, кости не щиплет, не ломит, вот она и отойдет, разгуляется в душе-то – из моленной тянется: одна, видно, была там, намолилась вдостать – все ей ясно теперь, все радостно.
Но Аннушка не слушала.
– Петров-то вот уж, зачем не видишь.
Мысли были старые, заветные, и шли они привычными дорожками, одна за другой. От них болела и кружилась голова. Ягоды? Да пропади они пропадом, провались сквозь землю вместе с Параскевой.
Феоньюшка тянула сладким голоском – кого-то успокаивала:
– Без злобы и святые не спасались. Было и у них немало. Что ни шаг – то согрешил. Малый шаг – малый грех, большой шаг – и греху побольше…
– Мне это она? – оглянулась Аннушка, но дальше опять не слыхала, унеслась за горы.
Вскоре же, как пособоровали, Манефа поднялась с постели, отошла и опять закрепла на года. Одна захотела остаться, чтобы с глазу на глаз разговаривать ночью со Спасом. Аннушку перевели на старое – к Феонии. Не стерпела как-то Аннушка, выложила ей такое, чего и матери бы не сказала, во всем покаялась, расцвела опять, будто гору свалила, во весь рост распрямилась. Ушел, спрятался Василий, да не надолго. А Феоньюшка с жалостливыми, елейными словами пробралась потайными дорожками в душу, и ничего от нее теперь не схоронишь – все видит, обо всем догадывается. Стоит над душой и караулит. Нет спасенья от нее ни днем ни ночью. Опять тяжестью придавило к земле.
«Чего она лезет?» – не показывая злобы, думала Аннушка, готовая вскочить и уйти, чтобы только не слушать сладкий тонкий голосок.
А Феоньюшка, укладывая мокрое белье в корзину, утешала:
– Переки-пи-ит, все-е перекипит!.. На огне и железо сгорает, под погодой и камень прахом сыпется…
«…Лес валить начнут – тут берегись»… – опять думалось про Бугрышиху, а сбоку над ухом комариным нудным писком пел Феоньин голос, пел что-то доброе и ласковое, но такое тошное, что не было сил его слушать.
– Ну, – встала решительно Аннушка, – по ягоды поспеть.
На ярочек вышла Фекла. Кругленькая, маленькая, с круглым жирным лицом и короткими пухлыми ручками, цепко сложенными на большом животе, она едва переводила дух. У матери Феклы, бесплеменной, безродной, не было горше того горя, как дикое тело. Как ни постилась, как ни морила плоть, а от жиру не избавилась. Чуть в избе потеплее или солнышко пригреет, его на лицо так и вытянет.
– Мир вам! – колыхнулась она коротким поклоном, подобрала было живот, но расклонилась и опять его выпялила.
Феоньюшка почтительно ответила, поднявшись с камня. Поклонилась и Аннушка, но не взглянула: не хотелось.
– Как ты это… матушка… выносишь-то? – тяжело отпыхиваясь, говорила сочным голоском Фекла. – Изморило… прямо изморило!
– Тяжко, тяжко, матушка моя, да у воды-то как, ровно, полегче. Вот тебе уж, родимая, не кстати жар-то.
– Ой, не говори… не рада жизни… прости меня, господи!.. Положил мне кару за грехи за тяжкие… У его… путей-то – не один… одного так найдет… другого – этак…
Она увидела кого-то за холмиком, почмокала губами и, с надсадой, сочно взвизгнула:
– Васса-у!.. Вассушка!.. Поди сюды!
Подкинула руку, загребла ей воздух и скорей сложила на живот.
«Пойдет или не пойдет? – думала Аннушка, украдкой взглядывая вверх по речке. – Смолчит или облает?
Васса подошла, простая и покорная.
– Вассушка, родная… спустись в погребицу… квасу мне… пересохло… нету силушки… Спустись, родная!..
– Ладно, – спокойно ответила Васса и, не торопясь, пошла. Фекла облизнулась и умильно сглонула слюну. Аннушка не того ожидала, и ей стало досадно.
Она видела Вассино лицо, и вдруг так захотелось сказать ей что-нибудь хорошее, искупить какую-то вину. Она проворно схватила корзинку и, убегая от Феоньюшки, поднялась утоптанной тропинкой на ярочек.
– Вася! Вася! Погоди!..
Кричала вызывающе – открыто, никого не стесняясь.
Та остановилась.
– Вася!
– Ну?
– Пойдешь по ягоды? Вот тут, по ложкам.
Пошли вместе, рядом.
Васса подозрительно и удивленно оглядела Аннушку, подумала и тихо ответила:
– Ладно.
– Мы по ложкам тут, можно до службы до самой. Только… – Аннушка таинственно снизила голос: – ты поскорей управься. Без Феоньи чтобы, собиралась тоже… я сейчас рубахи выкину на прясло и айда… Выходи прямо за речку.
Не верилось в Вассу, знала, что того гляди – взъершится, но так хотелось уйти подальше от тех, монастырских, и побыть с ней, с грешной, с мирской.
– Вот, девка, скажи, как поманило на ягоду! Так бы пала, всю бы съела! – возбужденно хохотала Аннушка.
Васса, улыбнувшись, поймала корзину за ручку.
– Давай же, чо ли… Вместе…
Дробным шагом, отмахнувши в стороны свободные руки, они добежали до прясла, опустили корзину в траву, и, расклонившись, засмеялись чему-то непонятному, хорошему.
VII
Земляники было много.
Аннушка с Вассой поднимались по логу все выше и выше. Шли не за ягодами – туясочки были уже полные – тянуло вверх, вперед. Васса не хотела сдаться, отвечала обрывками, грубила голосом, но Аннушка не унималась:
– Девка, бисер потеряла. В чем на полянку теперь выйдешь?
– А поди ты! – огрызнулась Васса, уходя вперед. – Подбери, если надо… надень.
Аннушка помолчала, прыснула и захохотала – разлилась ручьями.
Васса строго оглянулась.
– Ой, беда да и только! – спотыкаясь и путаясь в траве звенела Аннушка. – Ой! Ха-ха-ха!.. Надеть бы бисер да ленты, косы бы с кистями выпустить, да к слу-ужбе!.. Ха-ха-ха!
У Вассы губы дрогнули и потянулись уголками по щекам.
– Придумала же, подь ты к черту! Ксении тогда – конец, как увидит – на месте остынет. Не отсоборуешь.
– Ой!.. Не могу!..
– Параскеву – вот бы скрючило-то.
Васса круто и решительно остановилась.
– А есть у тебя бисер? Приехала-то вон какая!
– Завалилось, однако.
– Дай. Ей богу надену. К одному уж мне с ними грешить.
– Не дури, девка.
– А мне чего? Так ли, этак ли – в добры не войти.
– Полезем вон на те голыши.
– На каменушку?
Но, не дождавшись ответа, Васса пошла впереди по крутинам, по россыпи.
Тянуло к вершинам, на волю, подальше от обители. Зеленовато-голубые острые осколки россыпи под ногами сползали со звоном, а утес вырастал, поднимался, вставал над самой головой, закрывая собой небо.
– Страшно, девка!.. Не залезти! – кричала Аннушка, цепляясь свободной рукой.
– Лезь, лезь… Сама сманила.
Васса еще раньше подоткнула подол за пояс и карабкалась по-мужичьи, широко разбрасывая ноги.
Долго не могли отдышаться, когда всползли на широкий каменный уступ. Глыбы камней, выпирая из черной и жирной мякоти, громоздились одна на другую, холодные, морщинистые со всех сторон обитые, обклеванные.
По щелям густыми темными плетями стлался вереск. Здесь пропал шум речушки. Было жутко, тихо. Солнце ушло еще выше. Берега небесной сини раздались, раздвинулись – были вот совсем за ближними горами, а теперь отхлынули, и впереди их выросли новые горы. Сверху все казалось новым, праздничным. Как на потеху ребятишкам сделанные досужей умелой рукою, сквозь вершины пихт и елей на зеленом коврике чернели теремки. Длинной нитью частого граненого бисера развернулась по ковру речонка.
– Сердце мрет, как посмотришь, – передернулась Аннушка, усаживаясь глубже на камень.
Васса улыбнулась по-хорошему, попросту.
– Давай лучше съедим всю ягоду.
Она горстью почерпнула из туяса и, откинув голову, набила полный рот.
– Сдурела!
– На…бе…рем!..
Васса жадно жевала и тянулась опять.
– Пить шибко хочется, – оправдывалась Аннушка, бросая в рот ягоду. Рука быстро забегала от туяска к губам. Ели молча, со вкусом.
– Вот этак же… – вспомнила Аннушка свое далекое: – в Барсучихе на полянке…
– Ну?
– Собрались ребята… Девок нету – все по ягоды хлынули… Я как раз урвалась с заимки… все ненастье мочило… а тут… день такой – разгуляло… На полянке ребятам тоска без девок… Уж чего не придумывали… ухватились за чернушенского ямщика, Семенку…
Васса вздрогнула, повернула строгое холодное лицо, перестала жевать.
– Ну?
– Ну, наткнулись на Семенку… Сам поехал, привозил урядника, да наелся сердешный где-то пива, знать, у Власихи. Не успел полдеревни проехать, под беседку закатился. Кони шагом пошли. За деревню выплелись да прямо к амбарам – в тень, от мошки спасаться. Ну, ребята нахлынули… глядят – Семенка. Сейчас смекнули – выпрягли коней, оглобли сквозь плетень продернули, завели, да опять запрягли. Растискали Семенку… вскочил, слышь, ошалел совсем… Как понужнет… Чего тут бы-ыло! А мы и подошли из сопок с ягодами. Семенка крутился, крутился, ободрало сон-то, побежал за другими… ну, знаешь, пьяный, одно слово… языком сплести не может, и за девками гоняется, у той, у другой хватит ягод, не ждет, глотает… Лушка старостова – галек ему в ягоды, хватил, глонул, да и закрякал… Посинел, слышь… Сначала было хохотать над ним…
– Не могли задавить-то! – вспыхнула Васса. – Холера! Собака паршивая!..
На щеках у ней вспыхнули яркие пятна.
Аннушка притихла.
– Ты чего это, девка? – виновато улыбнулась она.
– Будь он, собака!… – кипела Васса, швыряя в россыпь угловатый камень. – Ни на том бы ему свете, ни на этом… Оторвать бы голову, глаза бы лопнули!..
– Да он что тебе? – допытывалась Аннушка.
Васса проворно стегнула глазами.
– Не тебе одной… Была и я когда-то девкой. Не от радости тоже к волкоеде пришла…
– Вася! Вася!..
– А-а! Вася? Теперь Вася? Была я Васей-то, бы-ла-а!.. Теперь рыжей дурой стала, Вассой… Кабы не этот Семенка, и моя бы жизнь не по-собачьи сладилась.
Она в волнении пересела, серые колючие глаза с покрасневшими веками беспокойно бегали, ловя, на чем остановиться.
– Подвалился женихом!.. Всю весну, все лето шнырил кобелем, ославил на деревню, далась ему, дура, а зимой со свадьбой подкатил… Все честь-честью, сватов заслал… По три раза приходили… Согласилась… А мачеха, сука, разбила, наплела ему такое про меня, что и глаз не показал. Сосватала ему Дуньку Федосьеву, сама-а сосватала, сука… Ей без Вассы куда? Надо бы работника наймовать, а тут готовая, всегда под рукой. На даровщину лестно всякому…
Аннушка дрожала.
– Плюнь ты, Вася!
– А, поди ты!.. Проплевалась и так без остатку… На самое теперь плюют.
– Может, к лучшему все бог устроил. С таким-то тоже мало радости. Какой он человек?
– Какой ни есть, а в старых девках не осталась бы! – кричала Васса. – Может, все равно не миновала бы Ксении, да пришла бы с законом, а теперь я кто? Кто я? Васка рыжая!..
Она отвернулась и застыла, глядя в темные провалы внизу.
Аннушка разглядывала Вассину спину с жалостью и страхом. Из души просились девичьи хорошие слова, подступали тяжелые слезы, но сказать – взъершится, наплетет чего попало.
«Рассказать бы ей тоже, все до капельки»…
– Вася!
Васса не ответила.
– Вася!
– Ну?
– Научи меня, Вася!.. Замоталась я.
Аннушка с трудом находила слова.
– Помнишь, приезжали Пахомовски?.. Сватался парень-то.
Васса обернулась. Глаза потухли, лицо пересеклось морщинами, и вся она была уставшая, опять покорная.
– Ты про Василия?.. Знаю… Иди, – снова оживилась, пересела ближе.
– Иди. Иди. Хоть за черта, хоть за дьявола. Уходи отсюда. Погинешь.
– Грех ведь, Вася!.. Тяжкий грех… Сама вызвалась, сама пошла, никто не тянул…
– Уходи… Может, мне вот как тошно, только сейчас я с добра тебе говорю. Мирская ты, уходи.
Аннушка ломала руки на коленках.
– Так я это… Никуда не уйду… Нельзя, нельзя, нельзя!..
– Дура ты, Анна! Мудришь над богом. Бог тебе дает дорогу, сам показывает…
– Плетешь, чего не надо! – осердилась Аннушка.
– А по мне – дак хоть век не ходи… Выдерживай тут срок на игуменью… За язык никто не дергал: ты спросила – я сказала. Из меня тоже не шибко выколотишь. – Она усмехнулась. – Год вот здесь ты, а впервой еще толкуем… Тошно мне глядеть на тебя. Без тебя тут лучше было, жила попросту. Молилась да ругалась, а потом опять молилась да опять ругалась. Я – их, они – меня. А ты пришла овечкой этакой… Где бы надо огрызнуться, а ты с угодой да с поклоном. Сирота, подумаешь.
– Да я и так…
Задрожали губы, застелило глаза – Аннушка, рыдая, опрокинулась на бок и уткнула лицо в руки.
– Господи!
Она плакала, вся вздрагивая, и не могла остановиться.
Васса растерялась.
– Вот тебе! Чего ты воешь? Брось. Не первая… Мне, может, вот как подпирает, да молчу… Ну, уймись!
Она говорила непривычные слова, с трудом их подбирая, и, наклонившись, гладила Аннушкину спину и плечи, пока и сама не заплакала. Испугалась, отодвинулась, смахнула слезы рукавом и крепко сдвинула бескровые тонкие губы. Аннушка затихла, расклонилась украдкой и села, неподвижная, с красным опухшим лицом, обхвативши руками коленки. Обе долго молчали. Перед ними на гранитных остряках тревожно перепархивала серенькая птичка, жалобно чирикая, – просила уйти. В жарком солнечном свете за зелеными горами, схоронившими обитель, поднимались новые скалы и сопки, и чем глубже уходили они в дали, тем синее становились их уклоны. За горами, за матерым черным лесом, за студеными бурными речками был грешный мир.