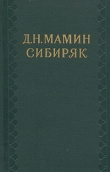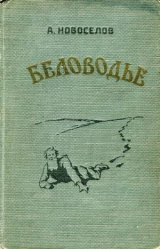
Текст книги "Беловодье"
Автор книги: Александр Новоселов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц)
– Ой, Василий, Василий, пошто говоришь!
– С Михеем теперь и делайся. Он лучше меня.
– Калай минь буду? Михею почка надо, тебе да почка надо. Михей язык заказывал, ты да заказывал. Корова одна, сам знаешь. Михей из лавка гонит. Как не дать? Оба человек хороший.
– Михей, конечно, хороший. Куда мне до него?
Исишка испугался.
– Михей хороший? Жязби его! Кто его хвалит? Все горят: Василий первый человек в поселке. Что ли я не знаю? Всем киргизам говорю…
Василий Матвеич пошлепал губами взглянул прямо в глаза.
– Ты как… зимой-то? Наниматься не будешь?
Иса не сдержал улыбки.
– Пошто наниматься?
– Ну, ко мне в работники.
– Нет, Василий, не буду. Старый стал. Из аула не гонят. Бог дает мне.
– Подумай хорошенько… Привык я к тебе.
– Кочевать буду, Василий. Найди себе молодого, честного. Я уж старый…
Василий Матвеич вдруг передернулся в коробке и так хватил кнутом по лошади, что она рванула в сторону и понесла по кочковатому краю дороги. Из-за грохота Иса расслышал только:
– Заелся! С-со-ба-а-ка!
Он покачал головой и взмахнул нагайкой. А немного отъехал и затянул громче прежнего:
Ехал, ехал, ехал —
Встретился с Василием.
Рожа у Василия походит на курдюк.
Василий да мошенник,
Михейка да подлец.
Не боится их Иса,
Сам умеет обмануть.
Звал Василий на пригон,
Не пойдет к нему Иса.
Сам скотины много купит,
Сам работника возьмет…
И песня лилась без конца. В душе было столько слов, хороших слов, что, кажется, никакая глотка не могла их выкричать и до глубокой ночи.
IX
Прошло лето, прошла осень.
В мокрые сентябрьские дни Иса не знал покоя. Забойка отошла уже на задний план. Он все время был за речкой на покосе. Покос по обыкновению был поздний. Так всегда велось в степи: когда у русских уже сметаны стога, киргизы только выезжают. Под осенним дождем сено быстро гниет, и зимой скот ест его лишь с голода.
Эта осень выдалась особенно хмурой и мокрой. Не было дня, чтобы из густых тяжелых туч не лило на землю воды. Но под конец, как нарочно, в то время, когда, пользуясь случайно провернувшимся солнечным днем, на лугу свалили всю траву, пошел мокрый снег. Трава обледенела и померзла. Степь застонала. Ужас бескормицы, ужас страшного бедствия пророчил ранний снег и злобно напевал холодный ветер. Степные люди с трепетом и страхом ждали суровой зимы. Лишних разговоров не было. К чему? Против бога не пойдешь. Видно, ушел он из степи и забыл о ней. Год от году беднеет киргизский народ, год от году уменьшаются стада.
Как-то раз, уже перед тем, как встать реке, Иса встретился с Василием Матвеичем на перевозе.
– Ну? – ехидно щурился Василий: – Откосился, говоришь.
– Откосился.
– Язви-то вас, собаки! На зиму глядя на покос выезжают. Что теперь с сеном-то? Куда его?
– Кто знал?
– Да кому же известно, что зимой идет снег?
– Прошлый год косили, трава зеленый был.
– Что мне в ней зеленой-то! – кричал Василий. – Не надо мне и зеленого, да семенова, а дай мне гнилого, да ильинова.
Исишка не оправдывался.
– Работник нанял? – осторожно справился он, помолчав.
– Нанял Кутайбергеньку. Проворный парень. С этим не пропадешь. Избушку сейчас ладит на зиму.
Исишке стало больно и обидно. Какой-то там Кутайбергенька завладел его избой и, наверное, теперь все переделает по-своему.
– Не уживется этот, – не сдержался он.
– А что ему?
– Знаю я. Мордам бить не даст. Сам набьет.
– Ишь ты! А оглобли-то на что? По вашему брату оне в аккурат подходят. Забыл разве? Скоро, брат, забыл, шибко скоро.
Толпившиеся около киргизы подобострастно хохотали. Уж этот Василий! Скажет так скажет! С ним много не натолкуешь.
Когда река встала и лед окреп настолько, что мог свободно сдерживать быка, Исишкин аул выступил со своими стадами на зимнее стойбище.
Кыстау[10]10
Зимовье.
[Закрыть] прятались в мелком прибрежном кустарнике, хорошо защищавшем от заносов и вьюги.
Опять загнали скот по тесным клеткам, опять залезли в темные землянки.
Иса еще летом помочью вывел стены своей зимовки. Потом часто наезжал с покосу: кончал мелкую работу. Теперь оставалось только навесить дверь и затянуть брюшиной окна. Зимовка вышла небольшая, но теплая. Когда в первый раз Иса и Карип остались вдвоем, они, несмотря на усталость, долго не ложились спать. Карип сидела перед жарко натопленной печью с широким устьем. Она старательно раскатывала круглые лепешки, брала их на ладонь и ловко приклеивала к раскаленным стенкам, Иса ходил подле стен, подрезал топором неровности дерна и тщательно исследовал каждую щель.
– Дует! – Он долго держал у щели руку и качал головой: – Откуда дует? Завтра надо посмотреть.
Потом выходил на средину и трогал руками каждую жердь в потолке.
– Как думаешь, тепло будет? Не замерзнем?
Карип таяла от счастья.
– Кто сказал, замерзнем? В этакой избе? Что ты! У Василия жили, разве такая была?
– Не говори! Как жили, бог знает. Просто дурак был, потому и жил. Пускай-ка вот поживет теперь Кутайбергень, пускай узнает. Ты боялась, как справимся, и вот, видишь, бог помог. Бог не откажет, заживем еще.
– Верно, верно. Что я знаю? Ничего я не знаю. Меня не слушай, делай, как лучше.
– Я знаю, как заработать. Погоди, поправимся.
И он работал на удивление всем аульским. Трудно было в нем узнать того джетака, которому Василий Матвеич разбивал лицо и расшатывал зубы. Пусть-ка тронет кто-нибудь его теперь! Теперь он сумеет постоять за себя.
Сразу же после кочевки одна за, другой стали открываться ярмарки. В аулах было деловито-шумно. Еще с ночи выезжали все, кому нужно было что-нибудь продать. По дорогам тянулись обозы. Иса не отставал. Целый день он был в седле: или выведывал цены, или продавал коровьи кожи, или покупал Карип на платье пестрого, красного ситцу. Прежде чем купить хотя бы на пятак, он обходил все лавки, везде приценивался, щупал руками, рассматривал на свет и давал никак не больше половины того, что запрашивал торговец. Каждый раз он привозил домой какую-нибудь мелочь: то ремень, то ниток, то иголок. А раз даже, к великому восторгу Карип, кинул ей в колени фунт изюму и полуфунтовый комок сахару.
– Только деньги изводишь! – любовно ворчала она.
– Ну, молчи! Сам заработал. Я там был в гостях. Поешь и ты послаще.
Он все еще не расплатился с Василием, но не мог отказать себе в покупках. Разве он не такой же киргиз, как и все другие? Разве не может он зайти в любую лавку и купить то, что ему нужно в хозяйстве? Слава богу, он не какой-нибудь джетак, у которого никогда в кармане не бывает ни копейки. С долгом можно рассчитаться и потом. Но чем потом рассчитаться, где взять денег после ярмарки, он не представлял себе да и не хотел об этом думать.
– Подождет Василий. С голоду не пропадет. Скажу нечем платить, отдам, когда будут.
Он решил это твердо и всячески избегал с ним встречаться.
Ярмарки подходили к концу. Люди возвращались в степь. Но не было обычной шумной радости. Ходил упорный слух о предстоящем голоде. Слух этот услужливо забегал впереди каждой сделки, и степные люди, скрепя сердце, отдавали свой товар за полцены.
Хватит ли сена? Удастся ли спасти свой скот? Суровая загадка была у всех на уме. Где ни собирались люди, все говорили об одном.
Иса упорно отгонял от себя черные мысли. Но к середине зимы суровым предчувствием заразили и его.
– Худо дело, – говорил он сумрачно за чаем: – Сено сгнило. Скот не хочет есть. Как будем?
– Тебе лучше знать, – вздыхала Карип.
– А что я сделаю? Лучше меня люди не знают. Будет голод, непременно будет. Это еще с осени можно было знать. Помнишь, коровы с поля приходили с травой во рту? Первая примета.
– Нехорошая примета.
– Худо, худо. Все так говорят. Берстангул ходил к ворожее, так тот сказал, что корми, не корми, говорит, к весне ни скотины не останется. На бобах ворожил. Кидал три раза, все одно падает.
– Кутек! – в ужасе воскликнула Карип.
– Берстангул не знает, что делать. Ездил к Василию, хотел продать быков, так тот и разговаривать не хочет. Подожду, говорит, месяц-другой, да этих же быков и возьму у тебя вдвое дешевле.
– Как будем, как будем?
Иса молчал.
Карип нерешительно посматривала на него и, наконец, насмелилась сказать то, о чем думала все последние дни.
– К Василию бы попроситься… Даром бы… Пусть только скотину нам прокормит.
Иса, не отрываясь от блюдца, посмотрел на нее исподлобья и ничего не сказал. А когда допил чашку и опрокинул кверху дном, по-русски, то решительно и злобно заявил:
– Не пойду!
Карип вздрогнула.
– Как хочешь… Я думала, ничего.
– Не пойду! – отрезал он с сердцем.
X
Зима перевалила на вторую половину.
Степь глухо стонала. Была еще надежда спасти скот на подножном корму, хотя он отощал уже настолько, что с трудом выходил из ворот, а в поле только выбивался из сил, едва добывая из-под снега чахлую траву. Была еще надежда на то, что больше не подвалит снегу и до конца будет стоять хорошая погода. Трудно было верить этому, но так хотелось верить. Что же это? Давно ли был голод, давно ли погиб в степи весь скот, и неужели опять! За что наказывает бог! За что он мстит киргизам?
И вот пришло то, чего больше смерти боится степняк. Потянуло теплым ветром, обволокло все небо густыми тучами и среди зимы пошел осенний мелкий дождь. Люди перестали громко говорить, и с ужасом смотрели на небо.
Два дня смеялось небо над землей, два дня трепало оно над снежными полями свои мокрые космы, а на третий подобрало их, откинуло за горизонт и миллионами спокойных глаз взглянуло вниз. На утро, как всегда, величаво поднялось в морозном тумане тускло-холодное солнце. Ах, лучше бы оно не вставало!
Мощные сугробы намокли, осели и смерзлась. Стада бесцельно бродили по ледяной коре и с каждым днем все таяли и таяли. То тут, то там отставали и падали более слабые, а на утро их находили уже мертвыми, с жалобно устремленными в небо мутно-стеклянными глазами.
Потянулись кошмарные дни. За скотом уже никто не ходил, никто его не пас. Уже разгребли и скормили все навозные стены, скормили весь кустарник, раскрыли стайки и навесы, больше не осталось ничего. Дальше была только смерть.
Иса все силы прилагал к тому, чтобы спасти кобылу. Коровы и бараны легли вместе со сватовым стадом.
– Куда я без лошади? – говорил он Карип. – Буду с голоду пропадать, а лошадь сохраню.
И он продавал за бесценок все, что мог продать: кожи и овчины подохших животных. Все это охотно покупали в поселке, но давали так мало сена – небольшой клочок за кожу, – что лошадь, получая от хозяина по щепотке плохой болотной осоки пополам с камышом, день за днем теряла силы.
Она еще ходила по пригону, покачиваясь на ослабевших, похожих на палки ногах, или целыми часами простаивала, опустивши голову, словно покорилась смерти и ждала ее с тупым равнодушием. Только когда пустой желудок больно втягивал бока, она широко раскрывала уже безумные глаза и шла к дверям зимовки. Но пришел черед и ей.
В ту ночь, когда аул решил загнать всех лошадей в ближайший лес, где еще можно было обгладывать кору, с запада пришел буран.
Вьюга буйствовала до утра, и люди не спали всю ночь, прислушиваясь к ее дикому, безумно-торжествующему реву. А когда на утро пошли в лес, то уже не нашли там табуна. Вьюга вырвала его из лесу и увела с собой. Никто не знал, где его разыскивать. Только местами, из-под снежных дюн, выглядывали пятнами, как из полуразрытых могил, остывшие тощие трупы.
Это был последний удар, убивший разом и последние надежды.
Иса лежал теперь в зимовке на дырявой кошме, ничего не предпринимая и ни о чем не думая. С улицы, с пригонов голод перешел в зимовки, и люди, как недавно животные, доедали все последнее, что можно было есть. Иса не разговаривал с Карип. Он смотрел на нее с такой злобой и ненавистью, словно во всех несчастьях была виновата она. Карип чувствовала это и боялась. Разом постаревшая на много-много лет, она по привычке с утра хлопотала у печи, хотя нечего было ни испечь, ни сварить, ни изжарить и последнюю неделю питались только чаем.
Как-то утром зашел сосед, старый, постоянно больной Сулемень. Прошел к Исе на кошму, сел и замолчал. Не о чем было говорить, не хотелось говорить. Сидели так долго. Повздыхал, покашлял Сулемень и поднялся, чтобы выйти. Он переходил так из зимовки в зимовку, избегая встречаться с семьей. Когда он вылез за дверь, Иса злобно плюнул в дальний угол.
– Ходит, как собака, по чужим дворам, ищет, где пропасть.
– Душа болит, – заметила Карип.
– А у меня не болит? Зачем ходить? Кому надо?
– А разве лучше лежать? Если бы ходил, не голодал бы.
– Что!? Что ты сказала?
Карип боялась повторить.
– Говори, паршивая собака! Говори, что сказала!
Карип смело посмотрела на него и вся затряслась. Все, что накипело у нее за эти голодные страшные дни, неудержимо хлынуло наружу.
– Почему голодаем? – визгливо закричала она: – А? Кто виноват? Василий не гнал. Василий летом звал. Почему не пошел? А? Лень стало работать. Черт! Важный стал! Теперь пойдешь к свату в работники.
– Замолчи! – взревел Пса.
– Не замолчу! Брюхо жрать захотело, не велит молчать… Василий злой, говоришь, Василий голодом морил, а у Василия я не пропадала с голоду. У тебя пропаду, завтра пропаду.
Иса уже был на ногах.
– Замолчи, говорю!
– Не замолчу! Теперь и проситься будешь – не возьмет. Куда ему тебя, ленивого?
– Это вот ты ленивая баба. Видел я, как ты ему коров доила. Воровка ты! Молоко всегда воровала. Видел я… Если бы не ты, Василий взял бы меня хоть сейчас, а с тобой не возьмет.
– Меня не возьмет? Завтра пойду к Василию. Возьмет. А тебя ему не нужно. Ленивый ты и первый вор. Выпоротков сколько снес к Василию, шерсти сколько воровал.
– Молчать!
С налившимися кровью глазами он схватил ее за джевлук, приподнял за волосы и отшвырнул в сторону. Потом подбежал и пнул ее в живот. Карип завыла диким, дребезжащим голосом и сквозь слезы продолжала что-то выкрикивать, но уже нельзя было разобрать.
Иса прошел в свой угол, оделся и вышел, у дверей он постоял немного, поправил чулки и чембары, подтянул ремень и направился по дороге. Только вышел на взвоз, показалась станица, черневшая почти напротив, через реку. Иса спустился на лед. Он давно уже не был в поселке. Пойти взглянуть, что там делается, послушать, о чем говорят.
А жрать так хочется! В ушах звенит, когда быстро повернешь головой, и под сердцем так сосет, что, кажется, кто-то все внутренности тискает горячими крепкими пальцами. Ох, попросить бы у Варварушки калачик. Он вспомнил о Карип, и вдруг ему стало так жалко ее, эту старую, больную бабу, что под сердцем засосало и задергало еще больней. Не надо было бить ее. Голодная она. Он недавно ел у свата брюшину, а она, кроме чая, ничего не ела. Надо принести ей калач, целый калач. Да что калач? Надо… Он не решался подумать… Надо идти к Василию, проситься.
– Пойду, пойду. Буду плакать, просить.
Решение выплыло откуда-то извне, охватило его, и даже кровь бросилась в голову от одной мысли, что опять можно быть сытым и Карип не будет ругаться и плакать от голода.
Иса повернул было назад, чтобы обрадовать ее, поговорить и посоветоваться. Но сейчас же другая мысль толкнула его с силой вперед. А что, если Василий вот именно сейчас уже нанимает кого-нибудь? Теперь у него много дела в народу нужно много. Что, если он уже нанял всех? Иса прибавил шагу.
– Ах, успеть бы! Только бы успеть!
XI
Дом Василия Матвеича еще издали выделялся своим странным видом среди прочих. По обширному двору с трех сторон тянулись скирды сена такой высоты, что дом перед ними казался маленьким и низким. Тут были сотни стогов. Так спокойнее: из-под строгого караула не украсть ни клочка.
Когда Иса вошел в открытые ворота, он не узнал двора. Двор, огороженный скирдами, был похож на шумный ярмарочный ряд. Верховые лошади стояли одна к одной во всю длину забора. Посреди двора теснились сани. А у амбаров и скирд шумело до сотни человек. Тут были и киргизы, и русские. Всех их согнал сюда голод. Кто стоял у весов, где Кутайбергенька развешивал сено, кто метал со скирдов на воза, кто тащил к амбарам кожу. Василий Матвеич с недовольным видом принимал с крыльца овчины, успевая взглядывать и на стрелку весов, и туда, где сено брали возом. С ним ругался какой-то незнакомый казак.
– Ну, ну! – говорил Василий Матвеич: – Не нравится – отваливай.
Казак посмотрел на него, скрипнул зубами и повернул к воротам.
– Живодер! – крикнул он с дороги: – Среди бела дня дерет! Па-адлец!
Василий Матвеич только усмехнулся в воротник бешмета:
– Завтра придет да на пятачок дороже заплатит.
Иса подошел к крыльцу.
– Здравствуй, Василий!
– Ну, ладно. Чего ты, Исишка? Кожи? Не принимаю больше. Надо эти прибрать.
– Нет, я так.
– А тогда не мешай. Шляются только. Того и гляди, уворуют еще что-нибудь.
Горько стало Исе, до злости горько. Сколько лет жил на этом дворе, что хотел, то и делал, а теперь его гонят, как вора. Кутайбергень теперь хозяйничает. Вон кричит как! А с весами обращаться не умеет. Разве так надо накладывать? Но он смолчал.
Долго сидел он в сторонке, на нижней приступке, наконец, насмелился и подошел вплотную.
– Василий!
– Ну? Опять? Говорят тебе: некогда.
– Василий, возьми меня в работники.
Василий Матвеич прищурился, и нельзя было понять, засмеется он сейчас или выругается.
– А, Василий! Возьми.
– Ппа-а-шшел-ка ты к язве! Вот что.
– Василий! Даром буду…
– Тут делов выше глаз, а он вон с чем.
– Даром буду жить…
– Отвяжись!
– Без бабы буду, один… Корми, чем хочешь.
– Да что ты ко мне привязался? Тыкану вот как с крыльца-то!
– Василий!
– Теперь так «возьми», а как летом кланялся тебе, собаке, так ты что мне сказал? Ступай теперь к Михею. Он возьмет тебя.
– Что ты, Василий?! Какой человек Михей? Он сам к тебе в работники пойдет.
– Иди, иди, не разговаривай.
– Пожалиста возьми, Василий, – уже хныкал Иса. Лицо у него сморщилось, а трясущиеся губы никак не сходились, словно он собирался что-то крикнуть.
– Одного возьми… Бабы не надо.
Василий Матвеич уже не обращал внимания.
– А, Василий! Глупый был, ушел. Голодом теперь… Киргизский человек всегда был глупый. Русский умный.
– Ну-ка, посторонись, – оттолкнул его кто-то из русских. – Ишь ведь как его забрало. Прилип и шабаш.
– Сам ушел весной, – развел руками хозяин. – Заладил одно: «кочевать да кочевать», ну вот и укочевался. К моему же крыльцу и прикочевал.
– Верно, верно! – радостно согласился Иса. – Мимо тебя не пройдешь. Без тебя куда? Не возьмешь – пропаду, как скотина.
– А мало вам еще, собакам, достается. Не этак надо. Плутни у вас много, вот бог-то и посылает. Он видит. Его не проведешь.
– Верно, верно. Худой киргиз стал. Бог стал. Бог не любит больше.
– Ну, рассказывай теперь. Ты тоже хорош. В каждом глазу по три кобылки скачет. Мошенник первеющий, можно сказать. Долгу все еще не отдал. Вот к мировому скоро буду подавать. Только потому в держал, что у скота был хорош. А теперь не возьму. Обидел ты меня. И надо мне такого человека, да не возьму.
– Василий!
– Нет!
Оба замолчали. Продажа шла своим порядком.
И когда уже не было никакой надежды, когда Иса уже против воли начинал думать о том, что хорошо бы сходить к Михею, выпросить немного спичек, да и подпалить всю эту груду сена, Василий Матвеич обернулся, посмотрел на него и сказал презрительно:
– Укочевался! Дурак! Научился теперь, как кочуют? Это тебе хорошо. В другой раз не захочешь… Ну-ка, захвати на кухне хомуты да марш на пригон. Начинай там чистить.
Исишка даже не нашелся, что сказать. Вскочил, поскользнулся, взмахнул руками и побежал. Кругом захохотали. Но Василий Матвеич сейчас же окликнул его:
– Ты! Исишка! А с долгом как? За тобой там тринадцать с полтиной.
– Ой-бай, Василий! Пошто так? Шесть с полтиной там.
– Вот, вот! Так в знал. В глазах собака, плутует. Прямо в глазах. Убирайся!
– Ой, Василий!
– Айда!
– Ой, Василий! Я забыл. У тебя кагаз. Кагаз не обманет.
– То-то! Весь до самого нутра исплутовался.
Иса отвернулся угрюмо.
Когда он зашел на кухню, Агафья за столом хлебала щи. Мясной запах ударил ему в голову. В глазах пошли круги. Но он сейчас же осилил себя.
– Здравствуй, Агафья!
Она положила ложку и всмотрелась.
– Исишка?
– Я.
– Чево тебе?
– За хомутами.
– За хомутами?
– Ну.
– Уж не нанялся ли?
– Нанялся.
Она беззвучно рассмеялась во все лицо.
– Не хотел ведь. Зачем нанялся?
Он почесал под шапкой.
– Где хомуты?
– А говорил, не придешь, – продолжала Агафья: – Вот и пришел.
Исишка внезапно вскипел:
– Не толкуй! Давай хомут! Скажу Василию, он те…
Явилось желание стукнуть ее тем поленом, что лежало на полу у печки, или связать вожжами, крепче связать, как тогда на дороге, и избить.
Агафья сверкнула глазами.
– Собака! Пошел из избы! Разлаялся тут. Пообедать не дадут, паршивые. Дверь на пяте не стоит.
И так же внезапно Исишка остыл. Мясной запах проходил ему в самый мозг, был во рту, в груди, больно тискал желудок. Исишка съежился и с испуганным лицом шагнул вперед.
– Агафья, дай кусок.
Она растерянно мигнула.
– Дай кусок. Два день не ел… как буду работать?
Агафья подумала и толкнула ему через стол небольшую краюшку.
– Прогулялся, видно?
Схвативши кусок, он отошел к двери, присел и жадно заскрипел зубами по засохшей корке.
– Прогулялся! – ворчала Агафья: – Не приду, говорит… Был у дела, так нет… Шляются теперь, немаканые, день-деньской… От лени это у вас.
Исишка чавкал на всю избу, а слова Агафьи отдавались в голове тяжелым гулом.
– Василий говорил, что придешь. Правду сказал… Хотели, собаки, без бога прожить…
…Бу-у, бу-у, бу-у…
И вдруг взмыло все нутро. Исишка поперхнулся последним куском, едва передохнул от подступившей злобы и открыл уже рот, чтобы скверно-скверно выругать эту проклятую девку, как за него кто-то сказал:
– Дай, пожалиста, еще.
Сказал жалобно и тихо.