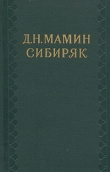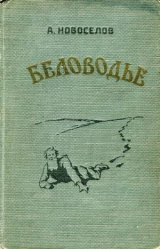
Текст книги "Беловодье"
Автор книги: Александр Новоселов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц)
Он погладил в раздумье кафтан на коленке. В глазах уже не было ни злобы, ни насмешки.
– Нет нам места на земле. Каторжные мы. Нас гонят, нас ловят, будто дикого зверя, с трех сторон охотятся, а мы што?
Он замолчал.
– Надо бы того… с повинной… я давно говорю… – несмело вставил Евсей.
Хрисанф опять вспыхнул.
– Ну, пошто не идешь? Ну, поди!
Евсей виновато посмотрел на всех и, везде встречая укоризненные взгляды, поспешил оправдаться.
– Мне ништо. Вперед не вылезу. Как мир, так и я.
– Шея у нас толстая, – ехидно щурился Хрисанф, – не погнется для поклону-то. Надо в пояс кланяться. А в пояс поклонишься, как бы лбом начальника не зашибить. Кулак тоже может зазудить не вовремя. Ишь, народ-то все какой. Возьми-ка вон Асона. Помекаю, на восьмой качнуло.
– Семьдесят девятый, – отозвался польщенный Асон.
– То-то вот и есть. А дедушка Герасим! Ему только глаза бы. А Николай Самсоныч, а Быковы! Да все! Дуб народ!
– Лонись, как Бабкины в Расее были, так, сказывают, мокрый там народишка, дря-яблый, – словно радуясь чему-то, смело выскочил тонкий Назар: – уж ежели под пятьдесят ему дошло, он помирать собрался. Мокрый народишка.
– Со зверями живем, – продолжал Хрисанф, – по-звериному и жизнь идет. Заелись, будто кони под белком. А ты спроси, куда меня тянет, кого я ищу? Почем я знаю? Душе неспокойно, ежели на месте сидишь да кругом тишина.
– Это ты правильно!
– Ладно, парень, сказал!
– Ушиб прямо в сердце!
– Опять и то сказать к слову: всякому свое любится. Волку дай темну ночь да дубровушку, а барану – хлевок.
– Правильно!
– Охо-хо!.. Чего уж!.. Так оно…
Старики оживились. В памяти вставали длинные поездки и скитания. Не было уже ни озлобления, ни старых счетов. Разговор стал шумным, зажигающим. Только дедушка Герасим, плохо слыша, о чем говорят, тянул свое:
– Не будет благодати, ежели не с добра пойти. Панфил-то он… того… с обетом… ему откроются, примут… Надо за ним, как за святой звездой… Хрисанфа надо… без него никак… Не можно без Хрисанфа… Выведет!.. Орел он!.. Хрисанф-то, говорю…
Слова его совпали с настроением и примирили всех.
– Кого тут толковать, – серьезно подхватил Асон, – рази кто об этом говорит? Несогласья не будет. Так, по-стариковски пошумаркали… Крепче дело выйдет.
– Вот тоже по первости… как суды заходили…
Но опять слова Герасима потухли в общем говоре.
Наговорились досыта. Безмолвное согласие скрепило всех, сковало цепью. Но вперед никто не забежал. Это успеется потом, по избам.
Надо бы уже и уходить. Усталое тело давно просит покоя, а не хочется сдвинуться, вернуться к будням, к серой обыденщине. Редко удается так сойтись: все заботы о семье, о хлебе, а жизнь-то – вперед да вперед.
Евсей давно уже беспокоится: выехать время. Ожидает только, его кликнут обедать.
Панфил сидит против двери. Он не слышит затихающего говора. В просвете амбарной двери горит солнечный день. По пятнам золотого света на дворе гуляют голуби, шныряют воробьи. Они громко славят жизнь и сами торопятся жить. У дверей амбара лежит старый черный пес, вылез из-под пола, натянул насколько мог свою цепь и греется. Голова его лежит на лапах. Глаза смотрят в одну точку. Думает он свои собачьи старческие думы, отдыхает, нежится. Белый статный петух подходит совсем близко, вытягивает шею, и, подставляя один глаз, долго, внимательно смотрит на пса, но, поймавши другим глазом в небе ястреба, вдруг пускает тревожную трель. Хохлатки стремительно выскакивают из вырытых ямок и, забывая даже отряхнуться, кривят головы, зорко смотрят в небесную синюю глубь.
По двору, от амбара к дому и обратно, часто пробегает дочь Евсея, Акулина. Она в пестром сарафане. Толстая коса повита бисером. Кисти пояса упали до подола. Собирая на стол, Акулина ради праздника несет и меду в сотах, и кваску медового, а мать – у печки: сторожит пирог с тальменем. Девка кипит и торопится: не опоздать бы на полянку. Выбегая из избы, она шибко дробит толстыми пятками по скрипучим ступеням и что-то напевает вполголоса. А перед дверью амбара, стесняясь стариков, проходит с серьезным лицом. Совсем постная девка. Но крутая грудь и во всю щеку краска выдают ее. Кто не видел Акулину на полянке! Первая затейница.
Проходя в последний раз, она приостанавливается и бросает чуть слышно:
– Тятя, обедать.
Евсей беспокойно передергивается, шарит острыми глазами по амбару и кричит вдогонку:
– Ну, ладно, приду.
– И то ведь, обедать пора! – вдруг хватился Асон. – Поди, ждет старуха-то.
Поднялись и пошли.
А Панфил будто застыл, завороженный золотом дня.
Жизнь-то! Вот она! Жизнь-то! Не убьешь ее. Под сараем, пол крыльцом, на крыше! А люди-то – мимо да мимо. Топчут, в прах вгоняют. Все мятутся и мятутся, все им мало да тесно.
Что-то кралось опять в душу, крепкую решением, отчего-то становилось беспокойно.
Но пропало все, потускло золото. Перед Панфилом выросла фигура Хрисанфа. Тот стоял с безразличным; спокойным лицом и, прощаясь, тянул руку.
– До виданья, Панкратыч! Пошел я.
Посмотрели друг другу в глаза и ничего не сказали.
IV
Уже два месяца, как жизнь в деревне раздвоилась. С виду все идет по-старому. Встают рано, до солнца, работают, пока не подберет туман и не подымется над снеговым шишом светило, потом обедают – и снова за работу. День за днем ложатся рядом, будто баба стелет холст: ни короче, ни длиннее – холстина к холстине.
Но под серой мутью буден зреет новое, яркое, тревожное, большое. Его радостно вынашивают в сердце, хоронят от самих себя.
Всюду проникающей змеей ползет сплетня по деревне: «Беловодцы мутят, сухари толкут, сумы готовят». А беловодцы молча улыбаются: «Мало ли кого ни скажут! Килу бабе на язык не посадишь. Поболтают да устанут». И, чтобы не было соблазна, хозяйство ведут, как всегда.
Крепче всех сторожит беловодцев Гундосый Фома. Прошлый раз ему много прилипло. Распродавались – накупил добра за полцены.
Потянул и теперь.
Завернул мимоходом к Назару. То да се.
А Назар все юлит под навесом. Худосочный, длинный, он болтается в широкой рубахе, словно чужую надел. Бороденка серая, куделькой, волосы липнут ко лбу. Все торопится куда-то, не может на место присесть. Перетаскивает седла со спиц к подвалу, разминает просмоленные уздечки. А глаза-то будто зайцы по кустам.
Фома, облокотясь в колено, сидит тут же, под навесом, на обрубке.
– Коровенок-то, слышь… не мотай, говорю.
Назар хлопает ремнем по толстому столбу.
– Что это, Фома Гаврилыч?
– Да коровенок-то, как в отправку, не бросай. Я за собой оставлю.
– А пошто мне мотать? Молочишко дают, ничего себе… Нет, коровы дельные.
Фома долго щурится. Наконец, раздраженно гугнит:
– Доить-то кто будет без тебя их, белка, что ли, станет?
Назар прыскает на столб:
– Ну, чудной же этот самый Гаврилыч!
– Да ты не пудляй! Загибать как пошел!
– Тоже выговорит!
– Чего петлять? Кого хошь обогнуть? Знам мы вашего брата!
А Назар, верно, не слышит. Переходит, копошится по темным углам и говорит, говорит без конца:
– Пошто это люди врать умеют? Врут и врут – кабы что. То ли тесно им, то ли как? Не придумаешь сразу. Черт под баней вьюшками стучит, а баба говорит: «К обедне зазвонили». Тут в работе жилы вытянул, а он в отправку собирает… Ты, Фома Гаврилыч, топором-то ловко мастеришь. Мне бы горницу к избе приткнуть. Баба все тоскует. Тоже в праздник Христов негде и гостей попотчевать. Ежели что, так и поеду лес сочить.
Тонко и вычурно плетет он свой узор, едва ли и сам себе не верит, да не проведешь Гундосого. Он презрительно меряет глазом Назара, чистит культяпыми пальцами сильно рваный нос, потом с сердцем плюет в землю и, забывая застарелую боль на иссеченной кнутом спине, срывается с места, домой.
Беловодцы свое делают. Лучшие, испытанные кони наготове. Понашиты крепкие сумы. Сухарей насушили пудами. Мужики ненароком где-нибудь столкнутся и опять поговорят. Каждый на себя готовит, но мирских советов держатся. Бабы много шепчут по закутьям, да не все договаривают. Другая лишнее сболтнет, так задергают ее потом и свои и чужие.
Ко всему другому мужикам забота – Сенечка Бергал.
Почти все они сами того же заводского корня, да забыли уж об этом. Схоронили тяжелое прошлое вместе с тем, как хоронили отцов. Теперь все один к одному – и Бергал, темной ночью отковавшийся от тачки, и солдатский сын, и чернец с Иргиза – будто век тут жили. Сенечка пришел совсем недавно. Не пошел в деревню, сколотил себе избу под соседним шишом. Пасеку из двух колодок там завел, выкрал в дальних волостях трех киргизских лошадей, промышляет зверя. По-медвежьи живет, по-берложному. С мужиками разговаривает гладко, а боятся его. Все толкуют – не с добра тут дело. Заседатель знает и не трогает его. Почему так? Позабрали их тут сколько, все ущелины обшарили, а его будто не видят.
– С заседателем снюхался, вот и все нипочем. Сторожить его приставили.
Не могли забыть того, как прошлый раз нагрянул заседатель.
– Ровно клин загнали – не позднее, не раньше. А кому же больше? Сенечка наворожил. Это он.
Уже за сорок стукнуло Сенечке, а все он – Сенечка. Никто и никогда не назовет иначе. Лицо Сенечки, избитое оспой, изуродовано во всю левую половину сильным ожогом. Еще в юности, случилось, подвернулся на заводе к какой-то машине, да не вовремя. Струей пара сварило, пузырем подняло кожу. Долго гнил и лечился молодой Бергал – ничего не помогало. Уже хотел – с заводской плотины вниз головой, да старуха Бугрышиха заживила рану куриным пометом на коровьем масле. Кожу на щеке стянуло в три кулька, а отгнившие веки на левом глазу так и не выросли, отчего белок, затянутый кровавыми жилками, постоянно слезится и мокнет. Круглый красный глаз сделал ординарное лицо незабываемым и страшным. К тому же на ошпаренном месте борода растет клочками.
Болезнь разломила каторжную жизнь на две половины, и то, от чего раньше хотелось умереть под кнутами, живет теперь в сердце праздным воспоминанием. Тогда он был здоров, был такой же, как все, и вот умер прежний Сенечка – фартовый паренек, а вместо него плутает по свету старый, изувеченный Бергал, никому не нужный, всех пугающий.
Сенечка давно уже отвык делить людей на дурных и хороших, на добрых и злых. Все они в его глазах равны, все живут для себя.
Идет Сенечка по улице, а мальчишки, прячась за плетень, горланят с надсадой: «Сенечка Бергал, шел по улке да моргал! Сенечка Бергал, глаз на кустике продрал». Или, пробираясь за деревней, натолкнется на играющую молодежь, а девки прыснут в сторону и все охают пока не скроется из виду: «Напужал, окаянный! Думала, черт»… А другая над ней шутит: «Хошь, сосватаю?».
– Оборони господь!
Сенечка молча пройдет, не оглянется, не вздрогнет, только в сердце станет больше одной капелькой яда. Копит его Сенечка, бережно носит, будто казну дорогую, уже много-много накопилось.
В темные зимние ночи, когда, задувши сальную светильню, лежит Сенечка на нарах под овчиной, грудь теснит и давит страшной тяжестью. И кажется ему, что скоро сбросит он проклятый камень, встанет во весь рост, здоровый, красивый и сильный, а камень с грохотом рухнет в долину и раздавит деревнюшку вместе с сытыми мужиками, краснощекими бабами, со скотом и со всем.
Жизнь идет отдельно от людей. И те, что внизу под ногами, и те, что в таких же деревнюшках, городах и заводах за туманным хребтом, все они, как муравьи: нагребли свои кучи, натаскали сору-мусору, кровью да слезами его полили. От рожденья до могилы копошатся в своих кучах: одни голодают и дохнут, тогда как другие стоят над ними с толстыми ременными кнутами. А лица у этих – широкие, красные, рубаха без пуговки, точь-в-точь как у заводского палача Емельяна Игнатыча. Мир-то большой – не окинешь глазом с самого высокого белка, а земля вся складками, с высоты посмотришь – будто море волнуется, и в каждой складке – люди. Душно там стало Бергалу, омерзели люди. С горы теперь смотрит на них и смеется. А умрет – назовут эту гору Сенечкиной, как назвали уже много по имени таких же скрытников. Гора, темная, большая, поросла до снегов непроезжими лесами, вся изрыта падями. Избушка Сенечки приткнулась одним боком к оголенному граниту, и не видно ее. Выйдет Сенечка к обрыву, взглянет на пол, на деревню, и тошно станет, как вспомнит, что опять надо идти за хлебом. А деревня-то лучше других: все отбойный народ, каждый сквозь огонь прошел. Да уж начали корни пускать, по-мужицки жить хочется: где ни ходят, ни ищут, а назад вернутся.
Пришел Сенечка в деревню попариться. У вдовы Агафьи городил плетень, так обещала пустить в баню.
На дворе суббота. Все идут – кто с реки, кто на реку – все с березовыми вениками. Бергал тоже наломал дорогой лохматых веток. Заглянул в проулок, а на речке шум стоит. По берегу курные баньки паром исходят от жару. В отворенные низкие дверцы мечутся красные фигуры, прямо от каменки да в ледяную воду. Вон под мостком, по пояс в плещущей валом струе, стоит разомлевший Хрисанф. Сенечка присел было за прясло, да тот уже увидел, окликнул его:
– Подходи под мостки-то попариться. Жжет тут, парень. Сверху и снизу калит.
– Может, мне и каменка найдется? – огрызнулся Бергал, выходя на ярочек.
Хрисанф плеснул воды на грудь и густо крякнул.
– К Агафье што ли? Та-ак.
Он подряд три раза окунулся и, спотыкаясь на гладко обточенных гальках, выбежал на берег. Бергал уже спустился к нему и присел. Его небольшая фигурка казалась бугром рухляди, прикрытой рваным зипуном да тяжелой бурой шапкой, из которой лезло во все стороны перо. Хрисанф стоял перед ним, напяливая белую рубаху, огромный и сильный. Одеваясь, он искоса взглядывал на Сенечку и никак не решался сказать того, о чем давно уже болтали на деревне, а тот повертывал в руках длинную красную гальку, внимательно разглядывая на ней каждую крапинку, словно делал что-то неотложно-нужное, потом с силой отшвырнул ее, вскочил и пошел.
Хрисанф собрался с духом.
– Вот што, Сенечка! Слышь!
Бергал вернулся.
– Ну, рассказывай. Каменка стынет.
– Вот што, парень… – сам застегивает пуговку у ворота и опять молчит.
– Ну?
– К тебе на гору с деревни ветром не напахивает?
Бергал испытующе прищурил глаз.
– Бывает случаем.
– Слышал, значит?
– Много слышу, еще больше вижу, с горы-то способнее.
– Та-ак. На казачий пикет, видно, весточку послал?
– Боле меня знаешь, пошто спрашиваешь? Пока не посыловал, а сорок мимо летает довольно. Не усмотришь за каждой.
– Брось-ка, парень!
– Чего это?
– Если хочется гулять по свету, брось. Пропадешь за гроши.
– Пошто так сердито?
– А вот так! Говорю тебе – значит надо. Мужики не попустятся. Сумленье ты нагнал большое. Сам понимаешь.
Сенечка закашлял от смеху. А Хрисанф одним шагом подвалился вплотную и дохнул ему в самое лицо такой злобой, что в спине зазнобило:
– Д-дымом пустим! Против миру не ходи.
Бергал отступил и насупился.
– Не пужай, Хрисанф Матвеич. Меня этим не возьмешь: самого боятся.
Он оглянулся на деревню и перекинул веник под другую руку.
– Не тем зельем лечить меня взялся… Коней-то видел моих? Телом шелковы, а жилы – проволока. Не устанут, небось, впереди пойдут.
– К чему это ты?
– А уж там смекай. Хочу избу сиротой оставить. Тогда отпихнули, ну и вышло ни сладко, ни кисло. Теперь снова миру кланяюсь. Возьмут с собой счастье пытать – глаже дело выйдет. Заседателю мраку подпустим… Вот так-то, Хрисанф Матвеич.
А сам запахнул армячишко вглухую и пошел по берегу, шурша мелкой россыпью в ложбинках. Немного отошел и обернулся.
– Подумай хорошенько… А я коней-то кормлю…
Хрисанф, хмурый и косматый, все смотрел ему вслед.
V
Петровки были на исходе. Беловодцы собирались в поход.
Теперь часто на деревне видели Бергала: его брали с собой. По вечерам он бывал у Хрисанфа. Они подолгу разговаривали после ужина в глухом крылечке. Иногда подходили и другие мужики, чаще всех Асон с Назаром, но Панфила там не было видно. Прихворнул опять старик. Как-то тронется в путь? Не в последний ли раз?
Народу собиралось уходить немного. И Хрисанф и Панфил после долгих споров выбрали новый, неведомый путь. Если все будет благополучно, можно выслать гонца; тогда и остальные тронутся. С семьей поднимались только двое – Назар да Анисим.
Сын Назара, Иван, с той поры, как стали говорить о сборах, все тоскует, ходит с темным лицом. Надо уважить отцу. Как он там, один-то? Уже к старости дело, да и просит пойти. Но как оставить Акулину? Не упустит Гараська. Евсей так и прочит ее за Гараську Фомы Гундосого, об осени свадьбу играть собирается.
Акулины не видно давно: на пасеку угнали. Это тоже неспроста. Не девичье там дело. Знать Фома с Евсеем уж по рукам ударили, а девку хоронят. И вдруг смертной тоской загорелся Иван. Всегда скромный и тихий, не умеющий ответить на Гараськины насмешки, он заметался, вспыхнул лютой ревностью.
Отдать Акулину? Никогда! Никому!
Повидать бы ее, да за белок, на пасеку, не ближний путь. Но вот Акулина вернулась. Пришла ночью пешком, вся ободранная в кровь на россыпях.
На другой день под вечер вышла в ельник за деревней. Иван туда пробрался косогором.
Вот густая, до земли опустившая свои черные лапы, старая толстая ель. Здесь прошлым летом в первый раз они встретились один на один: ушли с полянки. Все дурили, смеялись, а потом присели отдохнуть, да и проболтали до ночи…
Скотская тропинка извивается в кустах веревочкой. Идти по ней легко. На душе так радостно и жутко. А вдруг еще нет Акулины? Ель-то вот уж, совсем близко… Распахнул последние кусты и растерянно остановился. Под одной из старых веток, прислонясь к ней головой, сидела Акулина. Улыбнулась, расцвела во все лицо и молча хлопнула рукой о землю.
Иван опустился с ней рядом. Сам тоже такой ясный и радостный. Не замечает даже и того, что не сказал: «Здорово!». Акулина поправила на голове цветную гарусную шаль, повитую жгутом, и протянула раненые руки.
– Глянь-ка! Изукрасилась.
– Где это?
Она улыбнулась…
– Пошла с пасеки за ягодами… Ну, заблудилась по ключам-то… ходила, ходила да Собачьей речкой на деревню вышла.
– Соба-ачьей?! – ужаснулся Иван. – Ты ври-и!
Он с восторгом смотрел ей в серые глаза, и в памяти проносилась картина ущелья. Бурливая, порожистая речка… Острые утесы один за другим…. Между ними – россыпи, по которым нельзя шагу сделать, чтобы не скатиться вниз и не обрезаться на сланцевых осколках. Кусты, столетние коряги. Только собаки забегают в него да Бергал за козлами.
– Одурела девка! На деревню, што ли, поманило? А?
– Не знаю.
Сказала уже без улыбки, но в этом «не знаю» было так все понятно и близко обоим.
Иван обнял ее за плечо и притянул к себе.
– Ой! Тихонько ты! Рука-то ноет, отбила на камнях.
– Рази где упала?
– Прямо к речке скатилась. Чисто всю исколотило. Коленки в кровь снесла.
Говорила тихим шепотом, уткнувшись головой ему в складки кумачовой рубахи.
Иван, забывшись, снова тиснул за плечо.
В сердце поднималось то жгуче-туманное чувство, с каким всякий раз он вспоминал Акулину. Сначала стыдился его и боялся. Казалось, что с ним только одним бывает так. Надо работать, а тут в голову невесть что забьется и мутит, и кружит, будто пива медового выпил. Все последние дни, как ни работает, как ни устанет, а до вторых петухов не может глаз сомкнуть. Все стоит перед глазами Акулина – будто манит его. А то вспоминается, как на полянке отрезала она Гараське. Прилип к ней хуже липучки-травы, никак не отдерешь. Сам пьяный, все хохочет, скалит зубы, а как рядом сядет – за рубаху лезет. Дала ему локтем прямо в рожу.
– Отвались, окаянный!
Вспыхнул, загорелся Гараська.
– Тебе бы Ваньку подкатить?
– Да не тебя уж, чертов зять!
– Так Ваньку?
И не утерпела Акулина, крикнула в слезах:
– Отвались ты, окаянный! Богом прошу!.. Мил он мне!.. В ковшичке воды его бы выпила, а тебе ни в жизнь не дамся.
Вся поляна ахнула: Гараська не спустит посмешища, не таковский он.
С тех пор оба боятся его.
– Ишь ведь дура, убралась как.
Акулина прижимается крепче. Так вот сидеть бы и день, и другой, никуда не уйти от Ванюшки, никого не видеть… А он откинул осторожно сарафан и гладит колени.
Рука нежно скользит по горячему телу. В голову ударило что-то пьяное, тяжелое.
Но Акулина спрятала колени, и разом все потухло. Понял, что не так теперь надо. Еще крепче прижал ее, а она упала головой в колени и, закрывая ноги сарафаном, повернулась лицом кверху, – всегда так делала, когда встречались здесь.
– Што на деревне? Сказывай.
– В отправку скоро… Раза два-то, может, и приду сюда, а потом уж…
Он с болью улыбнулся.
– Гараську приведешь…
– Ду-урной какой ты.
Акулина с обидой вздохнула и круто отвернулась.
Сквозь кусты черемухи ей видно в мелкие просветы у корней деревню. Избы все такие жалкие, не больше пчелиной колодки, и все серенькие, одинаковые. Солнце уже село за белком. Внизу тускнут, темнеют дружные деревья над речушкой. По дальним ложбинам ползет серая муть. Скоро поднимет ее из долины до самых белков. От деревни по ветру наносит жильем. Акулина смотрят на деревню, и перед ней встают все мелочи летнего вечера. Мать несет из погребушки молоко и озирается по сторонам: Пахомку ищет, а тот, наверное, у Петьки – в «Зелено» играет… Отец ходит по амбарам – щупает замки… Вот за ветлами изба Фомы. Жить в ней, чо ли, придется? С Гараськой.
Жутью и холодом пахнуло в душу. Будто подвели к обрыву и толкают. Едва передохнула, чуть не крикнула. Обернулась порывисто, схватила Ванюшку за плечи.
– Не останусь я тут, не останусь! Смерть мне без тебя… Возьми с собой!.. Не бросай!.. Ванюшка!
Он растерянно смотрел на нее.
– Да как это? Что ты, Акулина! Обумись!
– Нет, не останусь, не останусь! – с ужасом твердила она, обвивая его шею руками.
– Пойдем вон куда… Поди, слышала, кто назад-то приходит. На смерть, можно сказать. Мужикам – за беду, а вашему брату…
– Там и бабы будут… с седла не свалюсь, хошь куда доеду.
Иван замолчал. Нежданной радостью пахнуло на него, будто нашел дорогую потерю.
– Я еще на пасеке все обзаботила. Лошадей двух возьму. Одну – Белку, помнишь по весне-то скинула? А другую – Каренького. Под седлом он хорош: зыб сюда, зыб туда. Добро. Можно выспаться… Приданые обе. Тятя сам благословил… Сухарей вот только… – Она задумалась. – А я муки нагребу полнехоньки сумины, да масла, да меду. Никого не объем.
Уже отхлынул страх, пропала нерешительность. Боялась сказать, а теперь так легко. Но Ванюшка все молчит. Наконец, словно проснувшись, засмеялся радостным свободным смехом и, обнявши ее сильными руками, притянул к себе.
– Ну, девка! С этакой не пропадешь! Беловодка голимая. Куда загнула! А что же Гараська-то? Как его? Значит с горки, да вниз?
– Подь ты к духу вместе с ним, бергаленок окаянный! С души меня прет, как увижу его.
– Все не краше его, – с серьезным лицом протестовал Ванюшка, но каждое ругательство по адресу Гараськи было слаще меду и хотелось слушать, слушать без конца.
– Не возьмут старики, – вдруг нахмурился он, вспоминая действительность, – тоже с мозгом народ.
Акулина насмешливо сгримасничала.
– Дуру нашел! Кто-то пойдет к старикам. Обойдется без них.
– Никуда от стариков.
– Выеду с пасеки… Коней там теперь кормим. Тятя глазом не сморгнет, как я утянусь. Сумы в сопках схороню накануне.
Иван блаженно улыбался, качал головой. Не было слов, и не хотелось говорить. Вот она, с ним! Разве может быть что-нибудь лучше! Разве не статней она всех, не красивей! Перед ней все девки будто обглоданный коровами кустарник перед пихточкой, будто звезды перед месяцем. Досталось же счастье! Не всякому дается. Верно, бог благословил. Вместе с ней и жизнь до могилы вести. Хозяйка – на завидаль. А как кичку наденет – заглядишься.
– Не оставлю. Пойдем, – в сладком волнении шепчет он, наклонясь к самому ее лицу, – женкой будешь… Дедушка обрачит, не откажется.
В мертвой темноте еловых веток кто-то шумно шевельнулся. Хрястнул сухим треском подломившийся сук. Оба вздрогнули и испуганно вслушались. Но вверху по-прежнему – ни шелеста, ни ветерка.
– Али белка, али сыч, – догадался Иван.
– Ну его!
Сама, в неге, закрыла глаза и потянулась по-ребячьи, выгибая спину.
– И пошто ты такая? – чуть слышно спрашивал он.
– А какая же!
– Черт тебя знает… Голова с тобой болит без водки.
Уже сильно стемнело. Под горой, на болоте, старательно скрипит дергач. Невидимая крохотная пташка все еще пырскает в ближних кустах и, поднявшись на вершинку, без конца твердит свою несложную, звонкую песню. С полу, от речки, то потянет теплом, то пронизает сыростью.
Глаза у Акулины потемнели. Только вскинет их – будто омут откроется. Сладко и боязно искать его дно. Не оторвешься, не уйдешь. А сама огнем горит. Жаром пышет от тела…
Не заметил, как рука скользнула за расстегнутый ворот. Шершавая ладонь с дивной лаской легла на испуганно вздрогнувшую грудь и мигом потушила испуг, разбудила ее. Акулина положила свою руку сверху, придавила что есть силы, еще и еще. Пусть больнее будет, пусть, потом дольше, дольше болит грудь, вплоть до следующей встречи… Глаза манят глубиной. Силы нет в них смотреть.
– Не отдам, никому не отдам!..
Шепот тонет в складках сарафана на груди… И оборвались слова, погасли. Все ушло назад…
Были только двое. Была тайна, великая, как мир, глубокая, как небо…
Черным тяжелым сукном лежала ночь в долине, когда они спустились по крутому склону к речке.
– Так завтра?
– Ладно, ладно, – соглашалась Акулина. – Только не припер бы Гараська… Ему на ухо нечистики подносят… Думала сегодня подкатится, да видно робить привалили.
– Поглядим, как придет! – с задором отзывался Ванюшка, ныряя в кустах. – На бергалят железко по руке найдется…
А заснувшая старая ель словно только ждала, когда подальше отойдут ее гости. Лишь затихли шаги, в ее плотных ветвях кто-то грузно шевельнулся, закачал их и пополз по стволу, ломая хрупкие сучки.
– На Беловодье собрались! – вылезая из-под ели, злобно хохотал Гараська. – Святую обитель отыскивать!.. Блудить под елками!
Он оправил штаны и рубаху, постоял немного, что-то думая, потом плюнул на то место, где примяли траву, и, скверно, вычурно обругавши Акулину, скользнул в темноту.
VI
Никитишна безропотно несла через года свое горе, глубоко затаенное, никому неповеданное, и все привыкли видеть на лице ее застарелую, тихую скорбь. Словно схимница, принявшая обет невозмутимой кротости, плела она скучный, изо дня в день одинаковый, узор своей жизни. Но, много лет сбиравшиеся, тучи опускались на седую голову все ниже. Вот уже средина лета. Беловодцам скоро в путь. Панфил опять повеселел, помолодел и вечерами долго молится, а днем с утра хлопочет над дорожными запасами.
На воскресенье вечером, после горячей бани, Панфил ушел в моленную к вечерне. Никитишна долго чесала в крылечке свою голову роговым щербатым гребешком, перебирая на руках серебряные пряди, потом успела подоить, прибрать корову, обошла по хозяйству и уже накрыла стол для ужина, а старика все не было.
– Затянулся к Хрисанфу. Сговор там теперь. На другой, видно, хочет жениться.
Она горько улыбнулась своим мыслям, но сейчас же отпугнула их, как надоедливую муху, и пошла опять в несчетный раз по вросшим в землю, ее ровесникам, клетям и амбарушкам, всюду находя неотложное дело.
В сумерках вышла на улицу, села там на приваленное к стене бревно, и тут только почуяла тупую боль, боль в разбитом старом теле. Не хотелось уже ни хлопотать, ни думать о домашнем. Сидела маленькая, сгорбленная, неприметная, а по широкой улице плелись хмельные мужики. Их голоса – один задорно-высокий и требующий, другой глухо бухающий непонятные слова – мешались с настойчивым собачьим лаем. Видно было, как рослые, тяжелые фигуры без пути сорвались в темноте и то сходились носом к носу, то порывисто бросались в стороны.
– Он это кобылу-то мою! А! – икая и отплевываясь, звенел ржавой струной тот, что был выше. – Са-аловую! Может он понимать? А?
– Ца-аган! Язва его задави! – буравил тишину другой, и тяжкие слова его, как падающие с утеса камни, пропадали где-то тут же, словно уходили в землю.
– Вот! Ты хорош… хороший человек, Петро Степаныч… тьфу! Вот!.. Я ему грю… горю ему… нне-ет, брат, нас за это место не уку-у-сишь. Верно? А! Верно я говорю?
Тени подвигались медленно. Никитишна старалась разглядеть, узнать их.
– Ишь, назюкались бласловленные. Другого-то никак не вспомнить… Ах ты, матушка моя, да это ведь зять Бухваловских! Приехал, видно. Вот Бухвалиха его накроет.
Никитишна вздрогнула: она и не заметила, как подошел Панфил.
– Заждалась, поди, к ужну?
Голос у него был кроткий, извиняющийся.
– Ну, дак время уж, мотри. Народ, однако, весь отужинался.
Хотела выспросить, куда ходил, да по привычке промолчала. Покряхтела, тяжело поднялась, опираясь костяшками пальцев в бревно, и пошла за Панфилом.
В крыльце они оба едва взобрались по скрипучей крутой лестнице и оба говорили старые слова о том, что надо бы подколотить расшатанные доски, подпереть их снизу, да уж вместе и всю избу обиходить к осени. Изба высокая, хорошая изба. Один лес кондовый чего стоит – рубили старики на выбор, когда деревню заводили – пол и потолок из аршинных, расколотых надвое бревен, через сто лет не погнется. Но не доходят руки.
– Суета все: то да се, – хозяйственно говорил в темноте Панфил.
Так хотелось верить этим простым мужицким словам, и Никитишна верила, опять надеялась на что-то радостное, светлое.
Отыскавши привычной рукой на полочке сальный огарок в самодельном подсвечнике, она ощупью попала в отворенную дверь и, пока дошла до печки, натолкнулась на Панфила, тихо творившего у самого порога краткую молитву, запнулась за полено, наступила на хвост кошке.
– Прости, господи, чисто без глаз. У-у, изжаби те, хвостатая!
Но и в брани было больше благодушия, чем злобы.
Она быстро раздула на горячей загнете лучину, и, как только вспыхнул огонь, мухи шумно снялись разом с потолка и со стен и бестолково закружились по избе роями. Тишина ушла куда-то в уличную темь.
Оплывшая свеча горела неспокойно – черная светильня загибалась, обвисала, и пламя исходило копотью. Пушисто-серые ночные мотыльки, ворвавшись через выбитое стеклышко, доверчиво летали вокруг пламени, садились на него и, обожженные, беспомощно крутились по столу на спинках. На них наползали медно-золотые тараканы, останавливались, мудро шевелили тонкими усами и, испуганные, быстро убегали под столешницу.
Никитишна, не затихая, шваркала ногами по полу. Панфил сидел на лавке. Утомленный длинным хлопотливым днем, он отдыхал. Мысли о том, большом и значительном, все еще властно проходили в голове, но старуха бросила с шестка тяжелое полено – и все пропало. Панфил вздрогнул и вгляделся в угол.
– Что она там? Все хлопочет, день-деньской не уймется.
И, как гость, давно не бывавший в этой чистой и теплой избе, он оглядел все стены, печку, потолок. Все было такое же, как у других, но откуда, когда и как попало оно в избу, этого Панфил не мог сказать: все это шло мимо него. Особенно странными казались ему пестрые, расшитые причудливым узором, рушники. Спускаясь по стенам от потолка до лавок, они придавали избе нарядный, хозяйственный вид. Сама ли вышивала их Никитишна, иль нанимала девок за ведро медового квасу для парней на вечерке – никогда об этом не подумал, не спросил, да и самые полотна – хотя видел их каждую минуту – разглядел только теперь. Словно незнакомую, рассматривал он сгорбленную, одряхлевшую фигуру старухи в подоткнутом за пояс темном сарафане, с головой, повязанной по кичке теплой шалью. В душе родилось что-то теплое, хорошее, и крепко захотелось сказать его, поделиться думами, спросить совета, но Никитишна, подойдя к столу с ковригой хлеба, посмотрела упорно в глаза, готовая спросить бог знает о чем, и он мгновенно встряхнулся, выбросил из головы житейское, опять наморщил лоб. А за ним потухла и Никитишна.