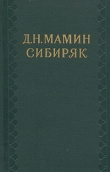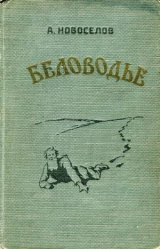
Текст книги "Беловодье"
Автор книги: Александр Новоселов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 12 страниц)
За ужином, неторопливо черпая из чашки горячие постные щи вприкуску с перистым зеленым луком, они скупо говорили малозначащие обиходные слова.
– С конями неладно у Хрисанфа, мокрец навалился… Мается теперь, подлечивает.
Никитишна насторожилась.
– Был там, видно?
Панфил низко нагнулся над чашкой, разыскивая мелкие куски картошки.
– Был… старики потолковать сбирались.
Он тихо улыбнулся и покачал головой.
– Беда с этим Евсеем. Разговору много, а того гляди останется. Опять на пасеку уплелся.
– Как ему не утянуться? Добро блюдет, – горячо сказала Никитишна, и в словах ее был нескрываемый укор. Но, спохватившись, она мирно добавила: – Куда ему! Настасьюшка заточит, съест, не пу-устит Настасьюшка.
– Вот, скажи, взяла силу баба, – самому себе говорил Панфил. – Кажись и немудреная, а по-мужицки правит.
«Таких-то не бросают, – думала Никитишна. – Вот увязаться бы, так и ты подумал бы… Сказать ему? Рассказать, как живу тут одна-то, как побираюсь? Докуда маяться? Случись – умри, и глаза прикрыть некому»…
Но пока сбиралась с мыслями, Панфил наелся. Облизнул надломленную ложку, заглянул в нее и положил перед собой горбушкой кверху.
– Слава тебе, господи… Досыта…
Длинные желтые пальцы, сложенные в двоеперстие, опустились птичьим клювом на высокий лоб и, на мгновенье задержавшись, быстро побежали по плечам, на живот и обратно.
Никитишна смотрела, как он крестится, как истово и просто шепчет длинную молитву, и опять он был перед ней чужим, далеким, мирским избранником, опять она боялась и не знала его.
– Собирался народ-то, – медленно тянул Панфил, отодвигаясь по лавке к окну. – Уж к одному бы, а то тянут и тянут. Там, гляди, опять рассохнется все дело.
Никитишна взглянула искоса и вытерла горстью сморщенные впалые губы.
– Кто идет-то?
Она знала, кто идет, но так хотелось разговору, откровенности.
Панфил послюнявил пальцы, сощипнул нависшую светильню и вытер руку о подол рубахи – все медлительно, спокойно.
– Идут немного. Асон в первую голову, – он загнул к ладони тонкий длинный мизинец, – Хрисанф – это два, потом – Анисим с бабой, Назар с бабой да с Иваном… вот. Бергал еще путается. Не к добру этот, да Хрисанф восстает за него.
Он поцарапался, собираясь что-то сказать, и обернул лицо к старухе.
– Бабы, вот идут… ничего себе, думают справиться. Может и пройдем… Куда здесь одной-то?.. Тоже ведь ни как-нибудь двинемся, с припасом да с оглядкой…
Дрогнула Никитишна, совсем поверила, да нет – не те слова, не так надо звать.
«Куда тебе со мной! Поперек дороги стану», – обидчиво думала Никитишна, едва прожевывая корку.
– Ну да и вправду, – живо закончил Панфил: – хлебнешь там горечка, какого и не видывала. Сперва проведаем, да тогда уж всей деревней… Вернее будет.
«Испугался, думал стану проститься»…
Никитишна сдержала подступившие слезы.
– Ступайте с богом. Где нам, грешным, всем-то.
Скорей встала и загремела опять посудой в закутке, стараясь не показывать лицо к огню.
Ночью Никитишна не спала до вторых петухов. Тихо-тихо лежала она на скрипучем голбце, а на ум приходили такие жалостливые слова, что бороться со слезами уже не было сил, и они бежали ручейками по щекам и по носу, обильно смачивая изголовье – лохматый овчинный тулуп. Никитишна боялась громко всхлипывать – не услышал бы Панфил на полатях – старалась спрятаться лицом в густую кислую шерсть. Жизнь расстилалась перед ней бесконечной пестрой полосой с горем, с радостями, с незаживаемыми до старости ранами, и то мелькала солнечным пятном веселая вечерка, где Никитишна – румяная Машенька – до смертной устали отплясывала перед парнем, то ненастной хмурой ночью наплывала сиротская доля. Тошно и темно становилось тогда на душе и хотелось плакать голосом, плакать громко-громко, в тон той мухе, что с самого вечера звенела в паутине под матицей.
VII
Петров день выдался мятежный, нерадостный. Не ходили по улицам девки, щеголяя бисером и лентами, за ними не следили парни и не гремели дружным хохотом, подкарауливши врасплох неразлучных подруг. По завалинкам – пусто. А солнце, как нарочно, не торопится. Купает землю в жарком золоте, белыми ключами гонит с гор снега. Высоко-высоко ушло оно в небо от студеных вершин и кажется, что никогда ему оттуда не вернуться.
Но за сборами, за предпрощальной суетой не заметили, как круто повернуло солнце книзу, как сменился знойный день прохладным вечером, как поползла из глубоких щелей тихая черная ночь, закрыла пади и вершины гор, схоронила землю до утра.
Беловодцы тянутся гуськом по косогору. Деревню пока еще слышно: она сразу за речкой. Разбуженные необычной суетой, собаки лают тревожно, настойчиво. Кое-где виднеются огни – такие неуверенные, слабые. Кажется, что огоньки перебегают с места на место. Мелькнет то здесь, то там и вдруг потухнет, а то разом вспыхнет их несколько – перемигнутся, дрогнут, и опять не видать. Всадники часто оборачиваются и, не замедляя шага лошади, ловят эти, будто им кивающие, огоньки. Тревожная тоска сжимает сердце. Все оставили – родню, хозяйство, теплую толстую печь…
В голове стоит еще прощальный плач, с которым провожала их деревня. Вспоминаются отдельные выкрики из темневшей на другом берегу толпы, когда уже перебродили речку. Много было слез и суеты. И друзья и недруги, словно по сговору, собрались проводить. Сплетни и дрязги забылись. Ни к чему это в такое время. До того ли!..
Теперь толпа уже расходится. Идут по улицам группами, толкуют о них, вспоминают Панфила, как он совсем по-особому кланялся каждому в ноги… Запирают наглухо ворота, стелятся, ложатся спать.
Не отгонишь мысли о деревне.
Друг за дружкой, молча едут всадники. Растянулись по крутому косогору от подола до средины. У каждого по два коня, завьюченных тяжелыми сумами.
Когда выступали, впереди поехал дедушка Панфил с раскрытым медным складнем на седле в коленях, а теперь продвинулся Хрисанф. Старику-то где же! Повернет неладно, а потом выпутывайся по тропинкам. В середине одна за другой качаются в широких седлах Дарья – Назарова баба, да Анисиха Василиса. Грузными клочками увязли они в седлах – не сшибешь, не стащишь. Обе вволю наревелись и дуются теперь на кого-то, будто их кровно обидели.
Огоньки пропали. Косогор все круче забирает вправо; выше и плотнее становится лес. Но все это пока еще – свое, родное. Василисе даже кажется, что она отправилась всего только на пашню, и сейчас же вспоминается действительность. Она вздыхает глубоко и оборачивается, стараясь разглядеть на извивах тропинки лошадь мужа, а разглядевши, сдержанно кричит:
– Анис! А! Ты это, чо ли?
– Ну, кого тебе?
– Ладно, ладно, поезжай… Я так.
Голос у нее низкий, грудной.
– Подпруга-то не хлябает? – допытывается Анисим. Не поймет того, что бабе только надо было слышать его голос.
Василиса отвечает нехотя:
– Ничего пока, держит… Сам заседлывал…
Но, минуту спустя, ей уже хочется использовать непривычную заботливость.
– Сумины вот ерзают. Быдто на бок тянет…
– А ты поддергивай… Слышь? Поддергивай, говорю…
Тетка Дарья откровенно хохочет.
– Иззаботила совсем!..
Она закидывает голову и звонко кричит:
– Сядь ты с ней вместе на рыжуху.
– Неловко на седле-то, – в тон ей отзывается Анисим.
Да, знать, не вовремя с шутками вылезли. Никто не откликнулся веселым словцом.
Под горой бежит речка. Ее ропот, чем выше дорога, сливается в баюкающий ровный шум, и, если долго слушать, то начинает казаться, что там шелестит густой камыш под ветром. Но ветра нет. Он гудит по снеговым вершинам, а внизу, как в ямб – не пахнет в лицо, не дрогнет глубоко заснувшая трава. Лес черный, пугающий, застыл в своем молчании. Стволов не видно. Они тонут в непроглядной темноте, и лишь те, что стоят подле самой дороги, изредка рисуются прямыми толстыми колоннами. Там, где колонны подступают к тропинке вплотную, набитые туго сумины, то одна, то другая, шебаршат по корявым стволам. А под плотным навесом листвы – одна сплошная заросль кустарников и большетравья. К самым седлам тянет свои крылья папоротник, сверху кроют широкими лапами листья гигантских борщевников, а тяжелые шляпы их тонут в хвое нижних веток. Небо опустилось на вершины огромных деревьев. В редкие просветы между ними оно блещет крохотными огоньками. Звезды – как оконца. Через них на заснувшую землю брызжет тонкими лучами свет того неведомого мира, что закрыт от суетной земли непроницаемой завесой. Как там ослепительно светло! Как радостно!
Панфил, качаясь на стременах, поднимает глаза к небу, но не с жалобой и не с мольбой. Ничего ему не надо. Ликующим смехом смеется душа. Будь один – запел бы вполголоса, как любил это делать всегда, священные стихи, да на людях не умеет, и не хочется. Не верил все, казалось, что конца не будет сборам, и вот тронулись, пошли. В последний раз! Назад он не вернется. Он это знает, как точно знает и то, что Беловодье будет найдено.
Панфил молитвенно смотрит на звезды.
– Господи, господи! Благодарю тебя, всесильный.
Он бодро выпрямляется в седле, вдыхает полной грудью свежий воздух и начинает охорашивать коня. К седлу на длинном поводе привязана другая лошадь. Она покорно тянется в хвосте, Панфил потрогал ее повод, подвернул кафтан под ноги и, невольно дрогнув от ночного холодка, опять сгорбился, ушел в свои думы… Никитишна? Пошли ей, господи. Ни роду, ни племени. Всех ребят схоронили… На кого осталась? Старуху уважают, да уж все не то. Перестала роптать. На проводинах шибко убивалась, а не сказала поперек ни слова…
Панфилу вспомнилась вся жизнь, и до слез стало больно за старуху. «Как дойдем на место, надо вывезти ее». Мечты захватили его, понесли через пустыни. Чудилась новая опрятная деревня. С того лета заживут они уже по-новому и никуда, никуда он не уйдет из дому. Только бы обет исполнить, а там можно и пожить спокойно.
И вдруг обжигает огнем. Дьявол это путает. Про деревню шепчет, окаянный, да про теплую избу, отводит от обители. Нельзя, нельзя! Обитель прежде…
Его будит бодрый оклик сзади. Назар тоже вспомнил проводины и хлопоты старосты.
– Василий-та! А? Ладно коробок заплел? Быдто ничего себе не знает, прилетел на речку: «Е-етто кто тут? Куда сбеленились! Опять за границу? Без пашпорта? Сейчас вернись, не то с пикета поворотят!..».
Назар подражает густому басу старосты, и это выходит забавно. Все смеются, но не столько над Назаром, сколько тому, что Василий Так умно увернулся.
– Ему тоже, брат, спину покрывать берестом не по ндраву, – хохочет в темноте Анисим. – Заседатель прибежит: «Чего смотрел, староста! Беловодцам потакаешь. Ложись! Втесать ему сотню березовых!»… А теперь ему што! Вестовой по утру на пикет поедет – так и так…
Хрисанф слышит разговор и молчит. Он едет впереди на молодом, задорном жеребце. Жеребец, волнуясь за кобыл, идущих сзади, часто косит туда глазами и чутко слушает родную поступь. Хрисанф, подбоченясь, все смотрит и смотрит в таинственную темь, и не темную ночь, не небесные оконца видит он – видит жаркий, сияющий день, огромные неведомые горы, а за ними необъятный простор… На гряде холмов, встающих поперек дороги, показались всадники. Они машут руками, кричат и бегут врассыпную… Хрисанф понесся им наперерез.. Вот, вот!.. Не уйдут!.. Быстро вскинул ружье и прицелился. Гулкий выстрел толкает в плечо. В голове зашумело. Лошадь спотыкается о подкатившийся под ноги труп киргиза… Собака, живучий! Зевает!.. Надо лошадь поймать. Неужели покупать их тут?..
Но и в самом деле жеребец неловко спотыкается о придорожный камень, падает на колени и, испуганно взбросивши голову, сбивается с мерного шага на рысь. Едва усидевший Хрисанф натягивает повод так, что лошадь скалит зубы и мотает головой. Он вполголоса ругается и вслед за тем зычно кричит:
– Куда смотришь! Гляди у меня! Нно!.. Ты!
Жеребец, словно стыдясь за оплошность, начинает еще больше нервничать.
Выше и выше дорога. Уже обогнули всю гору. Лес окончился, открылась падь. Она темнеет слева бездной, а справа – оголенный давними пожарами, крутой, высокий склон. По нему кое-где торчат мертвыми столбами обгорелые пни. А выше гладким-гладким скатом тянется он к небу. Не найдешь ему конца. Дорожка мягкая. По сторонам ее двумя невысокими стенами стоит темная густая трава. Лошади срывают на ходу лохматые пучки и, переваливая языком железо, жуют громко, старательно. Они быстро отдохнули от лесного подъема. Теперь целых пять верст до самой вершины речушки – все по склону, не ниже, не выше. Люди, зная это, распустились в седлах. Теперь не надо поминутно наклоняться, отводить руками ветки, лбом не ударишься о корявый сучок. Над головой – простор. Мерцающее тысячами огоньков, опять ушедшее в свои высоты небо так величественно и спокойно, что под надежным покровом его невольно хочется закрыть глаза и чуточку вздремнуть.
Все уже давно молчат. Только в последнем звене неуемный Назар чуть слышно наговаривает что-то лошади. Асон едет вслед за ним. Он беспокойно поворачивается в седле, подолгу щурясь в темноту, и, наконец, окликает Назара:
– Погляди, што ли, парень…
– Чего это? – беззаботно отзывается Назар.
– Да погляди, мол… Ровно бы Бергала не слыхать.
Назар тоже смотрит и смеется:
– Куда ему деться?.. Ползет… Эй! Иванша, – весело кричит он через голову Асона: – Сенечки не слышно?
– Туто… едет, где-то совсем близко, – говорит Иван, но так неприветливо, словно его разбудили не вовремя.
Назар как будто хочет оправдаться.
– То-то! Не завяз ли, мол, где… Ишь ведь ноченьку-то бог благословил.. Ежели чо с конем неладно – не распутаешься.
Асон неодобрительно ворчит.
А Бергал придерживает лошадь. Одному свободнее. Бодро и чутко сидит он в седле. Не проронит ни слова. Все слушает, но не людей – от них он ничего не ждет – душа его слушает дивную ночь. Много их, мертвых ночей, провел он один на один, да эта совсем не такая. Она сулит что-то опять, рассказывает, как ребенку, жуткие дикие сказки… Жизнь ломает эта ночь…
Дробным шагом идут лошади, позвякивая серебром на седлах. Внизу, по подолу горы, шумит невидимая речка. С пади тянет сыростью и потому все больше зябнется.
VIII
Речку извершили только к свету. Перевал был тяжелый, но свежие кони осилили. Все осталось внизу – без устали бегущие потоки, темные леса, хутора и деревни – все утонуло в океане мутной мглы. Над головой – предутреннее, стали подобное небо. Под ногами – красная, бесплодная земля. Широка и покойна поднебесная лысина, едва прикрытая лоскутьями снежных ковров. Лишь в одной стороне, неподалеку от дороги, торчит уродливым наростом каменный утес, а под его защитой уцепились крепкими корнями и живут три кедра-карла, три околдованные небом смельчака, дерзнувшие перешагнуть земные грани. Ветви их ушли в сучки. Вся жизнь малюток-стариков – холодна и скучна. Выросшим под дикие песни метелей, непонятна им нежная песенка случайно залетевшей птицы. Но над ними, на старом утесе, часто отдыхает свободный орел…
Мутные, растрепанные клочья сырого тумана, вырываясь с ветром, быстро проплывают по земле и исчезают в пади. На зябком сквозняке прохватывает дрожь. И люди и лошади спешат к привалу. Вот только бы пройти седло, спуститься к полосе лесов.
Когда шли мимо кедрачей, Ванюшка приотстал, свернул туда и осмотрел внимательно сучки.
– Много шишок-то набил?.. Угости, што ль, орехом, – хохотал Назар, когда тот вернулся.
Ванюшка, чем-то сильно обрадованный, скалил зубы и молчал, пряча в пазуху завязанный тремя узлами кумачовый лоскут.
Дорога скользнула в уклон. Уже скрылся за седлом утесик. Внизу обозначается вершина речки. Тропинка сначала несмело огибает крутые места, но вдруг падает и вместе с ключом, не отступая от извилистого русла, уходит по щели в долину. Земля тинистая, слабая, напитана ключами. Кони подтянулись. Они зорко смотрят в землю, пробуют копытом, где ступить, и, сильно приседая на хвост, с тревожным храпом, то скользят по мокрой глиняной катушке, оставляя вытянутыми передними ногами глубокие борозды, то дробно чмокают копытами и подбирают зад. Люди опустили поводья, предоставили себя уму и ловкости животных. По сторонам опять встает стеной тяжелая под утренней росой трава. Редко кто ее тревожит – наклонилась над тропинкой и купает до колен студеной влагой, пробивая армяки и кафтаны.
Но вот ключи слились и идут уже бойкой речушкой, оголяя груды мелких валунов. Дорога все отложе, и скоро глинистые кручи остаются сзади.
Опять начинается лес, – чем ниже, тем строже и гуще. Тропинка то и дело опускается к воде. Идти по грудам скользких камней трудно, тяжело. Холодная, белесая во мгле, вода бурлит и мечется. А над рекой уходят в небо острыми вершинами ряды вечно парадных пихт, многостолетних лиственниц, уютных, пышных елей.
Ночь медленно идет к теснинам гор, а вслед за ней с одиноких подзвездных вершин опускается утро. Небесные ночные огоньки бледнеют, тухнут в сером свете. Небо – холодное, мертвое. Местами по нему ползут гуськом, черневшие в ночи провалами, а теперь такие белые-белые небесные лебеди, и на глазах людей творится чудо – свет рождается в самом себе. Порозовели лебеди и вспыхнули. Совсем уже светло. Пропала тайна леса. Он проснулся, начал длинный, яркий день. В его тени запели птицы. И земными переливами полутонов играет воздух. Еще не видимое, солнце на шпили утесов, на вершины снежных гор кидает пятна краски. День идет царственной поступью. Он близко, он подходит! Из-за дальнего гребня, четко вычертившего свои зубцы на огненном небе, поднимается солнце. Оно бьет прямо в глаза, слепит и заливает падь…
Хрисанф, щурясь, подставляет руку козырьком и смотрит на дальний лужок. Там, подле черной ели, виднеются две лошади. Он бессознательно натягивает повод.
– Погляди-ка, Панфил.
И не успел Панфил оглянуться, как жеребец, насторожившись, заржал звонко и радостно, сильно подбирая брюхо.
– Кого это закинуло?.. Не Афанасий ли с маральников тянется?
– Афанасию зачем? – протестовал Хрисанф, – никак не по пути.
Забота перекинулась другим, и все, приподнимаясь ни стременах, смотрят вдаль.
Иван ерзает в седле, оправляется и попусту кричит на соловка.
Нехорошая встреча. Свои все дома, значит, заехал чужой. Но после коротких размышлений, снова прибавили шагу. Вот под деревом и человек виднеется.
– Баба! – не то удивленно, не то торжествующе кричит Назар. – Правильно! Баба!
– А лошади Евсеевы, – добавляет Хрисанф.
Все забыли усталость. Ожидание встречи было жутко и радостно. Ведь совсем ушли от людей и от мира. Ночь за ними бросила тяжелую завесу, навсегда отрезала, и вдруг – живой человек, кто бы он ни был.
Когда спустились в ложбину и от елей остались только стройные вершины, любопытство сделалось мучительным. Наконец, поднялись. Задорно и приветливо заржали лошади.
– Акулина! – вырвалось у всех.
Она лениво поднялась с разложенных сумин. Стоит, потупясь, неуклюжая, толстая, в широком зипуне, крепко стянутом мужицкой опояской. Сбоку в ножнах длинный нож. На голове глухой повязкой шаль.
Обступили ее. Бабы лезут вперед.
– Господи Исусе! – шепчет Василиса и сейчас же испуганно спрашивает:
– Ты откуда, девка? А?
Молчание.
– Гляди, гляди! Две лошади! Сумины! – насмешливо тыкает плетью Хрисанф, не замечая Акулины. Он уже понял, в чем дело. – Совсем беловодкой обрядилась. Верно, Евсей за себя посылает.
Но он быстро меняет тон и, слегка наклонясь в седле, говорит повелительно:
– Укладывайся-ка, деваха! Вот что!.. Завьючить поможем… Укладывайся, да качай до деревни. К вечеру подъедешь. Не моги у нас. Без тебя запутаемся…
– Да ты того, постой… – нерешительно перебивает Панфил, – может, ей чего-нибудь… Кто ее знает…
Акулина поднимает кулаки к лицу и голосит:
– Дя-яденька-а Хрисанф!.. Пойд-ду… Ей-богу, ну, пойду-у.
– Ккуды-ы ты пойдешь? – орет Хрисанф. Он хочет сказать что-то еще, но плюется и кричит:
– Ходу, ходу! Пошли!
Сам круто поворачивает лошадь на тропинку.
Но Назар протестует:
– Девку бросить, што ли? Как она? Одна-то.. Ты пошто, Акуляша… убегла?
Голос у него добрый, отеческий, и Акулина не выдерживает. Она громко всхлипывает и, опять обращаясь к Хрисанфу, взывает:
– Дяденька Хрисанф!
Знает, что вся сила в нем.
А он:
– Хрисанф! Хрисанф! Кого я тебе?
Молча оглядывает ее и презрительно смеется:
– Са-аплюха!
Как под струей холодной воды, Акулина вздрагивает, отнимает руки и, ни на кого не взглянувши, садится на сумины лицом к дереву.
Панфил качает головой и ласково ворчит что-то под нос. Асон хмуро смотрит под ель и, тяжело дыша, собирается сказать свое громкое слово. Но Ванюшка разбил нерешительность. Все сидел в седле, как на иголках, краснел и уклонялся от проницательного взгляда отца, а когда заметил, что мать неодобрительно поджала губы и вот-вот метнет Акулине обиду, вскочил с седла и, сильно хромая на затекших в дороге ногах, весь красный, какой-то не свой, подошел к Акулине, поймал ее за руку и потащил повелительно к отцовской лошади. Девка ошалела, смотрит и не знает куда. Иван не видит никого. Перехватило горло. Пал на колени, увлекая Акулину, дуется, хочет громко сказать, а голосу нет, как во сне, когда гонятся волки или медведь наседает. Наконец, сказалось.
– Тятенька!.. Мамонька!.. Благословите!
Акулина смутилась, потеряла с лица и мольбу, и угрюмость, смотрит в сторону, будто ищет, куда скрыться. Иван что-то лепечет, но никто не слышит его слов. Все это кажется таким несуразным, неожиданным. Хрисанф, не скрывая любопытства, подвигает лошадь и, лихо подбочениваясь, как-то особенно лукаво смотрит Назару в глаза. Тот поперхнулся, поглядел на всех и, мгновенно входя в роль, застрожился:
– Ты мне сын али нет? А? Сын ты мне али нет? – И, воображая, должно быть, отрицательный ответ, еще больше повысил голос: – Ты этого… того! Не могешь! Вот што, приятель!
Дальше он не знал, что сказать, да и не хотелось говорить. Он давно все видел и давно мечтал ввести в дом Акулину, породниться с Евсеем наперекор Гундосому, но все это представлялось необыденно-праздничным, «как у всех», с двухнедельной гулянкой, шумом, суетой и, главное, дома, а тут выходит вон что… Боролись два чувства. Но вспомнивши, что на него, на отца, теперь все смотрят, опять закуражился.
– Поперек еще лежишь!.. Можно разговаривать… Посмотрим! – взвизгивает он, болтая рукой.
Акулина вырвалась и убежала к дереву, уткнулась головой в сумины, словно прячась от великого позора.
– Посмотрим, как ты это без отцовского-то без благословения управишься..
И не понял Иван отцовского сердца. Вскочил, затрясся, чуть не взвыл.
– Я тебе собака? – закричал он в морду Назаровой лошади. – Собачью жизнь мне хочешь?.. Я… Я… Сам-то жил?.. Домом, хозяйством… Моего там поту немало. Куда меня погнал? Хочу тоже, хочу домом жить!
– Иван! – резко крикнул Асон, ударяя лошадь каблуком, да так, что она заплясала: – И-иван!
Ванюшка съежился, затих на полуслове. Он уже не верил себе, что мог так сказать. Кому! Отцу!
Дарья затянула было голосянку, что-то наговаривая нехорошее, обидчивое, но Назар прикрикнул:
– А уймись ты!.. Испрожабь вас в душу, в горло!
Он уже и в самом деле обозлился. Зачем-то соскочил с коня и, сильно покачнувшись на отсиженных ногах, еще больше вскипел:
– Куда от вас от окаянных?.. Забежаться бы в лес!
– Брось, Назар, не шуми, – мягко вступился Панфил. – Кого тут? Оно, конешно, дело твое, сказать, истинное, ну да кого там… – неловко заикнулся и обратился уже ко всем: – Расседлаться бы?.. Стан тут богатеющий.
– Надо расседлаться, – радостно откликнулся Анисим.
Хрисанф благодушно покрутил головой и, грузно падая с седла, захохотал:
– На свадьбишку, значит, наклюнули… То-то, смотрю я, у Назара будто жбанчики с кваском в суминах хлюпают. Мужик запасливый.
И этого было достаточно, чтобы скрасить неприятность, заговорить свободно, громко, как будто ничего и не случилось.
IX
В суете событие померкло, к нему сразу привыкли и лишь украдкой взглядывали на Акулину, а она из кожи лезла, чтобы угодить. С упорством, тяжелым молчанием, брала она котелки, спускалась по камням к речушке, черпала студеную воду и расставляла посудины перед костром, у которого хозяйничал Хрисанф.
Народ разбрелся по кустам, прибирая поклажу. Только Бергал в стороне. Он обходит лошадей, осматривает спины, поднимает ловкими руками передние ноги и шатает подковы – нет ли ослабевших. За лошадь он умрет: у него, кроме лошади, нет ни друзей, ни товарищей. Ему все равно – своя она или чужая. Но попроси доглядеть – оборвет на слове, фыркнет и уже не прикоснется: не для тебя, мол, делаю. У него с собой и инструмент.
Обошел всех, погладил, каждой что-то тихо-тихо сказал на ухо. У Анисимова воронка одна подкова надломилась. Долго щупал ее и ворчал, потом нашел Анисима и буркнул сердито:
– Подкову-то, што ли, достань.
– Аль изломалась?
– Ну.
– Вот беда, скажи!.. Сейчас я… – Он долго копался в суме, пересыпая там запасное железо, и все говорил виноватым, извиняющимся голосом, а Бергал уже обхаживал Акулинину пару.
Бабы у костра месили саламату – в кипящие котелки засыпали мелко истолченных сухарей и заправляли маслом.
Ванюшка успел уже слазать на утесик за речкой, притащил в поле и шапке груду черных, шумящих листьев бадана, чтобы сварить чаю. Хрисанф одобрительно крякнул. Когда Иван наклонился к костру, он, щурясь от дыма, не то серьезно, не то шутя кивнул на Акулину и вполголоса заметил:
– А девка ладная, мотри. Не пропадет… Зря я облаил ее…
Панфил ходит и присматривается. Давит его нехорошее молчание. Надо что-то сделать, чтобы снова все заговорили, отворили душу, будь там хоть одно худое – все равно… Не будет так добра, пока не скажут…
Когда снятые с пылу котелки задымили вкусным запахом в тени у ели, Панфил, умывшись над ключом, без шапки, подошел к стройной молоденькой пихточке и в десятый раз оправил складень, укрепленный на серебряном стволе. Потом попятился и, постоявши перед образом со сложенными на груди руками, закрестился часто-часто, кланяясь в пояс. За ним стояли все, тоже кланяясь и наговаривая шепотом знакомые с детства слова. Сотворивши молитву, Панфил повернулся к народу, провел рукой по жидкой бороде и огляделся.
– Акулинушка! – кротко позвал он, всматриваясь через куст. – Ты пошто же не подходишь?
– Брось там шариться, поди сюда! – уже решительней крикнул Асон.
Акулина, потупляя глаза, стала сзади, с Бергалом. Иван, задержавшийся у потников, видя общие взгляды, поспешил подойти.
Панфил оглядел всех спокойно.
– Вот, братие, пошли мы… Сущие далече мы путешествующие, как в святом писании… Да… С помощью божьей пошли, со угодниками со святыми… С миром надо. Теперь нам никто и ништо. Не жди себе помощи. Земля, да небо, да ты. Ближе надо один к другому. В согласии дело-то спорится… Сегодня вот неладно вышло. На душу греха прибавили. А сердце-то, оно уже и того, закаменело. Нету в нем правды, нету спокою. Змеей шипучей извивает… Нет… С согласья надо, братие, надо сообча. Ежли не по ндраву тебе что, не хоронись, а говори перед всеми. Ежли миром положили, повинуйся, не ропщи.
– Верно!.. Так, так!.. – кивал Асон, стоя впереди других.
– Без этого не выйти нам на истинный путь… Сегодня сомустил лукавый. Побороть его надо, правдой побороть.
Панфил заглянул через головы и строго поманил Акулину.
– А ну-ка, подь сюда, девка.
С убитым лицом, едва-едва переступая, подошла она.
– Вот сюда стань…
Панфил строго оглядел ее.
– А поясни теперь нам, откуда это ты и как и пошто?
– Деданька Панфил! – заревела Акулина, падая в ноги.
Но он наклонился, взял за локоть и строго приказал:
– Не валяйся! Встань!
Поднялась Акулина, оборвавши рыдания.
– Отцовское благословение имеешь?
Помолчала и чуть слышно ответила:
– Нет.
– Как же ты?
– Убегла… С пасеки…
– А пошто так? Богу послужить пошла, али как?
Молчит.
– Не почтила родителев. Грех великий приняла! – Панфил сильно повышает голос: – Тяжкий грех сотворила!..
Акулина беспомощно уткнулась в конец шали и плачет, сгорбившись, вся вздрагивая.
Асон нахмурился, вздыхает:
– Грехи наши… Охо-хо! Царица матушка, небесная!..
Панфил разглаживает бороду и громко спрашивает:
– Как же, братие? Овца заблудящая… Миром, значит, порешим. Какое ваше слово?.. Куда ее.
Акулина все ниже опускает голову.
Неясным шорохом прошли над ней слова, пугающие непонятной тайной. Но Хрисанф сказал громко и открыто:
– Идет пущай.
– Как ее одну-то? – спрашивает Асон.
И, радуясь подсказанному слову, все возбужденно зашумели.
– Возьмем! Пущай идет! – покрыл все голоса Хрисанф.
Панфил с просветлевшим лицом положил свою руку на голову Акулины.
– Значит, счастье твое, Акулинушка.
Он уже скинул притворную строгость.
– Иди с миром, сердешная.
Панфил взял ее за руку и, отыскавши глазами Ивана, поманил его. Тот подошел, испуганный, покорный.
– Вот чего, Ванюшка, и ты… Акулина… Мое дело теперь никакошное… В вашей судьбе есть хозяин побольше меня… Как отец с матерью… К отцу подите…
Он повернул их лицом к Назару, а сам глубоко-глубоко, касаясь перстами травы, поклонился народу.
– Бога ради, меня, грешного, простите, ежли чо неладно вам сказал.
Ему ответили общим поклоном.
– Нас прости, отец!
Назар мирно, но с серьезным и грустным лицом шагнул к Ивану. Тот грохнулся в землю.
– Прости меня, тятенька!
– Изобидел меня сын родной, крепко изобидел. А кажись бы, слова худова от отца не слыхивал… Теперь вот тоже сомустил всех. Откуда это, парень, у тебя? Ровно бы раньше не такой был, Иванша. А?
– Тятенька, прости!
– Ты это кого задумал? Жениться?
Иван швыркает носом.
– Жениться, говорю, задумал?
– Благословите, тятенька, мамонька, – вдруг решительно поднял голову Иван: – Гараське я ее не дам… Убьюсь, а не дам. Ежли чо… Дочерью будет, не скажет поперек… А Гараське не дам. – Он вскочил и говорил все громче, сильно волнуясь. Пошто мне нету места?.. Все, поди, не лучше нашего…
Панфил тронул его за плечо.
– Не ропщи, сынок, не ропщи. Помоли лучше угодника, чтобы сердце родительское оборотил к тебе.
Хрисанф, улыбаясь, что-то маячит Назару. И встряхнулся Назар.
– Э-эх! – крякнул он, отмахнувшись рукой: – Мать! Поди сюда. Да поди ты, што ли!
Дарья, нехотя, подвинулась.
– Кого тебе опеть?
– Кого? Сноху тебе в новую горницу.
Умиленно и растерянно смотрели все, когда они благословляли молодых.
Котелки уже сильно простыли. Пока рассаживались на траве, бабы снова подогрели их и, перекидывая с руки на руку раскаленные дужки, поставили посудины в кругу разложенных на небольших холстинках ломтей хлеба. Молча и старательно таскали жирную саламату большими ложками, густо посыпали солью толстые ломти.
Чай пили долго, со вкусом, и еда умиротворила. Сам собой завязывался оживленный разговор. Акулину никто не затрагивал. Даже Дарья только сокрушенно вздыхала, раздражая мужа. Ее мутила прошлогодняя обида на девку за какие-то сплетни. Акулина, с уставшим лицом, едва шевелилась. Сидевший рядом с ней Асон все косился на нее, присматриваясь и, должно быть, тронутый забитым видом, стукнул ложкой в ее руку.