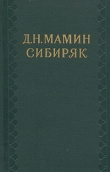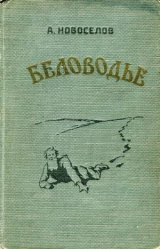
Текст книги "Беловодье"
Автор книги: Александр Новоселов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 12 страниц)
Помолчавши, продолжает таинственным шепотом:
– Утесняют ни на милость божью. Перво-то ниче себе жили, а теперь склоняют в свою веру. Старик-от, не гляди, што тихонькой, мутит шибко. Сколь разов уж на собор вызывали. Там, под Малым Теремком, у Пахомовских собираются наставники, Дела решают. Вызовут это, и почнут склонять. Не хочу, мол, по-вашему, а они свое. Дескать, как знаешь, а только нельзя ему с тобой в разных обрядах, разведем. Тот и почнет укорять…
Катерина поднимает фартук к носу и начинает всхлипывать:
– Места нет живого… Руки, ноги выломаны…
За стеной, на крыльце раздаются шаги. Катерина быстро утирает нос и, испуганно вскочивши, прячет чашку.
– Видно, обернулся.
Мирон входит, оставляя дверь не запертой. Сутулый, весь как скованный, в плечах широкий. Лицо до глаз заросло курчавой черной бородой. Метнул глазами на меня, повесил шапку у двери и, не кланяясь, здоровается.
Чувствую себя так скверно, словно он застал меня на нехорошем деле.
– Нечаянно заехал, заблудился.
Мирон молчит. Сел на лавку гостем и осматривает с головы до ног.
– На Убу здесь можно выехать?
– А пошто нельзя? Кругом дороги. Хошь слепой доедешь.
Он опять молчит.
– Сыскал теленка? – осторожно справляется баба.
Мирон отвечает не сразу и не глядя на нее.
Долго неловко молчим. Но Мирон учуял что-то носом и с злорадным лицом, поглядывая на меня, на чайник, пробирается за печку. Он шарит там по полочкам. Нашел чашку с недопитым чаем, понюхал и, обернувшись, бросил ее на пол. Чашка брызнула осколками.
Катерина обмерла, стоит у печки.
– Ссука каторжная!..
Мирон остановился перед ней с потемневшим лицом.
– Постыдись хошь людей! – истерично вскрикивает Катерина. Мирон зловеще наседает:
– Я доколь с тобой маяться буду? Без того поганьше пса, дык нет, – ишшо посуду пакостит. У-у-у ты!
Катерина ежится, готовая принять удар. Но Мирон отвертывается.
– Ппшел доить! – орет он.
Сам не может найти места, бегает, обваривает злыми темными глазами.
– Ты, приятель, как тебя, какого ты звания… Не ладно это! Пошто нечисть в дом заносить.. Энту халду мутишь… Ей вашего брата – подай.
Пытаюсь оправдаться.
– Ппшел доить!..
Катерина, собираясь, всхлипывает и никак не находит чего-то.
Наконец, собралась и, словно вырвавшись, бросается в сенцы. Выйдя, она хлопает дверью так, что вздрагиваю стены.
– Жжабья жизнь, – слышен ее голос за окном.
Дедушка Семен встает с кряхтеньем, идет к лавке и шевелит там смоленые ремни.
– Узду-то подшил бы… А? Подшил бы, говорю.
Мирон молчит.
III
Глухая ночь накрыла избу.
На краю стола в широкой плошке плавится свеча. Светильня загнулась, повисла и горит торопливо-мигающим красным огнем. Я лежу на полу, на пахучей зеленой траве, покрыв ее тонким одеялом. Тело отдыхает. Только тут пришла усталость, и кажется тяжелым сном забытая людьми тропинка, лес, подъемы, кручи – вся поездка.
Катерина завалилась к стенке на высоких нарах и притихла.
Мирон все еще на улице – слышно, как за речкой окликает лошадей.
Дед кряхтит на печи.
– Житье было раздольное, – скрипит он, продолжая прерванный рассказ. – Из деревни што есть заезжать боялись. Зверя было вдосталь, меду хорошо водилось, ну и жили… Все избушками, избушками, подальше один от другого. На деревню ни-ни, не кажись! Ежли надо шибко, так скрадкои, по зарянке, притянешь к дружку, а он и того – схоронит…
Катерина вкрадчиво перебивает:
– Вы не спите, што ли?
– Нет.
– Вот я чо спрошу вас… Как там?.. Ежли выдти на Медведиху… До городу через каки деревни будет?
– Зачем тебе через Медведиху?
– Много дальше? Ну, я так… Сказывали только, будто можно.
Я говорю ей все, что знаю, про этот дикий, длинный путь. Мелькает мысль, такая смелая, живая, и удивляешься, как просто и легко иногда можно устроиться.
А дедушка ведет свое:
– Ну, и стали, значит, наезжать пикетные. Как кусты оденутся, они и потянули. Туды, суды по сопкам шарются… Который оплошал, сердешный, того и сцапали… По начальству его… Ко мне этак же… О-ё-ё-ё!.. – неловко повернувшись, стонет он: – У-у-ё-ё-ё!.. Прости нас, царица небесная. Господи, Исусе Христе сыне божий!.. Наткнулись на меня. Я, это, стою позадь избы в кусточках и вижу – по долине люди. Ну, я не сробел, окошко вышиб, захватил в избе ружьишко да топор, да еще там что попало и метнулся в сопки…
Пришел Мирон. Я притворился спящим. Он походил по избе, украдкой взглянул на меня, разложил по шестку насквозь промоченные сапоги и босиком, в широкой, распоясанной рубахе, стоит над свечкой, поцарапываясь. Лицо у него все такое же строгое, но пробежала по нему какая-то дума, округлила, согнала все жесткое. Перед тем как ложиться, мы с Мироном долго говорили, и теперь он мне не кажется таким, какой пришел из сопок. А понять его я не могу. Не пускает в душу. Она мне представляется – его душа – такой же, как и эта заимочка: глухая, скрытая от посторонних глаз, и ведут в нее тайные тропки через таежные лазы, через кручи и бурные реки. Есть ли кто-нибудь, кому Мирон покажет эти тропки? От меня схоронился, запутал, отвел.
– У Савелия четыре девки было… дочери… – не унимается старик, – так он, однако, разов двадцать, а то и более переменивал места-то!..
Мирон морщится, идет к печи и, ставши на голбец, легонько дергает Семена за подол рубахи.
– Будте, тятя! Кому наговариваешь? Он спит.
– А ну, я ничего… Любопытно ему про житье-то, про прежнее… спит, ли чо ли?.. С необыку, видно, приморило… Ой-ё-ё-ё!
Тяжело ступая широкими мозолистыми пятками, Мирон подходит к свечке, смотрит на меня и задувает. Светильня тлеет красной звездочкой и сейчас же с треском тухнет под слюнявым пальцем. Мухи звонким, густым шумом наполняют избу, долго тыкаясь по стенам.
На глаза ложится тьма, тяжелая, без искорки. Чуть закроешь веки – поплывут круги. Они уходят, разрастаясь, путаются, тонут в черной пустоте. И вдруг яркой акварелью встанет красный угловатый камень, а под ним на сочной зелени рисуется малиновая земляника. Или огненным пятном зарябят, запестрят пахучие жарки-цветы, да так, что слеза прошибет. Мутными, но резко вычерченными квадратами светлеют окна: глаза пригляделись.
Мирон шарашится, поскрипывая половицей. Что он не ложится?
Опять, цветы, деревья, ягоды и целые леса… Накачало в седле – теперь зыбает и кружит голову. Перед глазами – залитая солнцем падь…
Я испуганно вздрогнул. Кто-то молится прерывистым шепотом. Разве дед со сна? Но нет, он мирно спит и тонко, отрывисто посвистывает носом. Вглядываюсь, вслушиваюсь. Это молится Мирон перед своей дырой. Какое у него теперь лицо и какие глаза? Не видит ли он сквозь дыру все то, что скрыто для других? Может быть, там, за стеной, перед ним стоит великая, святая истина…
– О-ох! – вздыхает Катерина.
«Жабья жизнь!» Странно жуткое слово. Жабья! Да, их много тут в болоте. Серые, грузные.
Мысли мелькают обрывками.
Коня поил… Стою на кочке, держа повод в руках, и любуюсь, как глотает Соловко, а под ногой у него что-то хлюпает. Жаба! Глубоко вдавил ее копытом в грязь, она выпучила круглые глаза и трепещет передними лапками, туго надувая зоб…
Как дорога на Медведиху? Мне почему-то кажется, что Катерина сейчас думает об этом. Вспоминаю все деревни, хутора и заимки, по которым ей идти.
Мирон все молится. А за стеной не умолкает речка. Словно в пустую посудину где-то круто-круто падает она с камней на камни и никак не может вылиться. В мочажинах тыркает дергач. Сыро там, темно и холодно.
Лишь вверху, высоко над горами, приютившими у ног своих едва приметную заимку, блещет миллионами святых огней недосягаемое небо. Слышит ли гордое небо слова Мироновой молитвы, видит ли оно, как умирает на болоте жаба?
САНЬКИН МАРАЛ
I
«Сад» – маральник Алексея Карпыча, захватывая нижним тыном часть глубокой тесной пади, где шумела пенистая речка, верхнею стеной взбегал до желтых сланцевых утесов.
Прочная пятиаршинная стена из толстых и длинных жердей, крепко врубленных в столетние стволы, шла напрямик по косогорам. Вдали она казалась низенькой, ничтожной изгородью. Но, теряясь в перелесках и ложбинах, изгородь упрямо шла звено к звену верст на пять – на шесть по окружности. Нарочно так загородили, чтобы меньше тосковал свободный, дикий зверь. Тут все его любимое: утес, густая чаща, речка и долина. Пусть не скучает и дает хорошие рога.
В саду Алексея до сотни маралов. Есть быки с пудовыми рогами. Есть немало таких. Но Санькин марал-семилеток для него дороже многих стариков. Хорошей крови этот семилеток. Рога его не тянутся и не двоятся на концах, а покупатель это ценит.
Семилеток был еще лохматым маленьким теленком, когда Алексей благословил его любимцу Саньке. Приехал раз в маральник и привез с собой в седле никак не отставшего Саньку. Когда Санька, ковыляя за отцом по саду, случайно натолкнулся в густом кустарнике на маралуху, он заревел благим матом на весь сад. Маралуха с теленком вихрем умчались в другой конец, а Санька безумно метался в траве.
– Тя-ятенька! Тя-ятенька! Бою-юсь его, тятенька!
Отец прикрикнул строго:
– Замолчи ты, дуралей!
Санька сейчас же притих. По запыленному лицу его от глаз протянулись грязные потоки, швыркающий нос распух и покраснел, а серые глаза смотрели так растерянно, что Алексей расхохотался:
– Тоже! В маральник поеду… Утри под носом-то.
Санька быстро оправился. А отец нагнулся к тому месту, где лежала маралуха, и внимательно обшарил ближние кусты.
– Слышь, Санька!
– Чего тебе – уже солидно, по-мужицки, справился тот.
– Счастливый ты, бестия. Редкость это, чтобы маралуху с детенышем застигнуть в логове. Чуткой он зверь. Говорят, счастливому бывает так.
Он любовно погладил Саньку по вихрам и щелкнул в отдувшийся живот.
– Пусть тебе этот марал растет. Вот как, Алексеич. Испытаем твое счастье.
– Пусть растет, – спокойно согласился Санька.
Он немного подумал и внушительно прибавил:
– Попрячется он у меня! Я покажу!
– Чего ты покажешь ему? Махонькой он, потому и прячется. Это мать его хоронит от людей… Ну, пойдем, брат, – неожиданно оборвал он: – до дому подвигаться надо.
Когда сели на лошадь и поднялись на косогор, оба оглянулись в сторону маральника. Там дружным стадом бродили осторожные звери.
Санька долго молчал, почти до самой деревни. Молчал и отец. Оба думали свои думы. Но когда проехали поскотину, в серых глазках Саньки огоньком блеснула радость.
– Свой марал у меня.
Отец, разбуженный от дум веселым восклицанием, нагнулся к самому его лицу.
– Чего ты там?
– Зверь теперь свой у меня.
– Сейчас только учуял?
– А рога-то будут у него?
– Почему не будут? Вырастут.
– Я их сам снимать поеду. Тоже, дай вам, так испортите и зверя, и рога. Самому спокойнее.
Алексея забавляла эта недетская серьезность, и он неудержимо улыбался в бороду.
– Твое дело, хозяйское. Там увидишь потом, как лучше. Насильно тоже не полезем.
Польщенный таким отношением к своим замыслам, Санька с озабоченным лицом обдумывал весь план ухода за маралом.
– Сена ему на зиму готовить надо. Ничего! Накошу! У дедушки литовка лишняя найдется. Накошу-у! Рога-то во-о какие будут!
Он без умолку болтал, ерзая в широких коленях отца на передней луке, и все расспрашивал:
– А мои рога ты будешь продавать?
– Продам, продам.
– А зачем их покупают, тятя?
– На лекарство покупают. Китай берет.
Алексей подумал и прибавил:
– Толком-то я не скажу тебе, Алексеич, к чему их приспособили, а только берут китаезы. Хорошие деньги нам отваливают.
Он забыл на минуту, что говорит с ребенком и, спохватившись, резко оборвал:
– Норовистый ты, Санька. Все тебе выложи: куда да что, да почему. Держись-ка лучше за луку. Поедем шибче по деревне, чтобы бабы не смеялись.
Поравнявшись с первым домом, он с плеча ударил лошадь толстой плетеной нагайкой. Лошадь осела от неожиданности, но сейчас же рванула стремительно и, лязгая зубами по железу, вольным ветром ринулась вдоль улицы, сквозь шумный строй собак.
II
Шли года, сменяя зиму летом.
Сад у Алексея ширился и пополнялся новыми зверями. Прежнюю изгородь уже во многих местах неоднократно разбирали и переносили дальше, пригораживая к саду новые пространства.
Санькин марал год от году отпускал рога все тяжелее и лучше.
Наступило для него седьмое лето, лучшее во всей его маральей жизни. Непомерной силой переполнилось все существо его. Живой, упругой сталью вздрагивал в нем каждый мускул. Силы было столько, что хотелось вызвать на кровавый смертный бой всех стариков-быков. Он подчинялся им, он по привычке шел за вожаком, прислушиваясь к повелительному окрику, но временами сила бушевала в молодом здоровом теле ураганом и Семилеток начинал тогда рвать землю передними копытами, звонко раздувая ноздри. Молодые боязливо на него косились, обходя подальше, стороной, а старые быки смотрели хмуро и неодобрительно. Лишь маралухи любовались им, когда он, фыркая, взбивал фонтаном землю.
С середины лета в сад стал часто наезжать хозяин. Так бывало каждый год. Приедет, проберется в сад и долго-долго ходит, осторожно приближаясь к заранее намеченному зверю. Опытный хозяйский глаз внимательно разглядывает каждую морщинку на рогах: не пора ли снимать? Только день пропусти и перезреет рог.
Всякий раз, придя в маральник, Алексей с особенной лаской охаживает Семилетка. Он осторожно кружит около него, морщит обросшие черным волосом щеки и сладко-сладко чмокает.
– Тцу, тцу… Ну, не фыркай, дурак! Ну, подойди! Кусочка хочешь?
Он смотрит просительно в большие, умные глаза и тянет корку хлеба.
Но Семилеток помнит старое. Его не купишь за кусочек. Знает он, чем кончится ласка хозяйская. Ласкают, кормят зиму сеном и овсом, а нальются рога – приедут, обломают их. Уже четыре пары отдал он. Четыре раза обманули. Теперь он не забудет.
Алексей подходит совсем близко, и эта близость искушает его слегка потрогать налившийся кровью, покрытый пухом, рог. Но едва он приподнимает руку, как марал, закинув на спину ветвистые рога, сорвется с места, фыркнет, ринется, куда глаза глядят, и в два мгновенья вольной птицей вылетит на косогор.
Легко там Семилетку. Обернувшись, он долго смотрит вниз, туда, где Алексей стоит в черном кафтане. Радостью и волей поет сердце марала. Ушел! Куда тебе, коротконогий человек! Разве можешь ты носиться ветром по полям, взлетать орлом на скалы? Разве можешь ты стоять вот так, как я, здесь, на безумной высоте гранита? Нет, ты не можешь, человек.
Семилеток не торопится. Он осторожно чешет копытом нестерпимо зудящийся рог, при этом грациозно поворачивает голову и уже не смотрит на хозяина. А тот, безнадежно махнувши рукой, с трудом шагает по густой траве в другой конец маральника. Там старики подпустят его ближе.
Семилеток долго не спускается с откоса. Бродя вверху в сообществе двух маралух, он часто взглядывает вниз и раздраженно фыркает. Ему отлично видно все, что происходит в пади. Вот уже близко-близко подошел хозяин, вот совсем среди стада… Вожак вытянул шею и смотрит, Бежать надо, бежать! Ведь сильны еще старые ноги и только сделать два прыжка. Не больше двух прыжков… Нет, стоят и боязливо хлопают ушами.
Семилеток срывается с места. Не смотреть лучше, не видеть. Он быстро удаляется в вершину, а за ним идут и маралухи.
Только Саньку подпускает Семилеток так близко, что тот гладит его спину, трогает рога и, обнявши за шею, ходит с ним по саду, как товарищ. Любит он Саньку и верит ему. Не за то, что зимой веселый мальчуган всегда привозит ему в торбочке овса, и не за то, что каждое его движенье дышит лаской. Нет, Семилеток помнит, что ни разу он не видел Саньку среди тех, безумно ухающих всадников, которые безжалостно гоняют маралов перед срезкой рогов.
III
Подошла средина лета. Овес наливался. С каждым днем все ниже опускал он тяжелеющие кисти. Гордо смотрящие в небо, вечно стройные пихты были щедро унизаны смолисто-сочными тугими шишками. Их опьяняющий угар стоял над садом, над горами, надо всем необозримым краем диких скал и леса.
Вечерами, когда солнце пряталось за темные массивы гор, с зеленеющих просторов в сад тянуло ароматом молодого меда, а с попутным ветром несся запах трав, и все беспокойнее становились звери. Их пьянил угар родных лесов. Созревшие тяжелые рога клонили голову к земле, но сердце пело о свободе. Вон отсюда! На простор! Туда, где осыпается по скатам камень, где молчаливый темный лес надежно укрывает от охотника! Туда! На неприступные отвесы скал, откуда видно ряд заоблачных вершин, долины, реки и деревни!.. Но крепка была изгородь, и звери сильно волновались.
То один, то другой из быков по нескольку раз в день тревожным криком звал стадо в поле. Все ходят мирно по лужайке, щиплют сочную траву и вдруг – этот крик, такой властный, зажигающий. Сорвутся все – и старики, и молодые – и ударят вслед за вожаком. Но куда ни поверни, везде забор, везде стена. Добегут, едва не врежутся рогами в жерди и остановятся, как вкопанные. Долго стоят так, в раздумье, а потом пойдут гуськом вдоль изгороди в поиски ее конца. Но нет конца ей. Сплошь идет она звено к звену неправильным огромным кругом. Целыми часами ходит стадо вдоль стены, пока не утомится. От таких прогулок рядом с крепкими столбами бурой лентой протянулась сильно вытоптанная тропа.
С каждым знойным днем в саду росло болезненное беспокойство. И это было не напрасно.
Однажды под вечер, когда уже потухли блики солнечных лучей на склонах снежных гор, а снизу, с речки, потянуло свежестью росы, к маральнику подъехали верховые. Тихо, без обычного шума, расположились они неподалеку за одной из стен. Лошадей нарочно запустили в сад, чтобы стадо присмотрелось к ним и не боялось.
Лишь стемнело, за стеной тревожно затрещал большой костер, а вокруг него задвигались черные тени с огненно-светлыми лицами. Маралы отошли в другой конец.
Не к добру появились тут люди. Как и в прошлом году, как и каждое лето, приезжали люди с вечера, а ранним утром сад гудел от гиканья скачки.
Звери зорко следили за огнем и чутко вслушивались в тишину. Когда там все затихло, молодые задремали. Но быки всю ночь тревожно прядали ушами, тянули в себя воздух и боязливо озирались в стороны.
Санькин Семилеток все фыркал и страшно, по-лошадиному, скалил свои крепкие белые зубы. Он отошел немного в сторону, туда, на свой любимый холмик, где на далекое пространство нет ни кустика. И на этом холмике он простоял всю ночь.
Тишина. Спят горы. Кажется, что под холодным блеском звезд все замерло, и только речка звенит неумолчно, бьет и плещет день и ночь по плитняку и валунам. Но чуткое маралье ухо ловит звуки, слышит их со всех сторон. Вот хрустнуло в чаще – и сейчас же долетел оттуда заглушенный писк: то мелкий хищный зверь настиг свою добычу; вот издалека, с гор, доносит ветром злобный клекот кем-то потревоженных орлов, и то в одном ущелье, то в другом с сухим трескучим шумом падают с откосов камни…
Семилеток все стоял и слушал. С каждым шорохом он вздрагивал. Его манили эти звуки с воли, звали в черный лес, к снегам. Он вспомнил прошлый год. Тогда он вырвался, ушел. Как это случилось?.. Погнались за ним, чтобы прижать в углу и спутать, а он дерзким прыжком метнулся через изгородь и ускакал. Помнит, как до устали носился по полям. А через день его нашли и много-много всадников живым кольцом замкнули в сопках. Все ближе и ближе подвигались люди, а когда оцепили дугой, то погнали его в сад. Но Семилеток молнией сверкал по склонам сопок, ловко уклоняясь в самые опасные моменты, и ушел. Ушел совсем далеко, к снеговым вершинам. Люди на измученных, вспотевших лошадях кричали что-то долго и пронзительно, но, потерявши след, уехали. Много раз еще ловили Семилетка – и каждый раз он уходил: выносили молодые ноги.
Так половину лета прогулял Семилеток в горах. Рога его окрепли и засохли. Он уже не боялся обломать их в чаще. Остро отточенные звонкие ветви рогов внушали смелость и отвагу. Семилеток рыскал по полям, ища себе противника. Гулом звонкой меди отдавался его голос в диком камне. Но не было ответа Семилетку. Встанет он на выступе скалы, откинет голову и злобно крикнет в горы. Лес молчит. Ни звука. Только эхо перекинется из камня в камень и замрет. Марал бросается в волнении с горы в долину, а оттуда снова в гору и опять кричит. Один, один. Маралов человек переловил и запер по садам… Тоской и злобой вспыхивало сердце Семилетка…
Но однажды на могучий крик ему послышался ответный крик. Далекий, смутный, чуть-чуть уловимый. Семилеток ринулся на голос. Во всю прыть окрепших в поле ног скакал он через камни, речки и ключи. На мгновенье остановится, взревет и слушает. Ответный рев все ближе. Снова скачет Семилеток…
И, опьяненный безумно стремительным бегом, он наскочил на изгородь… Неожиданно и странно выросла она перед его глазами. Огляделся и узнал. Знакомый сад. Родное стадо ходит за стеной.
И снова рев. Старик-вожак, взбивая землю, бросился на Семилетка. Задрожали жерди от ударов, зашатались толстые столбы. Быки отпрянули. Удар был слишком крепок.
Но снова и снова бросались разъяренные звери, забывая о стене.
Наконец, Семилеток не выдержал.
Стремительно метнулся он по косогору, и в том месте, где стена спускалась по откосу, перепрыгнул в сад.
Что было после, он помнит смутно. Помнит только, что, по очереди, на смерть схватывался с самыми отважными быками. Но разве могли они, безрогие, равняться с ним. Он резал их рогами с первых же ударов и в беспредельной ярости не знал пощады…
Маралухи покорно признали его вожаком.
Три быка остались мертвыми с пропоротыми в нескольких местах боками, а остальные долго заживляли раны.
Люди толпами съезжались в сад, шумели, ловили больных и лечили. Было столько хлопот! А молодой марал хозяйничал, не подпуская к стаду никого…
Вот было лето!
Семилеток все стоял на холмике и слушал.
Ночь проходила быстро.
Скоро свет. А только забелеет утро, люди встанут и придут с веревками.
Но он не дастся! Нет! Он помнит старое.
IV
Холодной сыростью тянуло из щелей. Трава намокла под росой и тяжело поникла. Горы спали. Стихли звуки ночи. Только свежий ветер налетал откуда-то стремительным порывом, чтобы всколыхнуть заснувшие вершины пихт и снова замереть.
За стеной едва краснели потухающие угли. Там было тихо, словно люди притаились.
Но вот восточные вершины гор слегка обрисовали в небе свои контуры, а резко ломанная линия шпилей на западе все больше стала розоветь. Светлеющее небо медленно тушило огоньки мерцавших ночью звезд. Утро приближалось. Вот уже ясно видны чудовищно высокие стволы многостолетних лиственниц и все резче вырисовываются углы нависших над маральником утесов. Кое-где перепорхнули серенькие птички.
Еще несколько мгновений – брызнут яркие лучи по снеговым вершинам и разбудят землю.
Но за стеной, у догоревшего костра, проснулись раньше.
Быстро повскакали мужики. Озябшие, продрогшие, они суетливо одевались и, наскоро умывшись в речке, разбирали седла. Молодые мужики и парни как-то незаметно очутились в нижней части сада. Там они проворно взнуздывали отдохнувших лошадей и торопливо их седлали.
Звери, чутко слушавшие каждый шорох, инстинктивно потянули в самый дальний угол. Охваченное жутким беспокойством, стадо жалось к лесу. Старые быки подолгу смотрели вниз и, сильно вытянувши шею, злобно фыркали в пространство.
Долго стояли так, сгрудившись. Внизу было тихо. Казалось, что люди ушли. Но вот за ближними кустами появились всадники. Стадо метнулось в сторону и сейчас же передние круто повернули назад: там, на горячей лошади, сидел хозяин.
Семилеток отделился, прыгнул влево, вправо и вдруг выскочил за круг.
В ушах его звонко гудел ветер, рассекаемый рогами, а он несся к речке, в чащу. Он ясно слышал топот и пронзительные окрики, но не смел оглянуться.
Вот ближе, ближе!.. Забегают сбоку… Где укрыться?.. Это за ним погнались… Все за ним пошли…
С разбегу Семилеток смело перепрыгнул через речку, и пока там лошади бродили по слизким валунам, он успел уйти далеко.
Но перед ним опять стена.
Остановился на мгновение, только на мгновение, а сзади уже топот.
Снова ринулся, не разбирая ни кустов, ни косогоров.
По сторонам мелькают то корявый ствол, то жидкий куст, то встают на дороге густые заросли черемухи, малины, можжевельника. Марал несется напролом. Боярышник стегает его иглами, до крови обдирает кожу, а в буреломе ноги больно бьет сучками. Но только бы уйти.
Неужели он опять поддастся? Разве хуже стали ноги? Разве нет в них прежней силы?
Вот сейчас бы в поле, в лес!..
Далеко отстали всадники. Марал немного задержался. Но наперерез ему галопом вынеслись из лесу трое. Семилеток едва увернулся.
Что это?.. Он разглядел на лошади Саньку… Санька ловит его!..
Горькая обида сжала сердце. Прежде Санька над ним плакал, когда он оставлял рога в руках хозяина. А вот теперь и этот сел на лошадь.
Нет, уйти надо, уйти!..
Крепок и силен был молодой марал. Неутомимо рыскал он по саду, ловко ускользая от загонщиков.
В одном углу маральника был устроен загон. Устье его было настолько широко, что только опытный, привычный глаз мог различить предательскую западню. Постепенно суживаясь под гору, загон кончался рукавом, забежавши в который, марал не мог повернуться.
Семилеток знал об этой западне и обегал далеко, стороной…
Прошло много времени. Уже над дальними горами встало солнце, уже обсохла трава и в перелесках звонко пели утреннюю песню птицы, а марал все бежал и бежал.
От него в испуге сторонилось стадо. Страшен был зверь, уходящий от погони. Глаза его, налитые кровью, были широко открыты и горели злым, сухим огнем. Он не успевал переводить дыхание и только отрывисто всхрапывал.
И он, и лошади, измученные скачкой, умеряли бег.
Но всадники сменили лошадей, и не устоял марал против свежих скакунов.
Он не мог уже так быстро скакать с берега на берег. Дыхание захватывало. Высохший язык распух и часто попадал на зубы. Острыми ножами резало в боках.
Последние силы напрягал Семилеток.
Глаза уже видели плохо. Он только смутно чувствовал направо от себя бесконечную изгородь и несся вдоль нее. Наседавшие лошади дугой охватили его, прижимая к стене. И вдруг он с ужасом заметил стену слева.
Поймали!
Стены быстро сошлись. Ему казалось, что их сдвинул кто-то. Семилеток бешено рванулся в глубь загона и, сильно ударившись о поперечное звено, осел. Поймали!
Вместе с тем, как он остановился, пропала сила и сознание. Подсеклись дрожащие ноги. Марал упал. Упал, как труп.
В загон сбежались люди. Кто-то крепко налег ему на шею, а по ногам забегала шершавая веревка, сильно стягивая их узлом. Не было сил шевельнуться. Свет погас. Его сменила тьма. Она густой завесой отделяла солнце и жизнь, заглушая боль в груди и усыпляя сердце.
Люди бегали, шумели. Они трогали его голову, щекотали в носу, а хозяин метался и кричал:
– Воды, воды! Воды скорее несите!
Ему вторили:
– Воды!
Студеной, обжигающей струей хлынула вода по голове. Еще и еще. Воду лили на голову, на бока, низко наклонялись над дрожащим трупом и снова лили.
Медленно рассеивалась тьма, но сознание вернулось быстро.
Долго лежал Семилеток. Силы понемногу возвращались.
Семилеток вдруг рванулся, вскидывая голову. Но крепко связанные, ноги подвернулись под брюхо и он стукнулся зубами в землю. Рванулся еще и опрокинулся на правый бок. Сейчас же на спину и голову насели мужики. Глаза ему закрыли тряпкой. Чье-то жесткое колено придавило ноздри.
Всю проснувшуюся силу напрягал марал, чтобы сбросить людей, но они впились в него, как волки. Те, что сидели на нем, щемили кожу стальными пальцами, а один держал за уши.
И все это – погоня, бешеная скачка и усталость – все забылось, все потухло, когда ржавая, скрипучая пила скользнула по рогам. Нестерпимой болью отозвался во всем теле этот скрип. Марал судорожно передернулся и глухо взревел. От бессилия или от испуга из груди вырывался отрывистый храп. А хотелось крикнуть полной грудью и всю злобу вылить в этом крике.
Острые зубцы проворно рвали мягкий рог. Сперва один, потом другой. Двумя горячими фонтанами хлестнула кровь. Но к оставшимся пенькам прилипли ртами двое из сидевших на спине. Они громко глотали кровь, не успевали ее проглатывать и захлебывались. Напившись, от стали и сейчас же на кровавые пеньки умелыми руками наложили тряпки с глиной.
Нервной мелкой дрожью вздрагивал марал, но не было огня сопротивления. Он не слышал даже, как ему распутывали ноги. Все лежал и вздрагивал.
С глаз вдруг сдернули повязку и крепко хлестнули кнутом по спине. Марал, оглушенный ударом, вскинул голову и неожиданно для самого себя поднялся на ноги Опять удар – и Семилеток молнией мелькнул через услужливо раздвинутые жерди в сад.
Выскочил, сделал два круга, мотая непривычна легкой головой, и в тупом недоумении остановился перед кучкой мужиков. Мужики смотрели на него в просветы изгороди, тыкали руками в воздух и, громко смеясь, что-то кричали друг другу.
А Санька! Санька поднял с земли тяжелые рога, вышел с ними в сад и, широко расставив ноги, показал маралу. Семилеток замер.
Кровь снова хлынула через повязку, потекла по голове в глаза и в рот, обильно капая на землю.
В гордом сердце вспыхнула пожаром злоба. Дикий, рвущий душу рев раздался по горам.
Семилеток прыгнул в бешенстве на Саньку, стиснул потное лицо зубами и, с силой отбросив, стал наносить жестокие удары острыми передними копытами. Санька неуклюже подбросил ноги и уткнулся головой под кочку, а Семилеток рвал на нем рубаху и, забывая, что рогов уже нет, бил под бока кровавым лбом…
Он не слышал, как хозяин, подбежавши сзади, всадил ему в спину по самый черень широкий тяжелый топор…
Когда подоспели загонщики, перед ними на утоптанной траве лежала окровавленная туша. Алексей с безумными глазами, молча, тянул Саньку из-под брюха марала. А марал лежал грузно на маленьком теле, будто не хотел расстаться с другом.
Семилеток умирал. Умирая, он в последний раз приподнял окровавленную голову и посмотрел кругом.
Потухший взор прощался с темным лесом и с сияющим в бездонной глубине небес горячим солнцем.