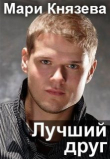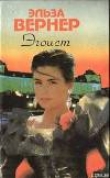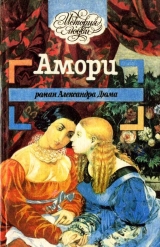
Текст книги "Амори"
Автор книги: Александр Дюма
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 19 страниц)
L
Дорога была долгой, так как Филипп, не желая изменять своим старым привычкам, по-прежнему жил в Латинском квартале.
За это время плохое настроение Амори превратилось в гнев, и когда этот Орест [88]88
Орест – в древнегреческой мифологии сын Агамемнона и Клитемнестры. Эринии, богини мщения, преследовали его за убийство матери, которой он отомстил за отца, и на него насылали припадки. Пилад – верный друг Ореста.
[Закрыть]оказался у дверей Пилада, не будет поэтическим преувеличением сие сказать, буря бушевала в его груди.
Амори сильно потянул за шнурок звонка, не обращая внимания на то, что ручку, кроличью лапку, на улице Сен-Никола-дю-Шардонре заменило копытце косули.
Улыбающаяся толстая служанка открыла дверь: в своем юношеском простодушии Филипп все еще пользовался услугами служанок, а не лакеев.
Он сидел в кабинете, облокотившись на стол, запустив руки в волосы, и изучал вопрос об общей стоимости.
Толстая служанка не посчитала нужным спросить имя Амори и на вопрос, дома ли Филипп, пошла вперед, открыла дверь и доложила о посетителе самым простым способом:
– Сударь, какой-то господин вас спрашивает.
Филипп поднял голову, вздохнул, и поэтому мы думаем, что в вопросе о собственности больше меланхолии, чем кажется, и удивленно вскрикнул, узнав Амори:
– Как, это ты! Дорогой Амори, я так рад видеть тебя!
Но Амори, неуязвимый для таких нежных проявлений, оставался холодным и строгим.
– Знаете ли вы, что привело меня, господин Филипп?
– Еще нет, но я собираюсь к тебе уже четвертый или пятый день и никак не могу решиться.
Амори пренебрежительно поджал уголки рта и язвительная улыбка появилась на его губах.
– Да, конечно, – сказал он, – я понимаю ваши колебания.
– Ты понимаешь мои колебания… – прошептал бедный молодой человек, бледнея. – Но тогда ты знаешь…
– Я знаю, господин Филипп, – заговорил Амори резким и отрывистым тоном, – что господин д'Авриньи поручил мне заменить его рядом с его племянницей. Я знаю, что меня касается все, что может нанести ущерб репутации этой девушки. Я знаю, наконец, что несколько раз встретил вас под ее окнами, и другие также встречали вас там. Я знаю, что вы виноваты, по меньшей мере, в легкомыслии, и я приехал требовать у вас отчета о вашем поведении.
– Мой дорогой друг, – сказал Филипп, закрывая свой том с видом человека, должного в данный момент заниматься только одним делом, – именно об этих мелочах я и собирался поговорить с тобой все эти дни.
– Что! Поговорить о мелочах! – воскликнул возмущенный Амори. – Вы называете мелочами вопросы чести, репутации, будущего?
– Мой дорогой Амори, ты же понимаешь, «мелочи» – это просто оборот речи, я должен был бы сказать «о серьезных вещах», ибо настоящая любовь – это серьезно.
– Так, наконец-то произнесено нужное слово. Итак, вы сознаетесь в любви к Антуанетте?
Филипп принял самый сокрушенный вид, на какой был способен.
– Да, сознаюсь, дорогой друг, – сказал он.
Амори скрестил руки на груди и поднял негодующий взгляд к небу.
– У меня, разумеется, самые серьезные намерения, – продолжал Филипп.
– Вы любите Антуанетту!..
– Друг мой, – сказал Филипп, – я не знаю, известно ли тебе, что у меня умер дядя, и теперь я имею пятьдесят тысяч ливров дохода.
– Разве об этом идет речь!
– Извини, но я думаю, это не помешает.
– Конечно нет, но все усложняет то, что восемь месяцев назад вы любили Мадлен столь же сильной любовью, как сегодня Антуанетту.
– Увы, Амори! – воскликнул Филипп самым жалобным тоном. – Ты раскрываешь рану в моем сердце, ты рвешь мою измученную душу. Но дай мне десять минут, и вместо негодования ты почувствуешь ко мне жалость.
Амори кивнул в знак того, что он готов выслушать, но на губах его появилась недоверчивая улыбка, указывающая, что он не склонен верить услышанному.
– Если верны евангельские слова, что воздастся больше тем, кто любит больше, мне будет воздано многое, – сказал Филипп. – Как говорил наш великий Мольер, у меня очень влюбчивый характер. Поэтому я влюбляюсь часто и страстно.
И, кроме того, до настоящего времени я любил безответно, и это должно еще больше увеличить мои права на божеское снисхождение. Ты знаешь, что я уже любил Флоранс, я любил Мадлен. Для них это не составило никаких неудобств. Ты не говорил им об этом, и они никогда не узнали, что я любил их. Моя страсть к Мадлен была глубокой и почтительной.
Кажется, ты мне не веришь, Амори, потому что эта глубокая страсть не помешала мне направить мое чувство на третий предмет любви. Но ты не знаешь, в каких тревогах, среди каких мучений эта новая любовь родилась в моей душе.
Выслушай меня хорошенько, и пусть мои слова послужат тебе уроком, если ты окажешься в моем положении. Как и в случае с Мадлен, я не сразу понял эту любовь. Если бы кто-нибудь спросил меня об этом, я бы стал отрицать, если бы он доказал это, я бы испугался. Но почти каждый день я приходил к мадемуазель Антуанетте, я говорил о Мадлен, об ее грации, красоте. И при этом я не мог не заметить, что Антуанетта была так же изящна и красива, как ее кузина. Ответь мне теперь, Амори, возможно ли оставаться рядом с прелестью и очарованием и не влюбиться?
Амори, задумавшись, склонив голову и положив руку на сердце, ответил на вопрос лишь вздохом, более похожим на приглушенный стон. Филипп подождал несколько мгновений объяснения этому вздоху, но его не последовало, и он продолжил голосом, полным торжественности:
– А теперь я тебе расскажу, по каким признакам твой несчастный и слишком слабый друг узнал, наконец, что он любит.
Филипп испустил вздох, по сравнению с которым вздох Амори казался незначительным, и заговорил снова:
– Сначала против моей воли, неосознанно, ноги сами несли меня к улице Ангулем. Каждый раз, когда я выходил из дома, утром ли во Дворец юстиции, вечером ли в Комическую Оперу (ты знаешь, Амори, как любил я раньше этот воистину национальный жанр), после часа рассеянной ходьбы я оказывался перед домом д'Авриньи.
Я не надеялся увидеть ту, что царила в моем сердце, у меня не было определенной цели, никакой мысли, меня увлекала, подталкивала, вела неодолимая сила. Я должен был признать, Амори, что любовь была этой неодолимой силой.
Филипп остановился, чтобы понять, какое впечатление производят на Амори эти обороты речи, которыми он остался весьма доволен. Но Амори ограничился тем, что нахмурился еще больше и вздохнул еще глубже и громче, чем прежде.
Филипп не сомневался, что раздумье, в какое погрузился Амори, вызвано его красноречием.
– Второй симптом, который я обнаружил, – продолжал адвокат, пытаясь придать своей слащавой физиономии выражение, соответствующее произносимым им словам, – была ревность. Когда в начале месяца я увидел, что мадемуазель Антуанетта так мила с тобой, Амори, я почувствовал ненависть к тебе, другу моего детства. Но вскоре я сказал себе, что верный памяти обожаемой возлюбленной, ты не полюбишь, даже если полюбят тебя.
Амори вздрогнул.
– О, подозрение оказалось мимолетным, – поспешил сказать Филипп, – и ты видишь, я сразу же отогнал его.
Но досада, ненависть, ярость овладели мной, когда я заметил, что этот сладкоречивый фат де Менжи получил такие привилегии у той, которая мне стала так дорога: он фамильярно опирался на спинку ее кресла, он понижал голос при беседе, он смеялся с ней. Он делал все то, на что, по моему представлению, ты один, друг ее детства, имел право.
Ты не можешь себе представить, какая буря клокотала в моей груди, когда я заметил эти явные признаки доброго согласия, царящего между ними: только тогда, по этой буре, я понял, что это любовь. Но ты не слушаешь меня!
Напротив, Амори слушал очень внимательно. Каждое слово болезненным эхом отдавалось в его груди, жар волнами поднимался к лицу, кровь гулко стучала в висках.
Филипп продолжал, подавленный этим неодобрительным молчанием:
– Я не говорю, Амори, что это не было забвением прежних клятв, предательством памяти Мадлен. Но что ты хочешь? Не все могут быть такими героями постоянства и твердости, как ты.
Кроме того, тебя она любила, твоей женой она должна была стать, ты привык к сладкой мысли, что она будет всегда принадлежать тебе. У меня же был слабый проблеск надежды, и ты тотчас погасил его. Тем не менее я знаю, что виноват. Я оплакиваю свою вину, и если ты меня будешь осыпать самыми суровыми упреками, я не обижусь.
Но удели мне еще немного внимания, совсем немного, и ты увидишь, какие смягчающие обстоятельства могут быть у человека, который имел несчастье полюбить Антуанетту, после того, как он любил Мадлен.
– Я вас слушаю, – живо сказал Амори, придвигая свой стул.
LI
– Во-первых,– заговорил соперник Цицерона и господина Дюпена [89]89
Дюпен Андре (1783–1855) – известный французский политический деятель и юрист. Отличался политической беспринципностью.
[Закрыть], польщенный впечатлением, которое, как ему казалось, он произвел наконец на своего друга, – во-первых,моя кажущаяся неверность Мадлен простительна, потому что моя новая страсть не обращена к незнакомке, но к ее подруге, кузине, сестре, а она как бы несет на себе отпечаток Мадлен в каждом жесте, в каждом слове. Любить ее сестру – это продолжать любить ее самое, любить Антуанетту – значит продолжать любить Мадлен.
– Пожалуй, это верно, – задумчиво сказал Амори, и лицо его просветлело помимо его воли.
– Вот видишь! – воскликнул восхищенный Филипп. – Ты сам признаешь справедливость моих слов.
Во-вторых,теперь ты согласишься, что любовь – самое свободное, самое неожиданное чувство в мире, самое независимое от нашей воли.
– Увы! это так! – прошептал Амори.
– Это не все, – вновь заговорил Филипп с неиссякаемым красноречием, – это не все. В-третьих,если моя молодость и способность любить воскресила во мне юную и пылкую страсть, неужели я должен пожертвовать естественным, Богом данным чувством ради предрассудков постоянства, которые бесчеловечны, и Бэкон [90]90
Бэкон Френсис (1562–1626) – английский философ, родоначальник английского материализма.
[Закрыть]поместил бы их в категорию errores fori [91]91
Errores fori – ложные идеи; ошибки, связанные с распространенными неверными представлениями.
[Закрыть]?
– Согласен, – пробормотал Амори.
– Следовательно, ты не порицаешь меня, мой дорогой, – торжествующе заключил Филипп, – ты находишь простительным, что я полюбил мадемуазель Антуанетту?
– Какое мне дело, в конце концов, любишь ты или не любишь Антуанетту? – воскликнул Амори.
Губы Филиппа тронула легкая улыбка очаровательного самодовольства, и он сказал жеманно:
– Это, конечно, мое дело, мой дорогой Амори.
– Как! – вскричал Амори. – И после того, как ты скомпрометировал Антуанетту своим легкомысленным поведением, ты осмеливаешься сказать, что она имеет склонность к тебе?
– Я ничего не говорю, мой дорогой Амори, и если я компрометирую ее моими неосторожными действиями (я думаю, что ты намекаешь на мои прогулки по улице Ангулем), я ни в коей мере не компрометирую ее моими словами.
– Господин Филипп, – сказал Амори, – вы осмеливаетесь сказать при мне, что вас любят?
– Но мне кажется, что именно перед тобой, ее опекуном, я могу это сказать.
– Да, но вы не должны это говорить.
– А почему я не должен говорить, если это так и есть? – сказал в свою очередь Филипп, взволнованный этим разговором, чувствуя, что его кровь бурлит сильнее обычного.
– Вы не будете этого говорить… потому что не осмелитесь…
– Напротив, говорю тебе, что если бы это было правдой, я был бы горд, восхищен, счастлив, я сказал бы об этом всему миру, я кричал бы об этом на крышах. И черт побери! не знаю, почему я не могу об этом говорить, если это так?
– Как так?.. Вы осмеливаетесь сказать…
– Правду.
– Вы смеете говорить, что Антуанетта любит вас?
– Я смею сказать по крайней мере, что она благосклонно приняла мои искания и не далее, чем вчера…
– Итак, не далее, чем вчера? – нетерпеливо прервал его Амори.
– Она разрешила мне просить ее руки у господина д'Авриньи.
– Неправда! – воскликнул Амори.
– Как неправда? – изумился Филипп. – Ты понимаешь, что ты обвиняешь меня во лжи?
– Черт возьми, еще бы я не понимал!
– И ты делаешь это преднамеренно?
– Разумеется.
– И ты не возьмешь обратно это оскорбление, которое ты мне наносишь неизвестно почему, без всякого повода, без всякой причины?
– Воздержусь.
– Право, Амори, – сказал Филипп, возбуждаясь все больше, – я понимаю, что, несмотря на мои аргументы, я, может быть, и виноват, но между друзьями, людьми света, принято другое обращение. Если бы ты сказал подобное во Дворце, я бы не обиделся, но здесь, у меня, – это другое дело. Это оскорбление, и я не могу его стерпеть даже от тебя, и если ты настаиваешь на своем…
– Разумеется, – воскликнул Амори с еще большим пылом, – и я повторяю, что ты лжешь.
– Амори, – в отчаянии воскликнул Филипп, – предупреждаю тебя, что хоть я и адвокат, но я обладаю не только гражданским мужеством и буду биться с тобой на дуэли.
– Ну что ж, бейтесь! Разве вы не видите, что у вас прекрасное положение? Оскорбив вас, я тем самым дал вам право выбора оружия.
– Выбор оружия… – сказал Филипп. – У меня нет предпочтения, мне все равно, потому что я никогда не держал в руках ни шпагу, ни пистолет.
– Я принесу то и другое, – сказал Амори. – Ваши секунданты выберут. Вам останется назначить время.
– Семь часов, если хочешь.
– Место?
– Булонский лес.
– Аллея?
– Мюэт.
– Договорились. По одному секунданту будет достаточно, я полагаю. Поскольку речь идет о клевете, которая может нанести ущерб репутации девушки, чем меньше будет посвященных, тем лучше.
– Как о клевете! Ты смеешь говорить, что я оклеветал Антуанетту?
– Я ничего не говорю, кроме того, что завтра в семь часов я буду в Булонском лесу, на аллее Мюэт, с секундантом и оружием. До завтра, господин Филипп.
– До завтра, господин Амори. Вернее, до вечера, потому что сегодня четверг, день приема мадемуазель Антуанетты, и я не понимаю, почему я должен лишать себя удовольствия видеть ее.
– До вечера у Антуанетты, и до нашей встречи завтра, – сказал Амори.
И он уехал, рассерженный и восторженный одновременно.
LII
Это был самый приятный и самый мучительный для Филиппа вечер из всех, проведенных здесь.
Антуанетта была очень мила с ним. Рауль не пришел, Амори сразу же сел за игру и проигрывал с необычайным ожесточением.
Таким образом, Филипп остался почти наедине с Антуанеттой, и она совсем не была этим рассержена…
Время от времени Амори бросал быстрый взгляд в сторону Антуанетты и Филиппа, видел, как они тихо беседуют и улыбаются друг другу, и каждый раз обещал себе не щадить завтра своего друга Филиппа.
А сам Филипп почти забыл о своей дуэли! Радость и угрызения совести душили его. Напрасно он раскаивался в своем счастье, его триумф бросался в глаза, и он был вынужден терпеливо нести эту ношу. Когда Антуанетта ему улыбалась, он говорил себе, что, может быть, завтра он дорого заплатит за эту улыбку. При каждом ее кокетливом взгляде он одновременно видел, как сверкает вдалеке, словно молния на горизонте, один из этих ужасных взглядов Амори, о которых мы упоминали.
Тем не менее, чувствуя себя изменником, он предавал память бедной покойницы. Но, наконец, воспоминания о Мадлен в прошлом, мысль о мщении Амори в будущем, постепенно отступали, и он полностью отдался созерцанию своей победы.
Он вернулся к реальности только в момент отъезда, когда Антуанетта ласково протянула ему руку на прощание. Он подумал, что, может быть, видит ее в последний раз, он растрогался и, целуя атласную кожу ее руки, не смог удержать несвязные патетические слова:
– Мадемуазель, вы так добры… столько радости… Ах, если судьба будет против меня, если я паду с вашим именем на устах, не согласитесь ли вы… с вашей стороны, мысль… улыбку… сожаление?..
– Что вы хотите этим сказать, господин Филипп? – спросила удивленная и испуганная Антуанетта.
Но Филипп ограничился последним взглядом и поклоном и вышел с трагическим видом, не желая ничего добавить и упрекая себя за то, что уже сказал слишком много.
Антуанетта, движимая одним из тех предчувствий, которые возникают у женщин, подошла к Амори, уже взявшему шляпу и собиравшемуся уходить.
– Завтра первое июня, – сказала она. – Вы не забыли, Амори, что завтра у нас свидание с господином д'Авриньи?
– Разумеется, нет, – сказал Амори.
– Мы там встретимся в десять часов, как обычно?
– Да, в десять, – рассеянно сказал Амори. – Если я не приеду к полудню, скажите господину д'Авриньи, чтобы он меня больше не ждал, и что я задержался в Париже по неотложным делам.
Эти простые слова были произнесены так холодно, что Антуанетта, бледная и дрожащая, не посмела расспрашивать Амори, но, повернувшись к господину де Менжи, попросила его остаться на несколько минут.
Она поведала ему об отрывочных фразах Филиппа, о недомолвках Амори и своих инстинктивных страхах.
Граф связал услышанное с утренней беседой с Амори и тоже почувствовал некоторые опасения. Но он ничем не показал их, чтобы не испугать Антуанетту еще больше, постарался улыбнуться и пообещал, что с утра займется этим важным делом и поговорит с безумцами.
На следующий день он рано выехал из дома и направился к Амори. Но тот выехал верхом, незаметно и тихо, в сопровождении своего английского грума, не сообщив, куда едет.
Господин де Менжи приказал как можно быстрее везти его к Филиппу.
Консьерж, стоя на пороге, как раз рассказывал своему другу и охотно повторил господину де Менжи, что час назад господин Оврэ вышел в сопровождении своего поверенного. Но на этот раз важный господин нес не пачку бумаг с печатями, а пару шпаг и ящик с пистолетами.
Они позвали фиакр, и Оврэ бросился в экипаж, крикнув кучеру:
– В Булонский лес… аллея Мюэт.
LIII
Ровно в семь часов Филипп и его поверенный, которого он выбрал секундантом, уже приехали в своей колымаге на аллею Мюэт. Почти в это же время Амори слез с лошади, а его друг Альбер выпрыгнул из элегантного кабриолета.
Друг Филиппа имел некоторый опыт в подобных делах. Вот почему он привез свои шпаги и пистолеты, считая, что Филипп, как оскорбленная сторона, имеет право пользоваться собственным оружием.
Альбер не возражал, он получил указание от Амори уступать по всем пунктам, поэтому все было быстро урегулировано. Договорились, что будут сражаться на шпагах и воспользуются шпагами Филиппа, которые представляли собой обычное армейское оружие.
После этого Альбер достал портсигар, галантно предложил сигару поверенному, после его отказа закурил сам, спрятал портсигар в карман и подошел к Амори.
– Все! Мы договорились, – сказал он. – Вы бьетесь на шпагах. Будь снисходительнее к этому бедняге.
Амори поклонился, положил на землю шляпу, фрак, жилет и подтяжки. Филипп, подражая ему, сделал то же самое. Филиппу предложили на выбор две шпаги. Он взял одну так, как обычно брал трость. Вторую подали Амори, и он принял ее без аффектации, но с изящным поклоном.
Затем противники сблизились, скрестив кончики шпаг в шести дюймах от острия, и секунданты отошли, один налево, другой – направо, сказав:
– Начинайте, господа.
Филипп не заставил себя ждать и атаковал с отважной неловкостью, но первым же движением Амори выбил шпагу из его рук, которая, кружась в воздухе, отлетела на десять шагов от сражающихся.
– Неужели это все, что вы умеете, Филипп? – спросил Амори, тогда как его противник вертел головой, пытаясь понять, куда девалась его шпага.
– Еще бы! Прошу прощения, но я вас предупреждал, – ответил Филипп.
– Тогда возьмем пистолеты, – сказал Амори, – шансы будут равные.
– Берем пистолеты, – сказал Филипп, готовый решительно на все.
– Итак, – сказал Альбер, чтобы сказать хоть что-нибудь, – вы настаиваете на этой дуэли, Амори?
– Спросите у Филиппа.
Альбер повторил вопрос, обращаясь к противнику.
– Как, настаиваю ли я? – сказал Филипп. – Конечно, я настаиваю. Меня оскорбили, и если Амори не извинится…
– В таком случае, истребляйте друг друга, – сказал Альбер. – Я сделал все, что мог, чтобы предотвратить пролитие крови, и мне не в чем будет себя упрекать.
Он сделал знак груму Амори подойти и подержать сигару, пока он будет заряжать пистолеты.
Все это время Амори прогуливался по аллее, срубая головки маргариток и лютиков кончиком шпаги.
– Кстати, Альбер, – сказал вдруг Амори, поворачиваясь к нему, – само собой разумеется, что господин Филипп, как потерпевший, стреляет первым.
– Прекрасно, – сказал Альбер, заканчивая начатую операцию, а Амори продолжал косить лютики и маргаритки.
Закончив все приготовления, стороны перешли к обсуждению условий: противники, находящиеся в сорока шагах один от другого, должны были медленно сближаться до расстояния в двадцать шагов.
Договорившись обо всем, секунданты тростями отметили точку остановки, поставили противников на нужном расстоянии, вручили каждому по пистолету, трижды хлопнули в ладони, и после третьего сигнала дуэлянты медленно двинулись вперед.
Они едва сделали четыре шага, как пистолет Филиппа выстрелил. Амори не шевельнулся, но Альбер уронил сигару и схватился за шляпу.
– Что такое? – спросил Филипп, обеспокоенный направлением, в котором полетела его пуля.
– Вот что, сударь, – сказал Альбер, просовывая палец в дыру на своей шляпе, – если бы вы играли в биллиард, это был бы прекрасный удар, но поскольку вы на дуэли, то это очень неловкий выстрел.
– В чем дело, черт побери? – закричал пораженный Амори, хохоча против своей воли.
– Дело в том, – ответил Альбер, – что теперь мне, а не тебе принадлежит право ответного выстрела. Оказывается, сударь стреляется со мной. Дай же мне твой пистолет и покончим с этим.
Все присутствующие посмотрели на бедного Филиппа, который, молитвенно сложив руки, рассыпался перед Альбером в извинениях, совершенно искренних, но настолько комичных, что они не могли удержаться от смеха.
В этот момент какая-то карета выехала из боковой аллеи на аллею Мюэт. В человеке, который, высунувшись из нее, кричал изо всех сил: «Остановитесь, друзья, остановитесь!» – Амори и Филипп узнали их общего друга, старого графа де Менжи.
Амори отбросил пистолет и подошел к Альберу, а тот, в свою очередь, к Филиппу, продолжавшему держать в руке разряженный пистолет.
– Дайте его сюда, – сказал ему поверенный. – Дьявол! Ведь закон запрещает дуэли!
И он вырвал пистолет из рук Филиппа, который не переставал извиняться перед Альбером и не слушал, что ему говорят.
– Право, господа, из-за вас мне в моем возрасте приходится бегать, – сказал граф де Менжи, подходя к ним. – Слава Богу, я приехал вовремя, потому что я не слышал выстрелов.
– Ах, господин граф, – сказал Филипп, – я ничего не понимаю в оружии, я нажал на спусковой крючок раньше нужного времени и чуть не убил господина Альбера, в чем приношу ему самые искренние извинения.
– Как, разве вы стрелялись с ним? – удивился граф.
– Нет, с Амори, но пуля повернулась в дуле пистолета, и не знаю, уж как получилось, но, целясь в Амори, я чуть не убил этого господина.
– Господа, – сказал граф, решив, что пора перевести разговор в серьезное русло, соответствующее подобному делу. – Господа, прошу вас оставить меня с господином Амори и Филиппом.
Поверенный, поклонившись, и денди, закурив другую сигару, немного отошли, оставив графа с Амори и Филиппом.
– Итак, господа! Что означает эта дуэль? – сказал им граф. – Разве мы об этом договаривались, Амори? Скажите же, ради Бога, из-за чего вы стреляетесь с господином Филиппом, вашим другом?
– Я стреляюсь с Филиппом потому, что он компрометирует Антуанетту.
– А вы, господин Филипп, какова ваша причина?
– Потому что Амори меня оскорбил.
– Я вас оскорбил, потому что вы бросаете тень на Антуанетту, и господин граф сам предупредил меня…
– Извините, господин Филипп, – сказал граф, – разрешите мне сказать пару слов Амори.
– Господин граф…
– И не уходите, я поговорю с вами потом.
Филипп поклонился и отошел на несколько шагов, оставив господина де Менжи и Амори вдвоем.
– Вы меня не поняли, Амори, – заговорил господин де Менжи. – Кроме Филиппа, был еще один человек, компрометирующий мадемуазель Антуанетту.
– Еще один человек? – вскричал Амори.
– Да, и это вы. Господин Филипп компрометировал ее своими пешими прогулками, а вы – конными.
– Что вы говорите? – воскликнул Амори. – Неужели кто-то мог подумать, что я имею претензии на Антуанетту?
– Представьте себе, сударь, что мой племянник считает вас единственным серьезным претендентом на руку мадемуазель де Вальженсез и отступает перед вами, а не перед господином Филиппом.
– Отступает передо мной, сударь! – изумленно заговорил Амори. – Передо мной! И кто-то мог подумать!..
– А что тут удивительного!
– И вы говорите, что он отступает передо мной?
– Да, если только вы не заявите официально, что не имеете никаких претензий на ее руку.
– Сударь, – сказал Амори, делая над собой заметное усилие, – я знаю, что мне делать, положитесь на меня. Я человек быстрых решений, и уже до вечера вы узнаете, что я достоин вашего доверия и следую вашему совету, который, как я понимаю, вы мне даете.
И Амори, поклонившись господину де Менжи, собрался уйти.
– Как, Амори, вы уходите, ничего не сказав Филиппу?
– Да, действительно, я должен извиниться перед ним.
– Подойдите, господин Оврэ, – сказал граф.
– Мой дорогой Филипп, – заговорил Амори, – теперь, когда вы стреляли в меня или по крайней мере в мою сторону, я могу вам сказать, что от всего сердца сожалею о том, что обидел вас.
– Друг мой, – вскричал Филипп, пожимая руку Амори, – видит Бог, я не хотел тебя убивать, я попал в шляпу твоего секунданта и очень сожалею о своей оплошности.
– В добрый час, – сказал господин де Менжи, – мне очень нравится, когда вы так разговариваете друг с другом. Теперь пожмите друг другу руки, и пусть все хорошо кончится.
Молодые люди, улыбаясь, обменялись крепким рукопожатием.
– Сударь, – сказал Амори, – вы, кажется, хотели поговорить с Филиппом. Я ухожу и выполню то, что я решил.
Он поклонился и медленно удалился, как человек, чувствующий серьезность поступка, который он собирается совершить. Он коротко поблагодарил Альбера, вскочил на лошадь и ускакал.
– Теперь мы одни, господин Филипп, – сказал граф, – я могу вам признаться, что господин де Леонвиль был прав, упрекая вас в том, что ваши ухаживания компрометируют Антуанетту. Я не знаю, сумеет ли Антуанетта с ее красотой и богатством выйти замуж после этой истории.
– Сударь, – сказал Филипп, – я только что признал мою неправоту, и я могу это повторить. И я знаю, как исправить мою вину. Я человек медленных решений, но, если я принял решение, ничто не изменит его. Сударь, имею честь откланяться.
– Но что вы собираетесь делать, Филипп? – спросил господин де Менжи, опасаясь, что под важным видом Филиппа кроется новая глупость.
– Вы будете довольны мной, сударь. Вот все, что я могу вам сказать, – ответил Филипп.
И, низко поклонившись, он тоже ушел, оставив господина де Менжи в глубоком изумлении.
– Дорогой друг, – сказал Филипп своему секунданту, – мне очень нужен фиакр для длительной поездки. Поэтому прошу вас дойти пешком до станции Этуаль, где вы найдете омнибус.
– Послушайте, сударь, – сказал Альбер, который все еще держал в руке пистолет Амори, – неужели вы уедете, не позволив мне сделать ответный выстрел?
– Ах, действительно… – пробормотал Филипп, – я совсем забыл… Если бы измерили расстояние, где мы…
– Ни к чему, – ответил Альбер, – и так хорошо, только не двигайтесь.
Филипп встал как вкопанный, глядя на Альбера, целящегося в него.
– Что вы делаете? – в один голос закричали поверенный и господин де Менжи, бросаясь к Альберу.
Но не успели они сделать и четырех шагов, как прозвучал выстрел, и шляпа Филиппа покатилась по траве, простреленная в том самом месте, где Филипп сделал дыру на шляпе Альбера.
– Теперь, господин Филипп, – смеясь, сказал молодой человек, – вы можете идти по своим делам, мы квиты.
Филипп не заставил себя просить дважды, подобрал шляпу, сел в экипаж, тихо сказал кучеру несколько слов и уехал в направлении Булони.
Альбер подошел к поверенному и предложил ему сигару и место в своей коляске.
Адвокат согласился принять и первое, и второе, Вежливо поклонившись графу, взяв друг друга под руку, они направились к другому концу аллеи, где стоял кабриолет.
– Да простит меня Бог, – сказал господин де Менжи, тоже направляясь к карете, – но мне кажется, что все это поколение просто-напросто сумасшедшее.