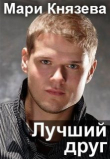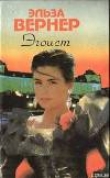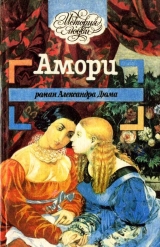
Текст книги "Амори"
Автор книги: Александр Дюма
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц)
XI
Первые планы, придуманные мною, были следствием состояния крайнего раздражения, в котором я находился. Это были самые жестокие комбинации и самые большие любовные катастрофы, какие потрясли мир, начиная с Отелло [54]54
Отелло – герой одноименной драмы Шекспира.
[Закрыть]и кончая Антонием [55]55
Марк Антоний (83–30 до н. э.) – римский политический деятель.
[Закрыть]. Однако прежде чем остановиться на какой-нибудь из них, я решил, что проведу ночь в гневе, согласно аксиоме: утро вечера мудренее.
Действительно, на следующий день я проснулся удивительно спокойным. Мои жестокие планы уступили место решениям более компромиссным, как говорят сегодня, и я остановился на следующей комбинации, заключавшейся в том, чтобы дождаться вечера, позвонить в ее дверь, закрыть на задвижку, броситься к ее ногам и сказать ей то, о чем я сообщил ей письменно. Если она меня оттолкнет, ну и что, будет время прибегнуть к крайним мерам.
План действительно смелый, но у автора этого плана не было достаточно смелости, чтобы его исполнить. Вечером я решительно дошел до конца лестницы моей инфанты, но там остановился. На следующий день я дошел до третьего этажа, но спустился, не рискуя подняться выше; на третий день я дошел до лестничной площадки, но тут моя смелость кончилась: я был как Керубино [56]56
Керубино – паж в опере Вольфганга Амадея Моцарта (1756–1791) «Свадьба Фигаро».
[Закрыть], я не осмелился отважиться.
Наконец, на четвертый вечер я поклялся покончить с этим и признать себя трусом и простофилей, если буду вести себя, как в предшествующие дни. Затем я вошел в кафе, выпил подряд шесть чашек черного кофе, и, возбужденный за три франка, я поднялся на три этажа и, не раздумывая, дернул за дверной колокольчик.
При дребезжании дверного колокольчика я готов был броситься вниз, но моя клятва меня удержала.
Шаги приближались…
– Мадемуазель!..
– Мадемуазель!..
Но едва я произнес это слово, как чьи-то мужские руки меня схватили и, затащив в комнату, привели к той, которую я искал, она при моем приближении грациозно встала, а мой друг Амори сказал ей:
– Милочка, я представляю тебе моего друга Филиппа Оврэ, хорошего и смелого парня, который живет в доме напротив и который давно желает с тобой познакомиться.
Ты знаешь остальное, мой дорогой Амори: я провел десять минут в вашей компании, в течение этих минут я ничего не видел и не слышал; в это время у меня звенело в ушах, в глазах у меня было темно; после чего я поднялся, прошептал несколько слов и удалился, сопровождаемый взрывом смеха мадемуазель Флоранс и приглашениями приходить.
– Ну, дорогой мой, зачем вспоминать об этом приключении? Ты на меня долго дулся, я знаю, но я думал, что ты меня уже простил.
– Итак! Я это и сделал, мой дорогой, но я признаюсь, нет ничего легче, чем твое предложение представить меня твоему опекуну, и обещание, кое ты торжественно мне дал: оказывать в будущем все услуги, какие будут в твоей власти, чтобы мое прощение было более искренним. Я хотел тебе напомнить о твоем преступлении, Амори, до того, как напомнить о твоем обещании.
– Мой дорогой Филипп, – сказал Амори, улыбаясь, – я помню о том и другом и жду дня, чтобы искупить свою вину.
– Ну, этот день наступил, – сказал торжественно Филипп. – Амори, я люблю!
– Ба! – воскликнул Амори. – Правда?
– Да, – продолжал Филипп тем же поучающим тоном, – но на этот раз это не любовь студента, о которой я говорю. Моя любовь – это серьезная любовь, глубокая и долгая, что умрет только вместе с моей жизнью.
Амори улыбнулся, он думал об Антуанетте.
– И ты меня попросишь, – сказал он, – служить поверенным твоей любви? Несносный, ты заставляешь меня трепетать! Неважно, начинай! Как эта любовь пришла, и кто предмет твоей любви?
– Кто она, Амори? Теперь это не гризетка, о которой шла речь, которую берут штурмом, а знатная девушка, и только светлые и нерасторжимые узы могут связать меня с ней. Я долго колебался, прежде чем объявить тебе об этом, моему лучшему другу. Я не знатен, но, в конце концов, я из доброй и уважаемой семьи.
Мой дорогой дядюшка оставил мне после смерти в прошлом году двадцать тысяч ренты и дом в Ангиене, я рискнул и пришел к тебе, Амори, мой друг, мой брат, ты сам мне признался в прошлых ошибках по отношению ко мне, в вине большей, чем я думал; я прошу тебя просить у твоего опекуна руки мадемуазель Мадлен.
– Мадлен! Великий Боже! Что ты говоришь, мой бедный Филипп! – воскликнул Амори.
– Я тебе говорю, – снова начал Филипп тем же торжественным тоном, – я говорю, что я прошу тебя, моего друга, моего брата, который признался, как он ошибался по отношению ко мне; я говорю тебе, что я прошу тебя просить руки…
– Мадлен? – повторил Амори.
– Без сомнения.
– Мадлен д'Авриньи?
– Да.
– Значит, ты влюблен не в Антуанетту?
– О ней я никогда не думал.
– Значит, ты любишь Мадлен?
– Это Мадлен! И я тебя прошу…
– Но несчастный! – воскликнул Амори. – Ты опять прибыл слишком поздно, я ее тоже люблю.
– Ты ее любишь?
– Да, и…
– И что?
– Я просил ее руки и вчера получил согласие на брак.
– С Мадлен?
– Да.
– Мадлен д'Авриньи?
– Конечно.
Филипп поднес обе руки ко лбу, как человек, пораженный апоплексическим ударом, потом отупевший, ошеломленный, раненый, он поднялся, пошатываясь, взял машинально свою шляпу и вышел, не сказав ни слова.
Амори, сочувствуя, хотел броситься за ним.
Но в этом время пробило десять часов, и он вспомнил, что Мадлен ждет его к одиннадцати.
XII
ДНЕВНИК ГОСПОДИНА Д'АВРИНЬИ
«15 мая.
По крайней мере я не покину мою дочь, она останется со мной. Это решено, или, скорее всего, я останусь с ней. Куда они поедут, туда поеду я; там, где они будут жить, буду жить я.
Они хотят провести зиму в Италии, или, скорее, это я, предчувствуя разлуку, внушил им эту мысль, но я решил, что подам в отставку и последую за ними.
Мадлен достаточно богата, значит, и я достаточно богат…
Боже мой, что мне нужно? Если я еще сохранил что-то, то лишь для того, чтобы передать это ей…
Я знаю хорошо, что мой отъезд очень удивит людей. Меня захотят удержать во имя науки, будут ссылаться на больных, которых я покидаю. Но разве все это вечно?
Единственный человек, за которым я должен наблюдать, – это моя дочь. Она – не только мое счастье, но и мой долг, я необходим двум моим детям, я буду управлять их делами, я хочу, чтобы моя Мадлен была самой прекрасной и роскошной, чтобы их состояние при этом не пострадало.
Мы займем дворец в Неаполе, на Вилль-Реаль в красивом южном местечке. Моя Мадлен расцветет, как редкий цветок, посаженный в родную почву.
Я буду организовывать их прогулки, я буду вести их дом, я буду, наконец, их интендантом; решено – я освобожу их от всех материальных забот.
Они будут только любить друг друга и будут счастливы: им будет достаточно заниматься только этим.
Это не все, я хочу еще, чтобы это путешествие, которое они рассматривают как приятное развлечение, послужило бы карьере Амори; не сказав ему об этом, вчера я попросил министра о секретном и очень важном поручении. Я добился этого поручения.
Ну, вот что значит тридцать лет посещать высший свет, наблюдать за физическим и моральным состоянием этого мира, вот что позволил мне мой опыт, и я этим воспользуюсь.
Я не только буду помогать ему в работе, как об этом просят, но я сам выполню эту работу. Я засею поле для него, а ему останется собрать урожай.
Короче, так как мое состояние, моя жизнь, мой ум принадлежит моей дочери, я ему отдам все это.
Все для них, только для них, я себе не оставлю ничего, кроме права иногда видеть, как Мадлен мне улыбается, слышать, как она разговаривает со мной, видеть се веселой и красивой.
Я ее не покину, вот что я повторял все время, вот о чем я мечтаю так часто, что я забываю из-за этого мой институт, даже короля, который послал за мной сегодня, чтобы спросить, не болен ли я, так как я забываю обо всем, кроме моих больниц: остальные мои больные богаты и могут взять другого доктора, но мои бедняки, кто их будет лечить, если не я?
Однако и их я покину, когда уеду с дочерью.
Случаются моменты, когда я себя спрашиваю, имею ли я на это право? Но будет странно, если я буду заботиться о ком-то больше, чем о своей дочери.
Это немыслимо, но это слабость духа, если человек подвергает сомнению самые простые истины.
Я попрошу Крювельера или Жовера временно исполнять мои обязанности, в этом случае я буду спокоен.
16 мая
Они действительно так радостны, что их радость отражается на мне, они на самом деле так счастливы, что я греюсь около их счастья, хотя я чувствую, что этот избыток любви, которую она несет ко мне – это всего лишь часть любви к нему, что переполняет ее; бывают моменты, когда я, бедный и забытый, позволяю себе воспользоваться этой чужой любовью, словно комедиант, сочиняющий рассказ, который есть не что иное, как басня.
Сегодня он пришел с таким сияющим лицом, что видя, как он переходит через двор, поскольку я сам послал его к моей дочери, я задержался, чтобы не заставлять его сдерживать свои чувства в моем присутствии. В жизни так мало подобных минут, что это грех, как говорят итальянцы, – считать их у тех, кто их имеет.
Спустя две минуты они прогуливались в саду, сад – это их рай. Там они спрятаны от всех, и, однако, они не одни: там гуща деревьев, где можно взяться за руки, а в аллеях подойти близко друг к другу.
Я наблюдал за ними, спрятавшись за занавеской моего окна, и сквозь куст сирени я видел, как их руки ищут друг друга, их взгляды погружаются во взгляды друг друга; кажется, что сами они рождаются и цветут, как все, что цветет вокруг них. О, весна, молодость года! О молодость, весна жизни!
И, однако, я не думаю без страха о волнениях, даже счастливых, которые ожидают мою бедную Мадлен; она так слаба, что любая радость может сломить ее, как ломает других несчастье.
Возлюбленный, будет ли он так же скуп в чувствах, как отец? Будет ли он, как я, измерять силу ветра, дующего на дорогую овечку без шерсти? Создаст ли он хрупкому и деликатному цветку теплую и благоуханную атмосферу без лишнего солнца и без лишних гроз?
Этот пылкий молодой человек, с его страстью и с частыми переменами этой страсти, может разрушить за месяц то, что я создавал терпеливым трудом девятнадцать лет.
Плыви, поскольку так надо, моя бедная хрупкая лодка, в эпицентр этой бури; к счастью, я буду лоцманом, к счастью, я тебя не покину.
О! Если я тебя покину, моя бедная Мадлен, что станет со мной? Хрупкая и деликатная, такой я тебя знаю, ты будешь всегда со мной, страдающая или готовая страдать.
Кто будет рядом с тобой, чтобы говорить тебе каждый час: «Мадлен, это полуденное солнце слишком жаркое», «Мадлен, этот вечерний бриз слишком холодный», «Мадлен, накинь вуаль на голову», «Мадлен, накинь шаль на плечи».
Нет, он будет любить тебя, он будет думать только о любви; я же буду думать о том, как поддерживать твою жизнь».
XIII
«17 мая.
Увы! Вот и на сей раз мои мечты упорхнули. Вот еще один день, когда, проснувшись, я отметил его для радости, а Бог – для страдания.
Амори пришел сегодня утром, веселый и счастливый, как обычно. Как всегда, я оставил их под присмотром миссис Браун и сделал свои обычные поручения.
Весь день я был убаюкан мыслью, что вечером объявлю Амори о поручении и планах, намеченных мной. Когда я вернулся, было пять часов, и все собрались садиться за стол.
Амори уже ушел, чтобы вернуться пораньше, без сомнения, и он отсутствовал недолго. Все счастье, почти видимое, расцвело на лице Мадлен.
Бедное мое дитя! Никогда она себя лучше не чувствовала, как она говорит. Может быть, я ошибался, и эта любовь, пугающая меня, поможет окрепнуть этому хрупкому организму, который, я боялся этого, может сломаться? Природа имеет свои кладези, куда даже самый пытливый взгляд не сможет проникнуть.
Я жил весь день с этой мыслью о счастье, что я им сохранял, я был как ребенок, который хочет сделать сюрприз кому-то, кого он любит и у которого этот секрет постоянно на устах; чтобы ничего не говорить Мадлен, я оставил ее в гостиной и спустился в сад. Она села за пианино, и, прогуливаясь, я услышал, как зазвучала соната, которую она играла, и эта мелодия, исполняемая моей дочерью, взволновала мое сердце.
Это продолжалось около четверти часа.
Я развлекался тем, что удалялся и приближался к этому источнику гармонии, кружа по дорожкам сада. Из самого отдаленного уголка его я слышал только высокие ноты, которые пересекали пространство и долетали до меня несмотря на расстояние; затем я приближался и сразу входил в этот гармоничный круг, от которого отделяли меня теперь лишь несколько шагов.
В это время наступила ночь, и все погрузилось в темноту.
Внезапно я перестал слышать музыку. Я улыбнулся: значит, пришел Амори.
Я возвращался в гостиную, но по другой аллее, шедшей вдоль стен. В этой аллее я встретил задумчивую Антуанетту; она была одна. В течение двух дней я хотел поговорить с ней и сейчас, подумав, что наступил благоприятный момент, остановился перед ней.
Бедная Антуанетта! Я сказал себе, что действительно она будет стеснять нашу дивную жизнь втроем, которую я себе обещал, что вся нежность таких близких сердечных отношений не нуждается в свидетеле, каков бы он ни был, и будет лучше, если Антуанетта не поедет с нами путешествовать.
Однако, бедное дитя, я не хотел бы оставить тебя здесь одну! Она останется только счастливой и окруженной любовью; и я, и Мадлен, и Амори обязаны ей счастьем. Я ее слишком люблю, и я слишком любил свою сестру, чтобы поступить иначе.
И так же, как я все приготовил для Амори и Мадлен, я приготовил все для нее.
Увидев меня, она подняла глаза, улыбнулась и протянула мне руку.
– Ну, дядя, – сказала она, – я вам обещала, что вы будете счастливы их счастьем, не правда ли? Их счастье состоялось… разве вы не счастливы?
– Да, дорогое дитя, – сказал я ей, – но это еще не все, счастливы они и я, остаешься еще ты, Антуанетта, и ты тоже должна быть счастливой.
– Но, дядя, я счастлива! Вы меня любите, как отец, Мадлен и Амори любят меня, как сестру; чего же мне еще не хватает?
– Кого-то, кто тебя полюбит, как супругу, дорогая племянница, и я его нашел.
– Дядя… – сказала Антуанетта тоном, который, казалось, молил меня не продолжать.
– Выслушай, Антуанетта, – возразил я, – и потом ты ответишь.
– Говорите, дядя.
– Ты знаешь господина Жюля Раймонда?
– Это тот молодой человек, кому вы поручаете вести ваши дела?
– Он… Как ты его находишь?
– Прелестный… для адвоката, мой дядя.
– Не шути, Антуанетта! У тебя отвращение к этому молодому человеку?
– Дядя, только те, кто любит, испытывают это чувство, противоположное страсти… Я не люблю никого, и все мужчины мне безразличны.
– Но, моя дорогая Антуанетта, Жюль Раймонд пришел ко мне вчера; и если ты не обратила на него внимание, то он тебя заметил…
– Господин Жюль Раймонд один из тех людей, кого будущее не обойдет стороной, так как они сами делают свое будущее.
– И он попросил, чтобы ты разделила это будущее с ним. Он знает, что у тебя двести тысяч франков приданого… Он…
– Дядя, – прервала Антуанетта, – все это так прекрасно и великодушно, что я не хочу, чтобы вы продолжали, прежде чем я вас поблагодарю. Жюль Раймонд составляет среди деловых людей редкое исключение, которое я ценю, но мне казалось, что я уже говорила вам о своем единственном решении – остаться с вами. Я не представляю другого счастья, чем это, хотя вы вынуждаете меня к другому.
Я хотел настаивать, я хотел ей показать выгоды, которые она могла бы извлечь из этого союза. Человек, мною предложенный, был молод, богат, уважаем, а я не буду жить вечно: что будет делать она одна, без привязанностей, без опоры? Антуанетта меня выслушала со спокойной решимостью и, когда я закончил, сказала:
– Дядя, я должна вам повиноваться, как я повиновалась одновременно моему отцу и моей матери, потому что, умирая, они передали вам свою власть надо мной. Прикажите, и я послушаюсь, но не старайтесь меня убедить, так как в том расположении сердца и разума, в котором я нахожусь, и в своем выборе я откажусь от любого, кто пожелает быть моим мужем, будь этот претендент миллионером или принцем…
В ее голосе, в се словах, в ее движениях было столько твердости, что я понял: настаивать, как она сама говорила, значило принуждать ее. Я успокоил ее полностью.
После того как я ей сказал, что она будет вольна распоряжаться своей рукой и сердцем, я отвлек ее планами, которые я рассчитывал предложить моим детям. Я ей объявил, что она будет нас сопровождать в путешествии, и вместо того, чтобы быть втроем, мы будем счастливы вчетвером, вот и все.
Но она покачала головой и ответила, что благодарит меня от всего сердца, но не поедет в это путешествие с нами. Тогда я выразил изумление.
– Послушайте, дядя, – сказала она. – Бог, наверное, управляет судьбами; одним приносит счастье, другим печаль. Для меня, бедной девушки, моя судьба – одиночество. До того, как я достигла двадцатилетия, я потеряла отца и мать. Шум, движение в длительном путешествии, смена народов и городов мне не подходит. Я останусь одна с миссис Браун. Я буду ждать вашего возвращения в Париж, я покину мою комнату только для того, чтобы войти в церковь или вечером погулять в саду, и, возвратившись, вы найдете меня на том же месте, где вы меня покинули, с тем же спокойным сердцем, с той же улыбкой на губах – все это я потеряю, дядюшка, если вы захотите сделать мою жизнь иной, чем она должна быть.
Я больше не настаивал, но я спрашивал себя, почему Антуанетта стала такой, она, верящая в людей; что превратило в келью-комнату девятнадцатилетней девушки, красивой и остроумной, часто смеющейся, имеющей двести тысяч франков приданого?
Боже, что со мной стало и почему я терял время, чтобы гадать о необъяснимых фантазиях девушки? Почему я терял время, успокаивая, жалея, приводя в чувство Антуанетту, вместо того, чтобы сразу идти в гостиную? И Бог знает, сколько времени я был бы еще там, наедине с этой второй дочерью, если бы не озадаченная моим взглядом, обеспокоенная моими вопросами, она сама не попросила разрешения удалиться в свою комнату.
– Нет, дитя, – сказал я, – оставайся здесь, а я уйду. Ты, моя дорогая Антуанетта, можешь, не боясь, находится на свежем ночном воздухе. Я хотел бы, чтобы Мадлен была такой же, как ты.
– О, дядя! – воскликнула Антуанетта, вставая. – Я клянусь вам звездами, которые смотрят на меня, и этой луной, которая так нежно светит, я вам клянусь, если бы я смогла отдать свое здоровье Мадлен, я его отдала бы немедленно; разве было бы не лучше, чтобы я, бедная сирота, подвергалась той опасности, которой подвергается она, такая богатая, и особенно – опасности любви!
Я поцеловал Антуанетту, поскольку она произнесла эти слова так искренно, что в них нельзя было сомневаться; после этого она присела на скамью, а я направился к крыльцу.
XIV
В тот момент, когда я взошел на первую ступеньку крыльца, раздался милый голос Мадлен, и подобно голосу ангела запел в моей душе, прогоняя печаль. Я остановился, чтобы послушать; не то, что этот голос произносил, а сам голос. Несколько слов, однако, дошли до моего слуха и до разума, и я не ограничился тем, что услышал, а начал прислушиваться…
Окно, выходившее в сад, было открыто, но чтобы не пропустить прохладный вечерний воздух, портьеры опустили: за ними я видел знакомые тени – это мои дети склонили друг к другу головы.
Они тихо беседовали. Я слушал. Я слушал, онемевший, неподвижный, подавленный, сдерживая дыхание, и каждое их слово, как капля ледяной воды, падало мне на сердце.
– Мадлен, – говорил Амори, – как я буду счастлив видеть тебя каждый день, постоянно, и видеть вокруг твоей прелестной головы нимб, который идет ей больше всего, – небо Неаполя или Сорренто.
– О, дорогой Амори, – отвечала Мадлен. – О, я скажу тебе, как Миньона: «Прекрасна страна, где зреют апельсины… Но твоя любовь, где отражается рай, прекраснее».
– О, Боже мой! – сказал Амори со вздохом, в котором был легкий налет нетерпения.
– Что? – спросила Мадлен. – Что ты хочешь сказать?
– Я хочу сказать, что Италия будет нам Эльдорадо, я хочу сказать, как Миньона: «Да, там нужно любить, да, там чувствуешь, что живешь». Без всего, что омрачит нашу жизнь и опечалит нашу любовь?
– Без чего?
– Я не осмелюсь тебе сказать, Мадлен.
– Прошу, говори.
– Ну, мне кажется, чтобы быть полностью счастливыми, нужно, чтобы мы были абсолютно одни, мне кажется, что любовь – это деликатная и святая вещь, что присутствие третьего, кем бы он ни был, своим или чужим, мешает, и, чтобы быть поглощенными друг другом, чтобы быть единым целым, нельзя быть втроем.
– Что ты хочешь сказать, Амори?
– О, ты хорошо знаешь.
– Это потому, что мой отец будет с нами? Ты поэтому так говоришь?.. Но подумай, это будет неблагодарно – дать ему почувствовать, ему, который сделал наше счастье, что его присутствие – преграда нашему счастью; мой отец не посторонний, это не третье лицо, это третий из нас двоих. Так как он нас любит обоих, Амори, и мы должны его любить.
– В добрый час, – подхватил Амори с легкой холодностью. – Ты не чувствуешь то же, что и я, по отношению к отцу… Не будем говорить об этом.
– Мой друг, – живо возразила Мадлен, – я тебя обидела?.. В таком случае, извини меня, но знаешь ли ты, мой ревнивец, что не одной любовью любят отца и возлюбленного?
– О, Боже, да! – сказал Амори. – Я знаю это хорошо, но любовь отца – не такая ревнивая и не единственная, как наша; ты привыкла к нему, вот и все. Для меня же видеть тебя – это не привычка, это необходимость.
Ах, Боже! Библия, этот великий голос человечества, говорила об этом две тысячи пятьсот лет тому назад: «Ты покинешь отца своего и мать свою, чтобы идти за супругом своим». Я хотел бы их прервать, я хотел бы им крикнуть: «Библия так говорит о Рахели. Она не хотела иметь утешение, так как ее дети были не с ней».
Я был прикован к своему месту, я был неподвижен; я испытывал мучительное удовлетворение, слыша, как моя дочь меня защищает, но мне казалось, что этого недостаточно; мне казалось, что она должна объявить своему возлюбленному, что она нуждается во мне, как и я в ней; я надеялся, что она сделает это. Она сказала:
– Да, Амори, может быть, ты прав, но присутствия моего отца нельзя избежать, не причинив ему ужасной боли; кроме того, если в какие-то моменты его присутствие и стеснит наши чувства, то в другие – оно обогатит наши впечатления.
– Нет, Мадлен, нет, – сказал Амори, – ты ошибаешься, смогу ли я в присутствии твоего отца, как сейчас, говорить, что люблю тебя? Когда под темными апельсиновыми деревьями, о которых мы только что говорили, или на берегу прозрачного и сверкающего, как зеркало, моря мы будем прогуливаться не вдвоем, а втроем, смогу ли я, если он пойдет за нами, обнять тебя за талию или попросить у твоих губ поцелуя, в котором они еще отказывают мне? А его серьезность не испугает ли нашу радость? Разве он одного с нами возраста, чтобы понять наши безумства? Ты увидишь, ты увидишь, Мадлен, какую тень бросит на нашу радость его строгое лицо. Если же, наоборот, мы будем одни в нашей почтовой карете – как мы будем часто болтать, как будем молчать иногда! С твоим отцом мы никогда не будем свободными: нам нужно будет молчать, когда мы захотим говорить, и нужно будет говорить, когда у нас будет желание молчать. С ним всегда нужно будет беседовать одним и тем же тоном, с ним не будет ни приключений, ни смелых экскурсий, ни пикантных инкогнито, а лишь большая дорога, правила, соблюдение приличий. И, Боже, понимаешь ли ты меня достаточно хорошо, Мадлен, я испытываю по отношению к твоему отцу глубокую признательность, уважение и даже любовь; но разве почтение нам должен внушать наш компаньон по путешествию? Скажи мне, разве чье-то постоянное внимание не будет нас слишком стеснять в дороге? Ты, моя дорогая Мадлен, со своей дочерней любовью, с чистотой девственности, разве и ты не думала обо все этом; и я вижу по твоему задумчивому лицу, что ты об этом думаешь и теперь. И чем больше ты размышляешь, тем больше убеждаешься, что я не ошибаюсь, и что, путешествуя втроем, двое, по крайней мере, скучают.
Я с тоской ожидал ответа Мадлен. Этот ответ раздался. После нескольких секунд молчания она сказала:
– Но, Амори, предположим, что я согласна с тобой, что делать, скажи мне? Это путешествие намечено, мой отец примет все меры, чтобы оно было именно таким. Даже если ты прав, теперь слишком поздно. Впрочем, разве кто-нибудь осмелится дать понять бедному отцу, что он нас стесняет? Ты, Амори? Во всяком случае, не я.
– Боже мой, я знаю это, – сказал Амори, – и это меня приводит в отчаяние. Господин д'Авриньи, такой умный, такой тонкий и понимающий нас в моральном и материальном отношении, должен быть рассудителен и мудр и не впадать в эту жестокую манию стариков, постоянно навязывающихся молодым людям. Я не хочу тебя обидеть, обвиняя его, но в самом деле, это очень неприятное ослепление – ослепление отцов, которые не умеют понять своих детей, и вместо того, чтобы подчиняться возрасту, хотят подчинить их желаниям своего возраста. Вот и путешествие, которое могло быть дивным для нас, может быть испорчено этой фатальной…
– Тише! – прервала Мадлен, положив пальчик на губы Амори. – Тихо, не говори больше так. Послушай, мой Амори, я не могу от тебя требовать доказательства твоей любви, но…
– Мои слова тебе кажутся безумными, не правда ли? – сказал Амори с чувством скрытого неудовольствия.
– Нет, – ответила Мадлен, – нет, злой. Но будем говорить тише, я боюсь сама себя услышать, так как то, о чем я собираюсь сказать тебе, мне кажется безбожным.
И, действительно, Мадлен понизила голос.
– Нет, твои требования не только не кажутся мне безумными, Амори, – я их разделяю; вот то, в чем я хотела тебе признаться, хотя в этом я не хотела бы признаться даже себе самой. Но, дорогой Амори, я тебя буду просить, я тебе скажу, что я тебя люблю, и необходимо, чтобы ты, в свою очередь, сделал кое-что для меня и чтобы ты покорился.
Услышав это последнее слово, я не захотел больше слушать. Это последнее слово, острое и холодное, как кончик шпаги, вошло в мое сердце.
Слепой, эгоист, я знал только, что Антуанетта беспокоит меня – меня! Но я не видел, что я стесняю их. Открыв для себя эту горькую истину, я уже действовал решительно и быстро.
Печальный, но спокойный и покорный судьбе, я поднялся на крыльцо и вошел в гостиную, объявляя о себе стуком своих сапог по ступенькам. Мадлен и Амори встали при моем приближении; я поцеловал Мадлен в лоб и протянул руку Амори…
– Знаете ли вы, мои дорогие дети, серьезную новость? – сказал я им. И хотя мой голос должен был дать им понять, что несчастье не было особенно велико для них, они вздрогнули одновременно. – Это то, что мне необходимо отказаться от моей прекрасной мечты о путешествии. Вы уедете без меня, король не хочет дать мне отставку, о которой я его сегодня просил: его величество имел доброту сказать мне, что я ему нужен, даже необходим, и попросил меня остаться. Что отвечать на это? Просьба короля – приказ.
– О, отец, как это плохо, – сказала Мадлен. – Ты предпочитаешь короля дочери!..
– Ну что вы, дорогой опекун, – сказал в свою очередь Амори, не умея скрыть под видимым огорчением свою радость, – отсутствуя, вы, тем не менее, всегда будете с нами.
Они хотели продолжить, но я сразу же сменил тему разговора или, скорее всего, я повел его в другом направлении; их невинная ложь причиняла мне ужасную боль.
Я объявил Амори, что хотел ему сообщить о миссии, полученной для него, и о том, что хотел сделать это приятное путешествие полезным для его дипломатической карьеры.
Он казался мне очень признательным за то, что я сделал для него, но в это время дорогой ребенок был поглощен единственной мыслью, мыслью о своей любви. Когда он удалился, Мадлен проводила его из гостиной. Случай сделал так, что я в это время очутился за дверью; я подошел к столику, чтобы взять книгу. Мадлен меня не видела.
– Ну, Амори, – сказала она, – веришь ли ты, что события нас опережают и подчиняются нам?.. Что ты скажешь об этом?
– Я скажу, – ответил Амори, – что мы не рассчитывали на честолюбие, а это так называемое честолюбие – удивительное чувство. Бывают недостатки, которые приносят больше благ, чем добродетели.
Итак, моя дочь поверит, что я остаюсь из-за тщеславия. Пусть будет так; возможно, так будет лучше.