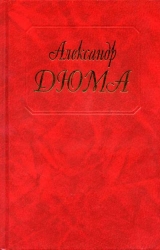
Текст книги "Шевалье д’Арманталь"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Прочие приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 32 страниц)
Было предложено соорудить в честь героя памятник, и сенаторы уже готовились приступить к голосованию, как вдруг с улицы донеслись приветственные крики толпы, и звуки флейты. Это был Дуилий, который приехал так неожиданно, что сумел избежать триумфальной встречи. Однако из-за флейтиста ему не удалось пройти по улицам города незамеченным: ликующий народ приветствовал героя. Догадавшись, что сенат готовится оказать ему новые почести, консул немедленно отправился в Капитолий, чтобы принять участие в обсуждении. Дуилий застал сенаторов с шарами в руках: они собирались голосовать. Тогда он поднялся на трибуну и сказал:
«Отцы-сенаторы, очевидно, вы собираетесь голосованием определить те почести, которые должны, по вашему мнению, доставить мне наибольшую радость?»
«Наши намерения, – ответил председатель, – заключаются в том, чтобы сделать вас самым счастливым человеком на земле!»
«Что ж, – продолжал Дуилий, – тогда разрешите попросить у вас той награды, о которой я больше всего мечтаю».
«Говорите, говорите!» – хором закричали сенаторы.
«И вы обещаете исполнить мою просьбу?» – с робкой надеждой в голосе спросил консул.
«Клянусь Юпитером, мы выполним вашу просьбу!» – воскликнул председатель от имени всех собравшихся.
«Если вы считаете, что у меня есть заслуги перед родиной, то в награду за мою вторую победу избавьте меня от этого проклятого флейтиста, которым вы наградили меня в честь первой победы».
Сенаторы нашли просьбу консула странной, но ведь они заранее обещали ее выполнить. А в те времена еще не было принято отказываться от своего слова. Флейтист за ревностное выполнение своих обязанностей получил пожизненную пенсию, равную половине его жалованья, а консул Дуилий, освободившись наконец от преследований музыканта, тайно пробрался в дверь маленького домика на виа Субура, которую закрыла перед ним его первая победа и вновь открыла вторая.
– Какое же отношение имеет рассказанная вами история к моему страху за вашу жизнь? – спросила принцесса Пфальцская.
– Вы еще спрашиваете, матушка! – смеясь, воскликнул герцог. – Помилуйте, если один флейтист доставил консулу Дуилию столько неприятностей, то, судите сами, что меня ожидает, если ко мне будет приставлена рота гвардейцев.
– Ах, Филипп, Филипп! – промолвила принцесса, смеясь и вздыхая одновременно. – Вы всегда так легкомысленно относитесь к серьезным вещам.
– Вовсе нет, матушка, – ответил регент. – И я сейчас вам докажу это тем, что выслушаю вас и серьезно отвечу на те вопросы, которые привели вас ко мне, ибо, как я полагаю, вы пожаловали не только для того, чтобы побранить меня за мои ночные похождения.
– Да, вы правы, – сказала принцесса, – я действительно пришла к вам по другому делу. Я пришла, чтобы поговорить с вами о мадемуазель де Шартр.
– Ну ясно, о вашей любимице, матушка, потому что, сколько бы вы этого не отрицали, Луиза – ваша любимица. Уж не потому ли, что она терпеть не может своих дядюшек, которых и вы ненавидите?
– Нет, дело вовсе не в этом, хотя, признаюсь, мне приятно, что Луиза разделяет мое отношение к этим бастардам. Просто Луиза, если не считать красоты, которой ее наградила природа и которой я никогда не обладала, как две капли походит на меня, какой я была в юности. У нее совершенно мальчишеские вкусы: она любит возиться с собаками, скакать на лошадях, обращается с порохом, как артиллерист, и изготовляет ракеты, как пиротехник. Так вот, догадайтесь, что с ней произошло!
– Она хочет поступить в гвардейский полк?
– Ничуть не бывало. Она хочет постричься в монахини!
– Луиза? В монахини? Нет, матушка, этого решительно не может быть. Вероятно, это какая-нибудь шутка ее взбалмошных сестер.
– Нет, сударь! – возразила принцесса Пфальцская. – И во всей этой истории, клянусь вам, нет ничего забавного.
– Но почему вдруг, черт возьми, на нее нашло религиозное рвение? – спросил регент, начиная верить в серьезность слов своей матери, ибо в то время самые невероятные вещи были самыми обычными.
– Почему это на нее нашло? – переспросила принцесса. – На этот вопрос может ответить только сам Бог или черт. Позавчера она весь день провела со своей сестрой, занимаясь верховой ездой и стрельбой из пистолета. Никогда еще я не видела ее такой веселой. А вечером ее мать, герцогиня Орлеанская, пригласила меня в свой кабинет. Там оказалась мадемуазель де Шартр. Она стояла на коленях перед матерью и, вся в слезах, молила отпустить ее на покаяние в Шельское аббатство. Когда я вошла, ее мать обернулась и сказала: «А каково ваше мнение об этом?» Я ответила: «Я считаю, что место покаяния не имеет никакого значения: каяться можно везде с одинаковым успехом, и все зависит только от расположения духа и готовности к покаянию». Услышав мой ответ, мадемуазель де Шартр возобновила свои мольбы и просила отпустить ее с такой настойчивостью, что я сказала ее матери: «Смотрите, дочь моя, вам решать». Герцогиня ответила: «Я не в силах запретить этому бедному ребенку отправиться на покаяние». – «Ну что ж, пусть едет, – сказала я. – Да будет воля Божья, чтобы путешествие это совершилось с целью покаяния». И тут мадемуазель де Шартр сказала, обращаясь ко мне: «Клянусь вам, сударыня, что я еду в Шельское аббатство только с мыслью о Боге и что мною не движут никакие иные побуждения». Затем она поцеловала нас обеих, а вчера в семь часов утра уехала.
– Да ведь я все это знаю. Я сам должен был проводить ее в аббатство, – сказал регент. – Разве с тех пор произошло что-нибудь новое?
– Произошло то, – ответила принцесса, – что Луиза отослала вчера вечером свою карету во дворец и прислала с кучером письмо, адресованное вам, матери и мне. В этом письме она заявляет, что обрела в монастыре душевный мир и покой, какого ей не найти в светской жизни, и поэтому решила постричься в монахини.
– А как приняла это известие ее мать? – спросил регент, протягивая руку за письмом.
– Ее мать? По-моему, она этим весьма довольна. Она ведь любит монастыри и считает, что стать монахиней – великое счастье для ее дочери. Я же думаю, что если нет призвания, то не может быть и счастья.
Регент снова и снова перечитывал письмо, словно надеясь уловить в его простых фразах тайную причину желания мадемуазель де Шартр остаться в Шельском аббатстве. С минуту он думал так же сосредоточенно, как если бы речь шла о судьбах империи, а затем сказал:
– За этим скрывается сердечная рана. Вы не знаете, матушка, не влюблена ли в кого-нибудь Луиза?
Принцесса Пфальцская рассказала регенту о том, что произошло в Опере, и повторила фразу, вырвавшуюся у мадемуазель де Шартр, когда она, охваченная восторгом, слушала пение красавца-тенора.
– Черт возьми! – воскликнул регент, – И что же после этого вы с герцогиней Орлеанской порешили на вашем семейном совете?
– Мы отказали Кошеро от места, а Луизе запретили посещать Оперу. Иначе мы поступить не могли.
– Что ж, теперь все ясно, и нечего больше ломать себе голову. Требуется только одно – как можно скорей излечить ее от этой фантазии.
– Что же вы намерены для этого предпринять, сын мой?
– Я сам сегодня же отправлюсь в Шельское аббатство и поговорю с Луизой. Если это всего лишь каприз, то со временем он пройдет. В течение года она будет послушницей. Я сделаю вид, что принимаю ее решение всерьез, а когда придет час пострижения, она сама обратится к нам с просьбой помочь ей выйти из затруднительного положения. Но если ее решение серьезно, то найти выход будет нелегко.
– Только не забывайте, сын мой, – сказала принцесса Пфальцская, поднимаясь, – что бедняга Кошеро здесь, очевидно, совсем ни при чем и что он, должно быть, даже и не подозревает о страсти, которую внушил Луизе.
– Успокойтесь, матушка, – сказал регент, смеясь при мысли, что принцесса Пфальцская, исходя из представлений, привезенных с того берега Рейна, готова придать его словам трагический смысл. – Я не намерен повторять печальную историю параклетских любовников. Несмотря на все это происшествие, Кошеро будет петь, как раньше, – не хуже, не лучше. Ни один волос не упадет с его головы. Ведь речь идет не о какой-нибудь мещанке, а о принцессе крови!
– Но с другой стороны, – сказала принцесса Пфальцская, почти столь же опасавшаяся снисходительности герцога, как до этого опасалась его суровости, – нельзя ведь и проявлять слабость!
– Матушка, – сказал регент, – по чести говоря, раз уж ей суждено кого-то обманывать, то я предпочел бы, чтобы она обманывала мужа, а не Бога.
И, с глубоким почтением поцеловав у матери руку, он повел ее к двери. Бедная принцесса была совершенно возмущена той распущеностью нравов, среди которой ей приходилось жить и к которой она до самой смерти так и не смогла привыкнуть.
Когда принцесса удалилась, герцог Орлеанский вернулся к мольберту, напевая арию из оперы «Пантея», которую он сочинил вместе с Лафаром.
Пересекая переднюю, принцесса Пфальцская увидела, что навстречу ей идет маленький человечек в высоких дорожных ботфортах. Его голова тонула в огромном воротнике подбитого мехом камзола. Когда человечек поравнялся с Елизаветой-Шарлоттой, из воротника выглянули насмешливые глазки и острый носик. Лицо его напоминало мордочку не то куницы, не то лисы.
– А-а, – сказала принцесса Пфальцская, – это ты, аббат?
– Собственной персоной, ваше высочество. Да к тому же я только что спас Францию. Ни больше ни меньше.
– Что-то в этом роде я уже слышала. А еще мне говорили, что некоторые болезни лечат ядами. Уж кому-кому, а тебе это известно, Дюбуа, ведь ты сын аптекаря.
– Сударыня, – ответил Дюбуа со своей обычной наглостью, – быть может я это и знал, да забыл. Как, вероятно, помнит ваше высочество, я еще юношей забросил отцовские пилюли, чтобы всецело отдаться воспитанию вашего сына.
– Ну полно, полно. Я весьма довольна твоим усердием, Дюбуа, и если регенту понадобится человек, чтобы послать его с миссией в Китай или Персию, то я с большой охотой выхлопочу это назначение для тебя.
– А почему бы, ваше высочество, вам сразу не послать меня на луну или, скажем, на солнце. Тогда бы у вас была полная гарантия меня больше никогда не увидеть.
Аббат галантно поклонился и, не дожидаясь, чтобы принцесса Пфальцская разрешила ему удалиться, как того требовал этикет, повернулся на каблуках и без доклада вошел в кабинет регента.
XI
АББАТ ДЮБУА
Все знают, как аббат Дюбуа начал свою карьеру, поэтому мы не будем распространяться о его молодых годах, описание которых можно найти во всех мемуарах того времени и особенно в воспоминаниях безжалостного Сен-Симона.
Современники не оклеветали Дюбуа, ибо оклеветать его было невозможно. Просто, сказав о нем все дурное, что можно было, никто не остановился на том, что в нем было хорошего. Он вышел примерно из той же среды, что и Альберони, но, надо сказать, превзошел своего соперника. И в длительной борьбе с Испанией, о которой тема нашего повествования позволяет нам лишь упомянуть, сын аптекаря одержал верх над сыном садовника. Дюбуа предвосхитил Фигаро, для которого он, может быть, послужил прототипом. Но сыну аптекаря повезло больше, чем Фигаро: из людской он попал в гостиную, а из гостиной – в тронный зал.
Каждое его повышение было вознаграждением не столько за какие-либо частные услуги, сколько за заслуги государственные. Он был одним из тех людей, которые, по выражению Талейрана, не возвышаются, а выскакивают. Его последний дипломатический демарш был поистине шедевром. Договор, который удалось заключить Дюбуа, оказался для Франции еще более выгодным, нежели Утрехтский. Австрийский император не только отказался от своих прав на испанскую корону, подобно тому как Филипп V отрекся от своих притязаний на французский престол, но и вступил вместе с Англией и Голландией в военный союз, обращенный на юге против Испании, а на севере – против Швеции и России.
Раздел территории между пятью или шестью европейскими государствами, предусмотренный этим договором, зиждился на столь разумной и прочной основе, что и теперь, спустя сто двадцать лет, изобилующих войнами, революциями и потрясениями, все эти государства, за исключением Империи, сохранили свои прежние границы.
Регент, не склонный по своей натуре строго судить людей, любил аббата, который его воспитал, и всячески ему покровительствовал. Он ценил Дюбуа за его достоинства и не слишком резко порицал за недостатки, коих и сам был не лишен. Однако между регентом и Дюбуа была целая пропасть: пороки и добродетели регента были пороками и добродетелями господина, в то время как недостатки и достоинства Дюбуа были недостатками и достоинствами лакея. Всякий раз, когда регент оказывал Дюбуа новую милость, он говорил ему: «Дюбуа, Дюбуа, не забывай, что я дарю тебе лишь новую ливрею». А Дюбуа, интересовавшийся всегда самим даром, а не тем, как он его получал, корчил обезьянью гримасу и отвечал регенту обычным своим нагловатым тоном: «Я ваш слуга, ваше высочество, вот и одевайте меня соответственно».
Впрочем, Дюбуа очень любил регента и был ему всецело предан. Аббат понимал, что только мощная рука регента удерживает его над той клоакой, из которой он вышел и в которую он, окруженный всеобщей ненавистью и презрением, неминуемо низвергся бы, утратив покровительство своего господина. Поэтому Дюбуа не за страх, а за совесть следил за всеми интригами и кознями, которые были направлены против регента. С помощью своих тайных агентов, которые часто оказывались куда более ловкими, чем полиция, и проникали благодаря стараниям госпожи де Тенсен в высший свет, а при содействии тетушки Фийон – в самые низы общества, аббат уже не раз раскрывал заговоры, о которых глава полиции Вуайе д’Аржансон не имел ни малейшего представления.

Регент, высоко ценивший услуги, которые Дюбуа ему уже оказал и которые мог оказать в дальнейшем, принял аббата-посланника с распростертыми объятиями. Едва завидев Дюбуа, регент встал ему навстречу и, нарушая обычай властителей, всегда умаляющих заслуги своих приближенных, чтобы уменьшить их вознаграждение, радостно воскликнул:
– Дюбуа, ты мой лучший друг! Договор о союзе четырех держав принесет Людовику Пятнадцатому больше выгоды, нежели все победы его прадеда, Людовика Четырнадцатого.
– Вот именно, ваше высочество, – ответил Дюбуа. – Вы воздаете мне должное, но, увы, не все это делают.
– А-а, – спросил регент, – уж не встретил ли ты мою матушку? Она только что вышла от меня.
– Вы не ошиблись. И должен вам сказать, что ей очень хотелось вернуться и попросить вас, поскольку я столь благополучно справился с моей миссией, поскорее отослать меня с новым поручением в Китай или Персию.
– Что поделаешь, мой бедный аббат, – со смехом сказал регент, – моя мать полна предрассудков. И она тебе никогда не простит, что ты воспитал ее сына таким шалопаем. Но успокойся, аббат, ты мне нужен здесь.
– А как поживает его величество? – спросил Дюбуа с улыбкой, в которой сквозила подлая надежда. – Когда я уезжал, он был очень хил.
– Хорошо, аббат, очень хорошо! – серьезно ответил регент. – Надеюсь, Бог сохранит его на счастье Франции и на позор нашим клеветникам.
– Ваше высочество встречается с ним, как обычно, каждый день?
– Я видел его вчера и даже говорил ему о тебе.
– Ба! И что же вы ему сказали?
– Я сказал его величеству, что ты, вероятно, обеспечил ему спокойное царствование.
– И что ответил король?
– Что он ответил? Он изумился, мой дорогой, что аббаты могут быть столь полезными.
– О, его величество необычайно остроумен. И старик Вильруа при этом присутствовал?
– Как всегда.
– Придется, видно, с разрешения вашего высочества, в один прекрасный день отправить этого старого пройдоху поискать меня где-нибудь на другом конце Франции. Он начинает утомлять меня своей наглостью.
– Не спеши, Дюбуа, не спеши. Всему свое время.
– И даже моему архиепископству?
– Да, кстати, что за новые бредни?
– Новые бредни, ваше высочество? Честное слово, я говорю вполне серьезно.
– Ну, а письмо английского короля, в котором он просит назначить тебя архиепископом…
– Разве вы, ваше высочество, не узнали стиль этого письма?
– Уж не сам ли ты его продиктовал, прохвост?
– Я продиктовал его поэту Нерико Детушу, а тот уже дал письмо на подпись королю.
– И король подписал его, ни слова не говоря?
– Нет, он возражал. «Разве мыслимо, – сказал он нашему поэту, – чтобы английский король-протестант вмешивался в назначение католического архиепископа во Франции? Регент прочтет мою рекомендацию, посмеется и ничего не сделает». – «Конечно, государь, – ответил Детуш, который, оказывается, куда умней, чем явствует из его стихов, – регент посмеется, но, посмеявшись вволю, исполнит просьбу вашего величества».
– Детуш соврал!
– Нет, ваше высочество, Детуш сказал правду.
– Ты – архиепископ?! Король Георг заслуживает того, чтобы я в отместку порекомендовал ему какого-нибудь негодяя, вроде тебя, на должность архиепископа Йоркского, когда она освободится.
– Вам в жизни не найти такого, как я. Я знаю лишь одного человека на свете, который…
– Кто же это? Любопытно было бы на него поглядеть.
– О, это бесполезно. Он уже имеет должность. И, поскольку должность эта высокая, он не променяет ее на все архиепископства мира.
– Наглец!
– На кого вы сердитесь, ваше высочество?
– На одного мерзавца, который намерен стать архиепископом, хотя даже до сих пор не конфирмировался.
– Тем лучше я подготовлюсь сейчас к святому причастию.
– А как ты будешь совершать обряды? Ведь ты не сведущ в церковной службе.
– Пустяки, найдем какого-нибудь знатока по части богослужения, какого-нибудь брата Жана, который меня за час обучит всей этой премудрости.
– Вряд ли тебе удастся найти такого человека.
– Я уже нашел его.
– Кто же он?
– Ваш старший духовник Трессан, нантский епископ.
– У такого пройдохи, как ты, на все готов ответ. Но ведь ты женат!
– Я женат?
– Ну да! Ведь госпожа Дюбуа…
– Госпожа Дюбуа? Я такой не знаю.
– Как, несчастный, уж не отправил ли ты ее на тот свет?
– Вы, ваше высочество, видимо, забыли, что всего лишь два дня назад назначили ей пожизненную пенсию.
– А если она будет возражать против твоего назначения архиепископом?
– Мне она не страшна, у нее нет никаких доказательств.
– Она достанет копию вашего брачного свидетельства.
– Копии с несуществующего оригинала быть не может.
– А где же оригинал?
– Вот что от него осталось, – ответил Дюбуа, вынимая из кошелька бумажку, в которой лежала щепотка пепла.
– Как, негодяй, и ты не боишься, что я отправлю тебя на каторгу?!
– Если вы действительно желаете это сделать, то более подходящей) момента не найти. Я слышу в приемной голос начальника полиции.
– Кто его вызвал?
– Зачем?
– Чтобы устроить ему головомойку.
– По какому поводу?
– Вы сейчас услышите. Итак, все решено: я получаю архиепископство.
– А ты уже выбрал себе епархию?
– Конечно, я беру Камбре.
– Черт возьми, я вижу, у тебя губа не дура!
– Помилуй Бог, здесь дело не в доходах, ваше высочество, мне дорога честь занять место Фенелона.
– И ты, должно быть, одаришь нас новым «Телемаком».
– При условии, что вы укажите мне хотя бы одну Пенелопу во всем королевстве.
– Да, кстати о Пенелопе. Известно ли тебе, что госпожа де Сабран…
– Мне все известно.
– Что, аббат твоя полиция по-прежнему в курсе всех дел?
– Судите сами, ваше высочество, – ответил аббат и протянул руку к шнурку для звонка.
Зазвенел звонок, и в кабинет регента вошел лакей.
– Пусть войдет господин начальник полиции, – приказал Дюбуа.
– Послушай, аббат, с каких пор ты стал здесь распоряжаться?
– Я делаю это для вашего блага, ваше высочество. Разрешите мне действовать.
– Ну что ж, действуй, – сказал регент. – К людям, только что возвратившимся на родину, надо быть снисходительным.
В кабинет вошел мессир Вуайе д’Аржансон. По уродству он мог поспорить с Дюбуа, хотя нимало на него не походил. Человек огромного роста, тучный и грузный, он носил непомерно большой парик, как нельзя более соответствующий его толстым, косматым бровям. Внешность Вуайе д’Аржансона была так страшна, что дети, видевшие шефа полиции впервые, принимали его за дьявола. Впрочем, ему нельзя было отказать в энергии, изворотливости, ловкости и умении плести интриги. Короче говоря, Вуайе д’Аржансон добросовестно выполнял свои обязанности, особенно если его не отвлекали по ночам какие-нибудь любовные похождения.
– Господин начальник полиции, – сказал Дюбуа, не давая д’Аржансону времени поклониться, как того требовал этикет, – его высочество, который не имеет от меня секретов, послал за вами, чтобы вы сказали мне, в каком костюме он выходил вчера вечером из дворца, в каком доме он провел вечер и что с ним приключилось, когда он вышел из этого дома. Если бы я сам не прибыл только что из Лондона, то у меня не было бы необходимости задавать вам все эти вопросы. Но поскольку вчера вечером я мчался на перекладных из Кале, то, как вы сами понимаете, я ничего не знаю.
– Как, – сказал д’Аржансон, чувствуя, что эти вопросы таят в себе какую-то ловушку, – разве вчера произошли какие-нибудь чрезвычайные события? Должен признаться, что никаких донесений ко мне не поступало. Во всяком случае, я надеюсь, что с его высочеством ничего неприятного не случилось?
– Помилуй Бог, конечно, ничего! Если не считать, что его высочество чуть не похитили, когда он, одетый в мундир французской гвардии, выходил из дома госпожи де Сабран, куда он отправился на ужин.
– Похитили?! – воскликнул д’Аржансон, побледнев, в то время как регент не мог сдержать возгласа изумления. – Чуть не похитили? Но кто?
– Вот именно этого мы и не знаем. А вы, господин начальник полиции, обязаны были это знать. И знали бы, если бы занимались службой, а не проводили время в монастыре Мадлен-де-Тренель.
– Как, д’Аржансон?! – воскликнул регент, разражаясь хохотом. – Вы, суровый страж закона, подаете подобные примеры! Ну уж, будьте уверены, теперь я знаю, как вас встретить, когда вы, как делали при покойном короле, принесете мне в конце года список моих проделок.
– Ваше высочество… – пробормотал начальник полиции. – Ваше высочество, надеюсь, не верит ни слову из того, что говорит господин аббат.
– Вот как! – воскликнул Дюбуа. – Несчастный, вместо того, чтобы сознаться в своем неведении, вы уличаете меня во лжи! Ваше высочество, я проведу вас в гарем д’Аржансона: у него там аббатиса двадцати шести лет и пятнадцатилетние послушницы; будуар, затянутый восхитительным индийским шелком, и кельи, обитые расписными тканями! О, господин начальник полиции умеет все устроить. На это ушло пятнадцать процентов доходов от лотереи.
Регент держался за бока от смеха, глядя на совершенно растерявшегося д’Аржансона.
– Но, господин аббат, – ответил начальник полиции, пытаясь вернуть разговор к теме хоть и более унизительной для него, но все же не столь нежелательной, – невелика заслуга – знать подробности события, о котором его высочество, несомненно, рассказал вам.
– Клянусь честью, д’Аржансон, – воскликнул регент, – я не говорил ему ни слова.
– Полно, господин начальник полиции! – сказал Дюбуа. – Может быть, это его высочество рассказал мне заодно историю той послушницы-госпитальерки из предместья Сен-Марсо, которую вам не удалось похитить из монастырских стен? Может быть, это его высочество рассказал мне и о доме, который вы велели построить на чужое имя и который имеет общую стену с монастырем Мадлен, так что вы можете проникать туда в любое время через дверь, скрытую в шкафу и ведущую в ризницу часовни блаженного святого Марка, вашего патрона? И, наконец, разве его высочество рассказал мне, как ваше превосходительство изволили провести вчерашний вечер, приказав Христовым невестам чесать вам пятки и читать вслух прошения, полученные вами в течение дня? Ну нет, все это, дорогой мой начальник полиции, проще простого; и тот, кто умел бы только это, недостоин был бы развязать ленты на ваших башмаках.
– Послушайте, господин аббат, – ответил шеф полиции серьезным тоном, – если все то, что вы мне рассказали о его высочестве, правда, то это действительно серьезное дело, и я виноват, что ничего о нем не знаю, тогда как вы знаете. Но еще ничего не потеряно, мы найдем виновных и накажем их по заслугам.
– Однако не следует придавать всему этому происшествию слишком большое значение, – заметил регент. – На улице веселились какие-то пьяные офицеры и захотели подшутить надо мной, видимо приняв меня за одного из своих товарищей.
– Нет ваше высочество, это был самый настоящий заговор, и нити его тянутся в Пале-Рояль через Арсенал из испанского посольства.
– Вы опять за старое, Дюбуа!
– Я никогда не устану это повторять, ваше высочество.
– Ну, а вы, господин д’Аржансон, что думаете по этому поводу?
– Ваши враги способны на все, но мы разоблачим их козни, как бы хитроумны они ни были. Даю вам слово!
В этот момент дверь распахнулась, и лакей доложил о прибытии его высочества герцога дю Мена, который пожаловал на заседание государственного совета. Как принц королевской крови, герцог дю Мен пользовался привилегией входить к регенту, не ожидая приема. Он вошел в кабинет робкой походкой, бросая косые, тревожные взгляды на троих собеседников, словно стараясь разгадать, о чем здесь говорили до его прихода.
Регент, угадав его мысли, сказал:
– Добро пожаловать, кузен. Послушайте, вот эти два известных вам злодея только что уверяли, что вы состоите в заговоре против меня.
Дю Мен побледнел как полотно и, чувствуя, что ноги у него подкашиваются, оперся о свою трость, напоминающую костыль, с которой никогда не расставался.
– Я надеюсь, монсеньер, – сказал он, тщетно стараясь придать своему голосу твердость, – что вы не поверили этой клевете.
– О Господи, конечно, нет! – небрежно ответил регент. – Но что поделаешь? Ведь я имею дело с упрямцами, которые уверяют меня, что в один прекрасный день они застигнут вас на месте преступления. Сам я в это нисколько не верю. Но как человек, играющий честно, на всякий случай предупреждаю вас: остерегайтесь их, они хитрецы. В этом-то я могу вам поручиться.
Герцог дю Мен с трудом разжал зубы, чтобы пробормотать несколько ничего не значащих фраз, но тут дверь снова открылась, и лакей доложил о прибытии герцога Бурбонского, принца де Конти, герцога де Сен-Симона, капитана королевской гвардии герцога де Гиша, председателя финансового совета герцога де Ноай, суперинтенданта построек герцога д’Антена, председателя совета по иностранным делам маршала д’Юкселя, епископа города Труа, маркиза де ла Врильера, маркиза д’Эффиа, герцога де Ла Форс, маркиза де Торси и маршалов де Вильруа, д’Эстре, де Виллара и де Безона.
Все эти важные лица были созваны, чтобы обсудить договор о союзе четырех держав, который Дюбуа привез из Лондона. А так как договор этот не играет существенной роли в нашем повествовании, читатели, надеемся, не посетуют на нас, если мы покинем роскошный кабинет в Пале-Рояле, чтобы вернуться в скромную мансарду на улице Утраченного Времени.
XII
НОВЫЙ ЗАГОВОР
Д’Арманталь кинул шляпу и плащ на стул, положил пистолеты на ночной столик, а шпагу под подушку, бросился, не раздеваясь, на постель. По-видимому, он был счастливее Дамокла, ибо заснул здоровым, крепким сном, хотя над ним висел дамоклов меч.
Когда д’Арманталь проснулся, было уже совсем светло, и так как накануне он в смятении позабыл закрыть ставни, то первое, что он увидел, был веселый солнечный луч, пересекавший комнату от окна до двери. В широкой полосе света играли и кружили мириады пылинок. Оглядевшись в своей светлой и чистой комнатке, где все тихо и спокойно, д’Арманталь на минуту решил, что это сон, ибо после ночной засады он должен был очнуться скорее всего в какой-нибудь мрачной темнице. Затем он усомнился в реальности вчерашних событий. Однако вещи, разбросанные по комнате, окончательно вернули его к действительности: на комоде валялась пунцовая лента, фетровая шляпа и плащ были брошены на стул, пистолеты лежали на ночном столике, а шпага – в изголовье постели. Последним, самым веским доказательством того, что вчерашнее приключение ему не приснилось – на случай, если бы остальные показались недостаточно убедительными, – был он сам. Д’Арманталь проснулся одетым в этот камзол, в котором он вчера вышел из дому и который не снял перед сном, опасаясь, что какой-нибудь непрошеный гость разбудит его среди ночи.
Д’Арманталь вскочил с постели и сразу же взглянул на окно своей соседки. Оно было уже открыто, и шевалье увидел, что девушка ходит взад и вперед по комнате. Затем д’Арманталь посмотрел в зеркало и убедился, что участие в заговоре счастливо сказалось на его внешности: лицо его было бледнее обычного, и это ему шло, глаза лихорадочно блестели и казались поэтому более выразительными. Было совершенно ясно, что, когда шевалье поправит свою прическу и сменит измятые за ночь воротник и жабо, он (особенно после вчерашней записки), несомненно, еще больше привлечет к себе внимание Батильды. Д’Арманталь не говорил этого себе ни вслух, ни шепотом; но скверный инстинкт, который толкает наши бедные души к погибели, подсказывал его уму эти мысли – неясные, смутные, неоформленные, но все же достаточно отчетливые для того, чтобы он принялся за свой туалет, стараясь подобрать одежду соответственно выражению своего лица. Иными словами, темный костюм был заменен совершенно черным, примятые волосы были перетянуты лентой в легком беспорядке, а жилет был расстегнут на две пуговицы ниже обычного, чтобы было видно жабо, которое спадало на грудь с полной кокетства небрежностью.
Все это, впрочем, делалось без осознанного намерения, с самым отрешенным и озабоченным видом, ибо д’Арманталь при всей своей храбрости вовсе не забывал, что с минуты на минуту его могут арестовать. Когда шевалье вышел из маленькой комнатки, служившей ему гардеробной, и взглянул в зеркало, то улыбнулся своему отражению с грустью, придавшей ему еще больше очарования. Было ясно, что означала эта улыбка, так как шевалье тут же подошел к окну и открыл его.
Быть может, Батильда тоже мысленно готовилась к встрече со своим соседом. Быть может, она решила быть сдержанной и не глядеть в его сторону или, поклонившись, тотчас закрыть окно. Но, едва заслышав, что шевалье открывает окно, девушка, позабыв обо всем, кинулась к своему и воскликнула:
– О Господи, это вы! Как я боялась за вас, сударь!
Д’Арманталь не мог рассчитывать и на десятую долю тех чувств, которые прозвучали в этом восклицании. Поэтому, если он и приготовил несколько галантных красноречивых фраз – а это весьма вероятно, – то они мгновенно улетучились из его головы.
– Ах, Батильда, Батильда, – вскричал он, прижав руки к груди, – неужели вы столь же добры, сколь и прекрасны?








