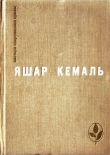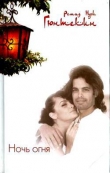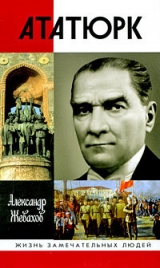
Текст книги "Кемаль Ататюрк"
Автор книги: Александр Жевахов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 29 страниц)
Глава седьмая
РЕВОЛЮЦИОННАЯ ШЛЯПА
Машина выезжает из Анкары и направляется на север. В десяти километрах от столицы горы уступают место огромной равнине, покрытой худосочными зерновыми культурами. Овцы, козы, несколько буйволов рассматривают машину, приближающуюся к обычной деревне с глинобитными домами, минаретом и строящейся школой.
В машине гази оживленно рассказывает о битве, которая, согласно местным поверьям, происходила именно здесь [54]54
Равнина, о которой идет речь, – современный анкарский аэропорт Эсенбога. Перелом в сражении произошел, когда Тимур вывел боевых слонов, укрытых в лесу, который тогда покрывал равнину. По народным преданиям, именно во время этой поездки у Мустафы Кемаля возникла мысль о необходимости масштабной государственной программы по разведению лесов в Анатолии, ставшей к началу XX века пустыней. – Прим. ред.
[Закрыть]между султаном Баязидом [55]55
Баязид I Молниеносный– турецкий султан (1389–1402), вел активную завоевательную политику на Балканах и в Малой Азии, потерпел сокрушительное поражение в 1402 году. – Прим. пер.
[Закрыть]и Тимуром (Тамерланом) [56]56
Тимур (Тамерлан)(1336–1405) – выдающийся полководец, эмир с 1370 года. Создатель государства со столицей в Самарканде. Разгромил Золотую Орду. Совершал грабительские походы в Иран, Закавказье, Индию, Малую Азию. В 1402 году разбил и взял в плен Баязида. – Прим. пер.
[Закрыть]. Это произошло в 1402 году, когда Тимур одержал победу и разорял Османскую империю в течение десяти лет. Кемаль не скрывает своего восхищения великим стратегом и убеждает в этом своих спутников, друзей детства. В этой поездке 23 августа 1925 года Латифе не сопровождает Кемаля: она больше не будет его сопровождать никогда.
После поездки по Восточной Анатолии прошлой осенью отношения между Кемалем и Латифе всё ухудшались. Развод становился неизбежным, несмотря на все попытки Исмета примирить их. Исмет, образцовый муж и отец, беспокоился о состоянии здоровья гази, он всегда сожалел о бурном образе жизни, невоздержанности Кемаля. Исмет надеялся, что Латифе сможет изменить Кемаля, «уравновесить» его. Но Исмет заблуждался. Латифе стала «ошибкой» Кемаля, помехой в осуществлении задуманного им революционного преобразования страны. В день развода он пригласил в Чанкая двух лучших подруг Латифе и признался им: «Я задумал огромные реформы для моей страны, но сейчас я ничего не могу делать». И, повертев правой рукой над головой, добавил: «У меня такое состояние, словно винт сверлит мой мозг». Помолчав несколько секунд, гази объявил: «Я решил сегодня развестись с Латифе, и я не увижу ее больше» [57]57
До своей смерти в 1975 году Латифе сохранит образцовую скромность, отказываясь от каких бы то ни было публичных заявлений, несмотря на настойчивость журналистов и биографов. В своем доме в центре Стамбула она часто принимала гостей: дамы из Анкары всякий раз, прибывая в бывшую столицу, наносили ей визиты. Во время встречи Латифе всегда спрашивала: «Как паша?» – и ей отвечали: «Как всегда, Латифе-ханум».
[Закрыть]. И действительно, Кемаль больше никогда не увидит Латифе, но ее образ будет его преследовать. Однажды он спросил у одного из друзей: «Не правда ли, она похожа на Латифе?» – хотя женщина была полной противоположностью его бывшей жене.
В машине Кемаля место Латифе занимал теперь Нури, единственный человек, кто мог называть гази просто по имени. Его связывала с Кемалем братская дружба. Нури был первым представителем националистов в Берлине, он – член Национального собрания, но эти официальные титулы – лишь слабый отблеск роли Нури в жизни Кемаля. Впрочем, слишком сложно определить эту роль. Мирную гавань, торжество необычайной доброты, семейный комфорт – вот что познал Кемаль с Нури и его семьей, нормальную жизнь без страстей и потрясений. «Было забавно видеть, как они подшучивали друг над другом, – вспоминала через полвека вдова Якуба Кадри Караосманоглу, – словно два брата!»
Кемаль, Нури и их попутчик, тоже друг детства гази, одеты в европейские костюмы, в руках у них шляпы. Прибыв в Чанкыры, Кемаль выходит из машины и приветствует толпу, размахивая шляпой. Во время этой поездки в Чанкыры, Кастамону и Инеболу, регион на северо-западе от Анкары, известный своим консерватизмом, Кемаль провозглашает революцию головного убора.
Вспомним историю. В 1829 году по распоряжению султана Мехмеда II все чиновники должны были носить феску, которой султан решил заменить традиционный тюрбан. Это решение вызвало взрыв возмущения: феска превращала мусульманина в неверного, уподобляла грекам. В 1908 году Кемаль, направленный юнионистами в Триполитанию, проезжает через Сицилию, и дети швыряют корки лимона в чужестранца с феской на голове. В 1910 году Мустафа Кемаль выезжает во Францию, чтобы присутствовать на Больших маневрах в Пикардии; на вокзале в Белграде торговцы насмехаются над одним из его попутчиков с красной феской на голове. В Париже Фетхи, тогда военный атташе во Франции, ожидает своего друга Кемаля, чтобы представить его в военном министерстве. Кемаль появляется в спортивном костюме и тирольской шляпе, гордый, сияющий, словно европеец.
Пятнадцать лет спустя его склонность к элегантности и восхищение «европейской цивилизацией» не изменились. А между тем турецкий народ снова обретает гордость за свою нацию. «Каждый крестьянин Анатолии знает, что Мустафа Кемаль сбросил греков в море, а каждый горожанин – что Исмет подписал с союзниками договор, положивший конец иностранным привилегиям», – отмечает английский дипломат. Создание республики и отмена халифата начали менять умонастроения людей. Отныне турок может понять свою отсталость по сравнению с цивилизованным миром, признать это и попытаться преодолеть, а в повседневной жизни, в частности, изменить свой наряд.
Появление Кемаля без фески, со шляпой в руке перед толпами восторженно встречающих его людей привело к исчезновению фесок. Направляясь в казарму, Кемаль облачился в маршальский мундир, украсив его единственной наградой – медалью за независимость. В казарме его внимание привлекает плакат: «Один турок стоит десятка врагов». «Это так?» – спрашивает он у офицера. «Да, мой паша». – «Нет, я так не думаю. Один турок стоит всего мира!» Но сильный турок обязан быть цивилизованным.
«Вот феска, – объясняет Кемаль, – она украшена вышивкой. Всё это приносит деньги иностранцам. (Большая часть турецких фесок действительно импортировалась из Австрии.) Мы должны стать цивилизованными людьми. Мы вынесли много страданий из-за того, что не понимали окружающий мир. Наши идеи и наш образ мышления должны быть цивилизованы с головы до ног <…>. Хотите того или нет, но мы должны двигаться к прогрессу, что неизбежно. Нация должна понять, что цивилизация – это настолько сильная игра, что она сжигает и уничтожает всех, кто игнорирует ее».
27 августа Кемаль произносит «речь о шляпе». Выступление начинается с известных тем: национальный суверенитет, отмена халифата и создание светского государства. Далее следует фундаментальное утверждение: «Турецкий народ, создавший республику, – цивилизованный народ. Это исторический факт, это реальность». И обращаясь к аудитории, где одни были в традиционных нарядах, а другие – в европейских костюмах, Кемаль предлагает цивилизованный наряд. «На ногах – ботинки или туфли, затем брюки, жилет, рубашка, галстук и, естественно, всё это завершает головной убор, защищающий вас от солнца, – это шляпа, – заявляет он и демонстрирует свою. – Некоторые считают это недопустимым, но я им отвечаю, что они невежественны, и спрашиваю: почему носить греческий головной убор – феску возможно, а носить шляпу – нет?»
Но на этом Кемаль не останавливается: «В деревнях и городах я вижу, что лица женщин, наших товарищей, полностью прикрыты. Я уверен, что особенно в жаркое время года эта практика доставляет им мучение. Друзья мои, всё это результат нашего эгоизма. Будем честны и внимательны. Наши женщины чувствуют и мыслят, как и мы. Пусть они покажут свои лица миру и сами внимательно смотрят на мир. Нечего бояться».
Кемалю действительно нечего опасаться администрации и огромной толпы, встречающей его. После появления его в шляпе фески стали быстро исчезать, некоторые даже рвали их на части, и все дружно отправились на поиски шляп или чего-то подобного. Но Кемаль тем не менее не питает иллюзий. Накануне своего возвращения в Анкару он обрушился с критикой на секты и братства, расшатывающие власть в Анатолии: «Мы знаем, что шейхи, дервиши и другие религиозные деятели не поддерживают республику, – и переходит к угрозе: – Цель реформ, которые мы реализуем, – это превращение народа Турецкой Республики в современное общество как по форме, так и по содержанию. Такова основная задача наших реформ. Те, кто не воспринимает эту реальность, будут уничтожены».
Революционные реформы Кемаля
Кемаль проводит в Анкаре всего несколько часов; этого оказалось достаточно, чтобы Совет министров принял решение о закрытии монастырей, принадлежащих различным сектам и братствам, а также постановление, обязывающее всех чиновников носить шляпы и регламентирующее одежду религиозных деятелей. Далее он отправляется в Западную Анатолию, Бурсу, Балыкесир, Измир, Ушак и Конью, продолжая пропагандировать замену фесок на шляпы. В честь Кемаля организуют «церемонии, на которых демонстративно рвут фески» и дарят ему шляпу местного производства. Поездка проходит настолько успешно, что мэр Балыкесира позволил себе исключительное сравнение: «Если бы Аллах не учил нас тому, что Магомет – последний пророк, я сказал бы: о гази, вы – пророк!» В своих выступлениях Кемаль делится мечтами о модернизации общества: «Пусть в Бурсе будет так много заводов, чтобы их число сравнялось с количеством религиозных заведений». Он даже собирался поехать в Стамбул, чтобы наладить отношения с оппозицией. Английские дипломаты комментируют поездку Кемаля: «Гази, безусловно, человек необычайной силы и целенаправленности; в нем удивительным образом сочетаются смелость и осторожность, что позволяет ему наносить жестокие удары, но только в том случае, если он верит, что удар достигнет цели. Подлинный патриотизм вдохновляет его, и он искренне желает, чтобы его родина стала сильной и процветающей; одновременно он абсолютно убежден в том, что только он способен справиться с огромной задачей реконструкции страны». «Где он остановится?» – задается вопросом представитель Лондона.
В самом деле, ничто не способно его остановить, даже законы природы. Его жена и его любовницы не дали ему детей, и Кемаль решает удочерить двух девочек, встреченных в Бурсе и Измире, а затем еще шестерых. Восемь девочек и ни одного мальчика [58]58
Автор ошибается: последним усыновленным Ататюрком ребенком стал семилетний мальчик Мустафа.
[Закрыть]. Он якобы признавался одному из близких друзей, Джеваду Аббасу, что не хотел бы иметь сына, так как боится, что тот «может оказаться дегенератом» [59]59
В 1930 году Кемаль обратил внимание на молодого пастуха в окрестностях Стамбула. Кемаль чутко реагировал на совпадения – мальчика тоже звали Мустафой, а Кемаль в детстве тоже присматривал за стадом своего дяди. Гази вылечил мальчика от малярии и направил его в военное училище. Если верить двум недавним биографам Кемаля, В. Д. Волкану и Н. Цуковицу, в 1913 году Кемаль якобы приютил мальчика Абдуррахима и доверил опеку над ним Зюбейде. Абдуррахим якобы рассказал этим биографам, что жил у Зюбейде до ее смерти, присутствовал на свадьбе Кемаля, а затем учился в Германии. Во время кампании в Восточной Анатолии Кемаль также опекал молодого сироту.
[Закрыть]. Мудрая предосторожность. Гази не испытывал династической амбиции.
Кемаль беззаветно любил Турцию, он даже отождествлял себя с ней. А приемные дети будут олицетворять то будущее, о котором он мечтал для своей родины. Девочки получат самое лучшее образование, какое тогда было возможно, в школе, открытой в Чанкая, затем в христианских учебных заведениях Стамбула и даже за границей. Он страстно желает создать образцовых представителей новой Турции. Кроме того, с психологической точки зрения удочерение девочек накладывает определенную ответственность. Обязательство в знак признательности, когда он удочерил Афет в Измире: ее мать жила в регионе Салоник, в доме, где скрывался Кемаль перед революцией 1908 года. Обязательство политического характера, как в случае с Сабихой в Бурсе, сиротой, как и большинство других приемных детей. Ведь сироты, которых было очень много после десяти лет войны, явились невинными жертвами той политики, какую осуждал Кемаль, а также войны за независимость. Во время войны за независимость Кязым Карабекир собрал около двух тысяч сирот в Восточной Анатолии. Как отмечала Халиде Эдип, Карабекир был известен как «друг детей», а сироты прозвали его «папа-паша». Тогда как Карабекир заботился о том, чтобы дети были обеспечены питанием, обучались музыке и столярному делу, Кемаль превращает сироту в символ. «При виде сироты я испытываю глубокое сострадание и начинаю плакать, – как-то признался он. – А ведь я плачу исключительно редко…»
Несколько приемных дочерей Кемаля оказались достойны своего отца. Афет Инан стала его советником, известным историком, активным проводником культурной революции, которую осуществлял Кемаль в тридцатые годы. Сабиха Гекчен стала первой женщиной – военным летчиком в стране [60]60
Сабиха Гекчен, чье имя носит аэропорт местных авиалиний в Стамбуле, училась в Качинском летном училище в России в 1920-х годах. – Прим. ред.
[Закрыть]. Они – современные женщины, счастливые и свободные, образцовые представители новой Турции.
К этому времени шляпы были признаны всеми турками. Но в конце 1925 года шляпы еще только пробивали себе дорогу. Правда, в Стамбуле эта инициатива Кемаля была поддержана: в бывшей столице выстраивались очереди за шляпами, коммерсанты и местные производители не успевали удовлетворять запросы. Каждый хотел первым продемонстрировать свою шляпу. Единственный раз, когда Анкара приняла решение, не вызвавшее отрицательной реакции Стамбула!
Братья Борсалино удовлетворенно потирали руки: шляпная революция предоставила им турецкий рынок. Однако их энтузиазм длился недолго: в Сивасе, Кайсери, Эрзуруме, Ризе, Мараше, Гиресуне, Самсуне и многих других анатолийских городах ношение шляп вызвало бурю протеста. «Мы не хотим, чтобы наши государственные служащие были похожи на гяуров (неверных)!» – кричали манифестанты, часто возглавляемые религиозными деятелями или, как в Сивасе и Мараше, мэром города и бывшими депутатами. В этой части страны, на севере и востоке Анатолии, всё население за исключением армии и среды, близкой к правительству, отвергало шляпы и все другие идеи модернизации, пропагандируемые Кемалем.
Правительство не ожидало такого недовольства и динамизма оппозиции: одновременные выступления в разных городах наводили Исмета на мысль, что это движение организовано извне. Это было еще одной причиной не отступать и ответить ударом. Прислуга французского посла, отправившись на рынок, чуть не ударилась головой о ноги повешенных: шесть пар ног болтались на площадке перед посольством; в провинции аресты и смертные приговоры умножались, а город Ризе был обстрелян крейсером.
Но эти меры были только началом. Настоящий ответ оппозиции Кемаль подготовил в Национальном собрании менее чем за шестьдесят дней: международные время и календарь заменяют традиционную мусульманскую систему; разработан Гражданский кодекс; наконец, 1 марта 1926 года депутаты принимают Уголовный кодекс. Полигамия запрещена, законным считается только брак, зарегистрированный представителем государства; развод должен быть представлен на решение суда мужем или женой. Запрещается любая пропаганда против принципов светского государства.
Клод Фаррер, известный своими симпатиями к Османской империи, резко критикует светскую революцию, предпринятую Кемалем: «Искоренять религию народа, столь близкого еще к своим корням, для которого религия всегда была важной составляющей его жизни, – серьезная ошибка». В отличие от того, что думает Фаррер, Кемаль – не атеист, а его модель государства – вовсе не советская. Он борется с клерикализмом, а не с религией. Он считает, что религия – это личное дело каждого, что ее следует освободить от безрассудных обрядов, чтобы она не противостояла нации, и добьется своего: религия станет цивилизованной.
Что касается эмансипации женщин и полного отделения религии от государственных дел, то следует придерживаться единственного правила. «Эта нация признает теперь, что в интернациональной борьбе за существование единственное средство, которым располагают нации, – это признание западной цивилизации», – утверждает Кемаль на открытии факультета права в Анкаре. Еще более четко это сформулировано в преамбуле Гражданского кодекса, где заявлено, что «нет никаких фундаментальных различий в нуждах наций, принадлежащих к современной семье цивилизации»: западная цивилизация и цивилизация – это единственная и одна и та же реальность.
Кемаль не был первым в Турции, кто восхищался западной цивилизацией. Еще во второй половине XVIII века государственные деятели и интеллектуалы внимательно изучали Запад, пытаясь найти объяснение упадку Османской империи и возможные пути выхода из кризиса. Впрочем, ряд реформ, проводимых Кемалем, предлагался и ранее и даже был узаконен. Например, во время Первой мировой войны было принято несколько законов, передающих религиозные школы и суды в ведение светской администрации и превращающих браки в светский контракт.
Революционное своеобразие Кемаля и величие его реформ в другом. «Османские порядки были замкнуты в круге, ограждены непроницаемыми стенами, – анализировал позже Исмет. – Османские реформисты работали и прилагали все усилия в этом замкнутом круге. Все попытки реформ, даже тех, что увенчались успехом, не выходили за пределы этих стен». А Кемаль разбил эти стены, объединив турок только единственной связью – их национальностью. Оказавшись в имперской ловушке, склонные скорее реформировать государство, чем общество, и неспособные найти равновесие между веком и религией, его предшественники были обречены и проиграли по всем статьям.
Твердо опираясь на национализм, Кемаль смело повел свой народ по неизведанному пути.
Глава восьмая
РЕШИТЕЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ
«Не будем питать иллюзий, товарищи, совершенная нами революция еще не понята по-настоящему народом. Увы! Народ пребывает в неведении. Ускоренный темп реформ, происходящих одна задругой, приводит его в замешательство, народ в растерянности и опрометчиво кидается в ряды реакционных движений. Ему приказывают носить шляпу? Он соглашается и надевает шляпу. И вы воображаете, что он делает это от чистого сердца? Нет, товарищи! На самом деле народ в настоящий момент против того, чтобы носить шляпу…»
Человек, произносящий эту речь, – не реакционер, не коммунист. Весной 1926 года доктор Энвер, не имеющий никаких родственных связей с ушедшим из жизни лидером юнионистов, участвует в годичном конгрессе Турецкого центра. Турецкий центр, созданный в 1912 году по инициативе Мехмета Эмина, Зии Гёкалпа, Халиде Эдип и Хамдуллы Суфи с целью развития национальной культуры, оказался на передовой кемалистской революции. Кемаль объявил турецкие центры общественным объединением, Латифе была их почетным президентом, а гражданские и военные администрации получили приказ всячески помогать и содействовать им. Задачами турецких центров были выступление против консерватизма Востока, пропаганда западной цивилизации среди населения, организация конференций и выставок, сохранение народных традиций, забота о гигиене и здоровье крестьян, защита национализма. Одним словом, согласно формулировке французского посла Сарро, турецкие центры были «одним из лучших помощников республики националистов». После курдского восстания 1925 года турецкие центры оказались более эффективны, чем республиканская партия, в пропаганде идей кемалистов в Восточной Анатолии.
Поэтому к словам доктора Энвера следовало отнестись серьезно.
Разрыв между амбициями и возможностями
Народ в замешательстве, а как могло быть иначе? С 1922 года Турция постоянно переживает потрясения, по выражению французского журналиста Жентизона, народ буквально «вывернули наизнанку».
Революционное нарастание реформ смело практически все ориентиры. Новые ценности не усваиваются сразу. Например национализм. После подписания договора в Лозанне Анкара постоянно утверждала неоспоримость принадлежности Турции провинции Мосул. Но когда в конце 1925 года Лига Наций принимает решение о передаче провинции Мосул Ираку, что соответствовало интересам Лондона [61]61
Тем не менее Лига Наций потребовала от Лондона продлить свой мандат на Ирак на 25 лет и сделать официальным курдский язык в этом регионе, отсутствие которого было бы благоприятно для «сохранения суверенитета Турции».
[Закрыть], правительство Турции ограничивается лишь дипломатической реакцией. Многие, особенно в Генеральном штабе, предпочли бы военное решение проблемы и рассматривали лишь как слабую компенсацию подписание договора с Москвой о дружбе и нейтралитете. Гази и Исмет пытаются изменить взаимоотношения государства и народа. Некоторые губернаторы, мэры и начальники полиции были смещены за злоупотребление властью. Министр финансов запретил таможенникам получать мзду, но через девять месяцев был вынужден назначить премии тем, кто будет доносить на чиновников, получающих взятки: старые привычки оказались устойчивыми, и в то же время появлялись новые виды злоупотреблений. Политика общественных работ, строительство, обустройство Анкары, участие многих политиков в частных предприятиях создавали нездоровый рабочий климат. Один из приближенных к Кемалю дошел до того, что стал продавать сигары под названием «Гази Мустафа Кемаль-паша»!
А между тем жизнь большинства населения нисколько не улучшалась. Экономическая ситуация в стране оставалась непрочной: цены быстро росли, производство основных сельскохозяйственных продуктов на территории современной Турции не достигло довоенного уровня; торговый обмен и бюджет оставались дефицитными, турецкая лира слабела. Средства на развитие страны крайне ограниченны, что заставляет правительство избрать «своего рода государственный капитализм». Введение государственного контроля над производством сахара и бензина, выкуп у иностранных компаний 85 процентов железных дорог, проведение налоговой реформы должны позволить правительству увеличить государственные ресурсы. Обложение налогом домов терпимости не вызвало особой критики, но многие были недовольны тем, что государственные служащие должны платить меньше налогов, чем наемные рабочие (преподаватели и военнослужащие, а также крестьяне были освобождены от налога с доходов), а Промышленная палата Стамбула не скрывает своего недовольства освобождением от налогов только государственных предприятий.
Со временем разрыв между амбициями Кемаля и его возможностями становился всё более очевидным. Даже наиболее приоритетное направление – образование – развивалось с трудом. Кемаль опубликовал и бесплатно распространял «Гражданский кодекс», написанный простым, доступным языком. Согласно конституции 1924 года начальное образование стало обязательным и бесплатным для всех турок, женщин и мужчин, а армии было рекомендовано обучать новобранцев методам ведения сельского хозяйства. Прогресс впечатлял: в 1926 году число учащихся в школах по сравнению с 1923 годом удвоилось, но задача оставалась огромной: более половины детей, в том числе четыре пятых девочек, не ходили в начальную школу, а число неграмотных по-прежнему составляло примерно 90 процентов.
Проблема элиты
«Если бы я не был главой государства, я хотел бы быть министром образования», – признавался Кемаль, придававший образованию первостепенное значение. Сам он буквально поглощал книги, особенно исторические, делая пометки красным и синим карандашами; часто превращал обеды в многочасовые дискуссии, которые могли длиться до рассвета. Близкие друзья, министры, депутаты, интеллектуалы приглашались для обмена идеями и мнениями, для ответа на вопросы, волновавшие хозяина, причем он часто приглашал и незнакомых ему людей, чтобы узнать их. Так, молодой французский бизнесмен, прибывший в Анкару открыть филиал автозавода «Ситроен», был удивлен, получив приглашение в Чанкая; в тот же вечер он оказался за одним столом с президентом республики. Молодого человека, находящегося под сильным впечатлением от личности Кемаля, чуть не хватил удар, когда гази обратился к нему: «Я – абсолютный ноль в экономике. Объясните мне, что следует сделать, чтобы накормить население».
Кемаль разрабатывает доктрину, можно даже сказать – религию, образования. Учителя и учительницы, окрещенные «лоцманами будущего освобождения», брошены в атаку на обскурантизм. Их преданность делу, самоотверженность, чувство ответственности перед республикой и кемализмом станут одной из традиций политической жизни новой Турции. Но сколько лет понадобится им, чтобы добиться победы в сложных условиях разбросанности мелких деревень, суровых зимних холодов и сопротивления крестьян, стремящихся отправлять дочерей в школы, где сохранилось религиозное влияние? В 1926 году культурная революция делала первые шаги. В 1935 году из 40 тысяч деревень 35 тысяч еще не имели школ и только 350 тысяч детей из 1,9 миллиона обучались грамоте.
Молодая республика испытывала недостаток в интеллектуальной элите и кадрах. Она унаследовала от прошлого около 600 выпускников школы государственного управления, 500 выпускников факультета права и 900 врачей, получивших образование в Османской империи между 1880 и 1900 годами. К счастью, большинство из них были турками и почти единодушно поддержали республику. Большинство министров, многие депутаты имели университетское образование и были полны энергии и энтузиазма, что поразило французского посла, прибывшего в Анкару: их горячее стремление строить будущее и их компетентность не вызывали сомнения. Но их было слишком мало для выполнения этой грандиозной задачи.
Идти в народ, пропагандировать новые идеи и ценности – вот задача, поставленная Кемалем перед Народной республиканской партией. Однако партия действовала удивительно скромно, что было трудно объяснить. Региональные конгрессы партии, запланированные с осени 1924 года для подготовки Великого конгресса в конце апреля 1925 года, были проведены только в нескольких провинциях, а затем приостановлены восстанием курдов, возглавляемым шейхом Саидом. А когда региональные отделения партии функционировали, то скорее напоминали палату аграриев, торговли или промышленности, чем «школу гражданского обучения населения», объявленную Кемалем. Видные деятели партии были больше озабочены собственными делами и поэтому едва ли были способны убеждать непосредственно крестьян в преимуществах кемалистской революции. К счастью, эту роль взяли на себя турецкие центры, что даже вызвало некоторую обеспокоенность партии. Турецкие центры активно участвовали в открытии диспансеров и деревенских школ, в организации курсов для населения и конференций, гимнастических залов и кинотеатров. «Несомненно, турецкие центры должны были заботиться о крестьянах, рабочих и солдатах, но они не вовлекали их в свою деятельность. Турецкий центр не может привлекать людей с улицы», – заявлял их руководитель Хамдулла Суфи, один из интеллектуалов, которых очень ценил гази.
Что может сделать революционер-буржуа, как говорил Ленин, который решил превратить века в годы, когда элита столь малочисленна? Ответ прост: чтобы убедить народ и вести его за собой, единственным решением был сам гази Мустафа Кемаль.
Заговор
13 марта 1926 года подлинный фейерверк статей, посвященных Мустафе Кемалю, появился в турецкой прессе. Юнус Нади посвятил ему целое исследование, где сравнивал гази с «великой горой, с солнцем», с «призмой с тысячей граней, каждая из которых представляет целый мир». В тот же день «Вакыт» начинает публиковать серию статей под названием «Как мы узнали гази-пашу?». А ежедневная газета «Миллиет», основанная депутатом Махмудом Эсатом, предприняла публикацию «Воспоминаний» гази. «Воспоминания», продиктованные Кемалем журналисту Фалиху Рыфкы в присутствии свидетелей, охватывали период Первой мировой войны. В этих «Воспоминаниях» Кемаль обрушивается с критикой на Энвера и Германию, не затрагивая бывшего лидера юнионистов Джемаля, а себя выставляет в наилучшем свете. Как заметил один из видных туркорологов Франции Жан Дени по поводу «Воспоминаний»: Кемаль всегда был прав, а Турция избежала бы многих несчастий, если бы с 1908 года прислушивались к мнению Кемаля.
«Воспоминания» публиковались в «Миллиет» до 12 апреля; далее газета объявила, что вслед за первой частью будут опубликованы еще три, когда будут подготовлены и одобрены к печати Кемалем. Странно, но эта подготовка затянулась до 1944 года.
Одновременное появление такого количества хвалебных статей, их необычайно возвышенный тон, а также задержка публикации обещанного продолжения «Воспоминаний» – всё это примечательно. Тем не менее никто из иностранных обозревателей не обратил на это внимания. Автобиография, опубликованная в «Миллиет», была отмечена в дипломатических депешах, но ведь Кемаль и раньше уже делился воспоминаниями: в 1922 году он давал интервью газете «Вакыт». Французы и англичане, каждый по своему, писали одно и то же: никто не знает, действительно ли население с энтузиазмом поддерживает реформы Кемаля, но все убеждены в том, что новая Турция целиком и полностью в руках Мустафы Кемаля. Он единственный, кто способен поддержать революцию, провести народ через все трудности и испытания. И англичане задаются фундаментальным вопросом: что случилось бы с Турцией, если бы здоровье Кемаля или его безопасность оказались под угрозой?
20 мая 1926 года Кемаль прибывает в Бурсу после короткой поездки по югу страны. Он проводит в Бурсе три недели, словно на отдыхе. Впервые никаких сенсационных заявлений, никаких революционных реформ. Он посещает мавзолей, выставку швейных изделий, спокойно прогуливается по улицам города, посещает театральный спектакль труппы, совершающей турне по Анатолии, ведет размеренный образ жизни. Вечером 13 июня гази выезжает в направлении Балыкесира, чтобы затем посетить Измир.
На следующий день вопреки предусмотренной программе Кемаль всё еще в Балыкесире. Он получает телеграмму от губернатора Измира о том, что раскрыт заговор. Хозяин моторной лодки, который должен был вывезти заговорщиков из Турции, пришел с повинной и выдал четырех заговорщиков, которые были тут же арестованы. Один из них – бывший депутат Зия Хюршид, лидер «Второй группы», объединившей оппозиционеров во время войны за независимость. 16 июня Кемаль прибывает в Измир, его встречает восторженная толпа: «Придет день, когда мое скромное тело превратится в прах, но Турецкая Республика останется навсегда, а турецкая нация пойдет по пути цивилизации согласно принципам, гарантирующим счастье и безопасность».
Смерть не пугает Кемаля, впрочем, его физическое существование не обсуждается. За год до заговора в Измире Кемаль уже заявлял о своей претензии на бессмертие: «Есть два Мустафы Кемаля. Один из них перед вами, доподлинно Мустафа Кемаль, тленный. Но есть и другой, о ком я не могу сказать, что это „я“. Это не я, это вы, кого он олицетворяет, вас всех, присутствующих здесь, всех тех, кто понесет во все уголки страны новый идеал, новый образ мышления. Я представляю вашу мечту. Все, что я предпринимаю, направлено на то, чтобы реализовать их надежды». Кемаль действительно горд тем, что сделал для своей страны, и, как написал английский дипломат, он страстно верит в то, что сила и счастье Турции будут результатом его реформ. Его убеждения настолько сильны, что одним из первых шагов по прибытии в Измир было распоряжение привести к нему Хюршида, главу заговорщиков. Кемаль пытается понять:
– Зия Хюршид-бей, мы долго работали вместе во имя общей цели, не правда ли?
– Да, мой паша.
– Тогда почему этот заговор? Вы глава этой банды?
– Да, это так, мой паша; я собирался совершить покушение, но это не получилось…
– Я не ожидал такого от вас.
– Мир полон событий, которых не ожидают…
Проект покушения возник в нужное время и сразу заставил забыть обо всех трудностях, упомянутых послом Франции в депеше, посвященной раскрытию заговора: о слабой позиции Анкары в проблеме Мосула, о перипетиях в личной жизни Кемаля, об экономических проблемах и враждебных отношениях между армией и полицией. И тем не менее проект покушения – реальность. Перед Измиром Хюршид и его сообщники планировали убить Кемаля в Анкаре или в Бурсе, и полиция, по крайней мере ответственные за его безопасность, знала об этих проектах. Один из сообщников Хюршида был, кажется, агентом правительства, а другое, более серьезное свидетельство заговора – это сообщение молодого депутата, близкого к Кемалю, начальнику полиции Стамбула о подготовке заговора, руководимого Хюршидом. 29 июня губернатор Анкары сообщает прессе, что за заговорщиками была установлена слежка с зимы 1925 года. Становится очевидным, что заговор в Измире позволит Кемалю развернуть гигантскую политическую операцию.