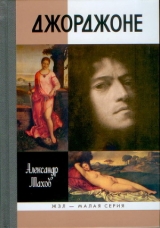
Текст книги "Джорджоне"
Автор книги: Александр Махов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц)
Молодость, как краткий миг, —
беззаботен светлый лик.
Она радуется жизни
и не думает о тризне.
Всяк, кто станет на пути,
Должен в сторону уйти.
24
Эта тема постоянно была предметом оживлённых споров в венецианском обществе, которое дорожило своим благоденствием в настоящем, но порой задумывалось и о грядущем, особенно когда до него доходили слухи о событиях на terra ferma, где проливалась кровь.
* * *
Юный Джорджоне был очевидцем бесед и споров среди именитых гостей своего наставника, впитывая в себя как губка мысли о любви, красоте, поэзии и музыке. Они находили отзвук в его впечатлительной натуре.
Он остро ощущал пробелы своего образования, полученного в приходской школе родного городка, хотя с латынью трудностей у него не возникало. С разрешения Беллини иногда брал из богатой библиотеки при мастерской заинтересовавшую его книгу, чтобы на досуге почитать в своей каморке при свече.
Со временем чтение стало его страстью, и без книг, как и без красок, он не мыслил своего существования. Особенно его увлекала поэзия, и стихи многих поэтов он знал наизусть, поражая окружающих своей редкостной памятью. В нём настолько сильно проявлялась поэтическая натура, что, видимо, уже тогда он начал сочинять стихи и подбирать мелодии к своим песням под аккомпанемент лютни. Со временем песни принесли ему не меньшую известность, чем первые его картины. Но ни стихи, ни сочинённая на них музыка – ничего из этого не сохранилось.
Своими мыслями об услышанном и прочитанном он часто делился с товарищами по мастерской, среди которых наиболее близкие, доверительные отношения у него сложились с подмастерьями года на три-четыре постарше. Прежде всего, это балагур Себастьяно Лучани (вошедший в историю искусства под именем Дель Пьомбо), по-детски наивный коротышка Якопо Пальма Старший, молчун Лоренцо Лотто и говорун Винченцо Катена. Все они, считая себя коренными венецианцами, взяли под свою опеку иногороднего пришельца, помогая новичку советами.
Много полезного он почерпнул от задумчивого Лотто, самого одарённого из подмастерьев, вечно погружённого в свои неведомые мысли. В нём Джорджоне почувствовал родственную натуру. Но поговорить с ним по душам и сойтись поближе так и не удалось, поскольку Лотто вскоре покинул мастерскую, уйдя, как говорится, на вольные хлеба.
Несмотря на разницу в возрасте, опытные мастеровые ценили в младшем товарище трудолюбие и душевное благородство. Он был добрым, отзывчивым парнем, любителем шутки, острого словца и душой любой компании со своей неразлучной лютней. Но за ним водились непонятные странности, когда порой он вдруг замыкался, впадал в хандру и, о чём-то думая, перебирал струны лютни, словно ища в звуках ответ своим мыслям.
В такие минуты к нему было не подступиться и лучше ни о чём не спрашивать. Такое случалось, когда на дворе стояло ненастье. Но едва проглядывало солнце, как он снова становился весел, радовался жизни и его приподнятое настроение передавалось товарищам по цеху.
Когда же заходил разговор о той или иной картине учителя или кого-то из знакомых художников, то к мнению Джорджоне подмастерья прислушивались, хотя не всё в его словах было понятно – уж больно заумными казались им рассуждения этого парня, выделявшегося не по возрасту своей серьёзностью и начитанностью. Ведь многие из них никогда в руках не держали книги.
Именно товарищи по цеху стали первыми называть своего подопечного Zorzon – Джорджоне. Пройдёт совсем немного времени, и каждый из них подпадёт под сильное влияние его искусства.
Вскоре их дружная компания пополнилась. В мастерской появился высокорослый отрок лет десяти по имени Тициан Вечеллио, уроженец горного Кадора. Говорят, он расстался с прежним учителем Джентиле Беллини, хлопнув в сердцах дверью после того, как тот грубо обругал его за один рисунок, заявив во всеуслышание, что художника из него не выйдет. А вот младший Беллини, зная сварливый характер брата, пригрел обиженного парня и принял к себе на обучение.
До конца своих дней Тициан сохранял добрую память о наставнике. Среди остальных он отличался молчаливостью и брезгливостью, когда затевался разговор на щекотливые темы, до коих мастеровые были охочи: их хлебом не корми, а дай поскабрезничать.
Как-то Беллини представил ребятам нового подмастерья Лоренцо Луццо, парня лет двадцати, уроженца городка Фельтре области Венето. За мрачный колорит своих работ и страсть копаться в костях и черепах, извлечённых из древних капищ, он получил пугающее прозвище Морто ди Фельтре (Мертвец из Фельтре), которое за ним закрепилось на всю жизнь, но он не обижался.
Из всех парней новичок выделил земляка Джорджоне за благородство, великодушие, доброту и редкостный талант. Он неотступно следовал за ним, домогаясь дружбы и ревнуя его ко всем, особенно к юному Тициану, который тянулся к Джорджоне и прислушивался к его советам. Позднее Морто ди Фельтре отплатил доверчивому другу чёрной неблагодарностью.
Наблюдая однажды за работой Джорджоне над одним рисунком, Беллини снял с полки потрёпанную книжку и посоветовал ученику полистать ее на досуге.
– Автор был учеником одного живописца, – сказал он, – который работал с самим Джотто, а это многое значит.
Поглаживая обложку рукой, он добавил.
– В книжке найдёшь немало ценных советов по грунтовке и работе с темперой. Тогда в отличие от нас, художники еще не знали о существовании масляных красок.
Это был трактат Ченнино Ченнини «Книга об искусстве» (1398), написанный на разговорном языке vulgo, а потому легко читавшийся. Книжица побывала не в одних руках, и на замусоленных страницах было немало пометок карандашом. Джорджоне прочёл книгу с интересом, как курьёзный совет из далёкого прошлого.
Его поразили некоторые рассуждения автора, который советовал при занятии искусством подчинять свой образ жизни строгому распорядку, как и при занятии богословием или философией, – иными словами, следует есть и пить умеренно, по крайней мере дважды в день.
С этой рекомендацией Джорджоне полностью согласился, так как в работе часто забывал о еде. А вот утверждение Ченнини о том, что чересчур частое общение с женским полом способно вызвать немощь и дрожание рук, его немало позабавило. Он решил поделиться с ребятами мыслями о прочитанном.
Когда он зачитал некоторые выдержки из книги Ченнини, это вызвало у слушателей гомерический хохот. Вот уж воистину Littera docet, littera nocet – буква лечит, буква и калечит.
Парней особенно позабавили слова об «общении» с женским полом, и каждый принялся хвастаться своим немалым «опытом». Особенно потешался Бастьяно Лучани:
– Много ли знает этот твой Ченнини? Ребята, гляньте-ка! У меня руки никогда не дрожат.
И снова взрыв смеха с похабными шутками и двусмысленностью. Но после того случая Джорджоне зарёкся делиться с парнями прочитанным. Кроме плотских утех и желания набить брюхо, их мало что интересовало. Да и их мнение его меньше всего занимало, а посему он следовал советам своего внутреннего голоса и во всём полагался только на себя.
ЮНОШЕСКИЙ МАКСИМАЛИЗМ
Молодость брала своё, и после трудового дня парни разбегались кто куда, но своего подопечного с собой не брали:
– Сиди дома, малыш! У тебя ещё нос не дорос, и тебе пока рано шляться по кабакам.
Джорджоне обижался, особенно его злило обращение «малыш».
– Нашли мальчика для битья и потешаются, – возмущался он про себя. – Но ничего, скоро, бездари, я вас всех заткну за пояс!
Юнец сам проведал путь в одно из злачных мест в округе – квартал Сан Самуэле, где пышнотелые блондинки готовы были обслужить любого клиента вне зависимости от возраста и звания. Их интересы защищали рослые парни bravi с мощными бицепсами, следившие за порядком и своевременной оплатой за полученные услуги.
Весёлые сборища часто заканчивались мордобоем, когда между подвыпившими гостями завязывались драки с поножовщиной и нередко со смертельным исходом. Тогда тело сбрасывалось в канал: во время отлива воды уносили его в открытое море – и всё шито-крыто.
Не случайно в районе сомнительных заведений один из переулков носит красноречивое название Terra Assasini – улочка Убийц, а мост через один из каналов называется Ponte dei Pugni – Кулачный мост, соперники выясняли на нём отношения.
Для любителей острых ощущений в городе с двухсоттысячным населением насчитывалось более одиннадцати тысяч жриц любви, которые должны были исправно платить налоги в казну. За неуплату грозило выдворение из Венеции. За соблюдением закона следила недремлющая и вездесущая сыскная служба.
Нелегко доставался хлеб насущный жрицам любви. Годы веселья пролетали быстро, и на лицах появлялись предательские морщины. Оказавшись не у дел, девицы предавались безрадостным воспоминаниям о прошлой разгульной жизни – как это можно увидеть на картине Карпаччо «Две куртизанки» (Венеция, музей Коррер). Та же участь уготована тысячам жриц любви, ублажающих мужские вожделения.
У завсегдатаев таких заведений в ходу была присказка:
Узкая улочка Сан Самуэль,
Ты нам мила, как весёлый бордель.
Вскоре подросшего Джорджоне с его повышенной чувственностью, которая с наступлением сумерек обострялась, потянуло к тем, кому не надо было платить. В венецианском обществе с его сословными предрассудками, где рабство просуществовало до конца XV века, талант как ценный дар матери-природы был ключом, открывающим двери дворцов аристократов. Тогда происходило чудо, и вчерашний плебей становился знатным гражданином, приближённым к кругу избранных. За особые заслуги его одаривали какой-нибудь официальной высокооплачиваемой должностью, как это имело место в случае с братьями Беллини, а позднее с Тицианом.
Приятная внешность статного красавца и его харизма вкупе с дивным пением приводили в экстаз светских дам, и Джорджоне стал желанным гостем во многих домах патрициев, где устраивались музыкальные вечера, а его лютне отводилась роль первой скрипки. Его всегда умиляли хитрость и изворотливость любвеобильных дам, водивших за нос своих доверчивых супругов. Но порой жеманность и двуличие выводили его из себя, и он бежал по проторенной дорожке туда, где всё было просто, без кривлянья и обмана: плати и получай…
Прослышав о его успехах во дворцах знати, товарищи по мастерской от удивления смогли только развести руками – «малыш» их всех перещеголял!
* * *
Вопреки преклонному возрасту Беллини, будучи официальным живописцем республики, отличался завидной работоспособностью, чего требовал и от своих учеников и подмастерьев. Каждое утро в жару и холод он направлялся в Дворец дожей, где с его участием обсуждались проекты дальнейшего художественного убранства дворца.
Нередко заседания комиссии проходили бурно и затягивались допоздна. Иногда в зал к собравшимся заглядывал дож Агостино Барбариго, которому до всего было дело, вплоть до мелочей. Но тактичному Беллини без труда удавалось ублажить любой его каприз или какую-либо несуразность, и дож, удовлетворённый объяснением, удалялся в свои покои.
Джорджоне не раз приходилось сопровождать Беллини во дворец. И пока учитель занимался делами, рассматривая представленные ему новые работы и проекты, он свободно бродил по дворцовым залам, где его поражали помпезность и роскошь убранства со множеством картин и скульптур на мифологические и исторические сюжеты, прославляющие величие Венецианской республики. Вся эта роскошь казалась юнцу нарочитой, чрезмерной и не всегда к месту, как говорится в старинной пословице: не всё то золото, что блестит. Например, Большой дворцовый зал украшала аляповатая картина непомерных размеров, на которой было показано, как дож Себастьяно Дзиани примиряет папу Александра III с императором Барбароссой, целующим туфлю понтифика, а на другой картине, наоборот, тот же дож укрывает папу от гонений императора.
Все эти полотна, повествующие об имевших место исторических событиях, служили своеобразной визитной карточкой Венеции, демонстрируя, сколь важную роль играла владычица Адриатики в европейской политике.
Но политика как таковая меньше всего интересовала Джорджоне. Он вдоволь насмотрелся на всю эту мастерски выполненную декоративную живопись, от которой в глазах рябило, хотя там были и картины его наставника.
Видимо, уже тогда будущий художник стал осознавать, насколько такая живопись, украшающая парадные залы дворца, с её верностью историческим событиям, далека от подлинной правды жизни с её радостями и печалями, да и от всего того, что окружало его на каждом шагу; насколько она полна равнодушия к простому человеку с улицы, невзначай оказавшемуся в дворцовых залах, словно в золотой клетке.
Каково же было его удивление, когда по возвращении в мастерскую он видел, как учитель всякий раз, словно боясь что-то упустить, подходил к мольберту, чтобы последними мазками закончить очередную Мадонну или Святое семейство. Их земная простота и жизненность никак не сочетались с великолепием картин в парадных залах дворца. Казалось, что работы были написаны совершенно разными художниками, чему Джорджоне не находил объяснения, ибо таковое было выше его понимания.
Это открытие поразило молодого человека своей двойственностью. Возможно ли, чтобы два различных мира уживались в одном художнике? Где любимый им мастер независим и свободен в работе, а где вынужден пойти на сделку с совестью и своими убеждениями? Возможно ли такое двуличие?
С не дающими покоя мыслями и сомнениями ему порой хотелось поделиться со старшими товарищами. Но самый рассудительный из них Лотто покинул мастерскую, а поговорить с балагуром Лучани он не решался, опасаясь, что тот поднимет его на смех и всё обратит в шутку. С другими товарищами по мастерской, которые вечно спорили, ругались по пустякам или взахлёб рассказывали о своих ночных приключениях, хвастаясь одержанными «победами», он не решался затевать разговор на волнующую его тему.
Вероятно, после таких откровений Джорджоне дал себе зарок ни в чём не потакать вкусам сильных мира сего и не идти на поводу требований заказчика, кем бы тот ни был, пусть даже самим дожем. Как показала дальнейшая его творческая жизнь, он остался верен своей юношеской клятве.
Может показаться странным, но во Дворце дожей нет его работ. Хотя после случившегося там пожара правительству республики пришлось, ради восстановления утраченного, обратиться ко многим известным мастерам, и, безусловно, Джорджоне одним из первых, наряду с Беллини, Карпаччо и Тицианом, должен был получить столь лестное предложение. Но петь под чью-то дудку он не захотел.
* * *
Дабы побыть одному и разобраться с мыслями, не дававшими ему покоя, он любил после занятий побродить по лабиринту милых узких улочек, пересекаемых каналами, где после заката не встретишь ни души, а из окон домов доносятся голоса людей – зычные мужские и, словно птичье щебетание, женские, причём угадывалось типичное для венецианцев произношение, в котором не удавался согласный звук «эр» – по-видимому, из-за особенностей климата, в отличие, скажем, от раскатистого «эр» флорентийцев и римлян.
Вечерняя трапеза – это предвкушаемый обряд для всех венецианцев с его возбуждающими аппетит запахами. И лишь он, как неприкаянный, бродил одиноко по загадочной вечерней Венеции, полной заманчивых звуков, плеска воды и ползущих по стенам теней, будоражащих воображение.
На одном из подоконников дома напротив оставлена горящая свеча – как верный знак любовнику о том, что путь свободен. А из окна соседнего дома опущена на тесёмке корзинка, и в ней, как легко догадаться, послание и час назначенный свиданья.
На каждом шагу Венеция предлагает свои загадки. Блуждая по улочкам и закоулкам, он мечтал, что и ему будет брошена под ноги записка с приглашением на вожделенное свидание. Он любил бродить по тёмным улочкам, где ему вдруг вспомнилась не раз слышанная от начитанных гостей мастерской любовная эпиграмма Платона о том, что если б он стал Небом, то смотрел бы множеством звёзд на Землю. А пока ему не хватало одного – стать звездой, чтобы с высоты лицезреть Венецию.
Однажды он оказался на набережной небольшого канала, где услышал похожее на молитву песнопение, необычное для столь позднего часа, когда все церкви закрыты. Это был дом греческой православной общины. Казалось, что заговорил напевно хор из трагедии Эсхила, и он бы слушал его и слушал, но голод дал о себе знать, и он свернул за угол в харчевню для бродяг полуночников, где мог разжиться в долг миской похлёбки.
Подкрепившись, он теперь думал только об одном: добраться до своей каморки и поспать, а на рассвете его наверняка разбудит сосед зеленщик, для которого он расписал недавно cassone.
В часы ночных прогулок ему не однажды доводилось слышать пение гондольеров, ублажающих слух своих подгулявших пассажиров. Одна из песен ему особенно запомнилась своей мелодичностью:
Venezia rassomiglia una sposa
vestita di merletti di Murano.
Sospira tra le gondole festosa.
Spose ed amanti, Buona fortuna!
Как-то во время дружеской пирушки во дворце Вендрамин, где ему приходилось бывать, как и в других знатных домах, устраивавших музыкальные и поэтические состязания, он взял в руки лютню и спел полюбившуюся песенку, слегка переиначив её слова:
Венеция, моя невеста, —
Дитя волны адриатической.
На свете нет прекрасней места.
Как в зеркало, на лик магический
Глядит ревнивая Венера.
В своём наряде подвенечном
Ты для любого гондольера
Источник песен бесконечный.
Удел твой юной быть извечно!
Достаточно взглянуть на украшенный мраморным кружевом фасад дворца Ка’ д’Оро (Золотой Дом) на Большом канале, принадлежавшего тогда отцу друга Таддео Контарини, чтобы убедиться в правоте песенки гондольеров.
Из описаний Гёте известно о тогдашнем обычае среди гондольеров распевать, чередуя, стихи Ариосто и Тассо, когда по вечерам Canal Grande, украшенный разноцветными фонариками, превращался в арену поэтически-музыкального состязания. Об этом позднее у Пушкина говорится в шестой главе «Евгения Онегина»:
Но слаще, средь ночных забав,
Напев Торкватовых октав!
По сей день в любую погоду – солнечную или дождливую – можно услышать песни гондольеров в неунывающей Венеции, приветливо встречающей гостей города.
* * *
К концу недели вся мастерская гудела. Среди учеников и подмастерьев только и разговоров было о том, как и где провести воскресный день. Но Джорджоне помалкивал, так как недолюбливал безделья, а собираться вновь в компании с товарищами по мастерской не хотелось – их болтовнёй он был сыт по горло за неделю. Зато это был день, когда можно было отоспаться, пока его не будил сосед зеленщик, собирающийся с семьёй на воскресную службу, о начале которой оповещал колокольный перезвон, не выглядеть белой вороной, Джорджоне присоединялся к жильцам дома и брёл в соседнюю церковь, где по привычке зажигал свечку перед образом Богородицы и до начала литургии незаметно исчезал.
Во время воскресных прогулок по городу Джорджоне более всего опасался повстречать невзначай приходского священника, который вновь начнёт корить его за то, что давно не видел его на причастии.
В последний раз на исповеди, стараясь вспомнить свои прегрешения, Джорджоне признался, что часто пытается разглядеть женскую фигуру через одежду насквозь в перспективе.
Услышав это, святой отец рассердился не на шутку и, сняв руку с его головы, сказал:
– Ты мне глупости про перспективу не рассказывай! Это греховные мысли и в наказание трижды читай Отче наш и ступай себе с Богом!
Сколько тайн ему открывала Венеция! Говорят, что недалеко от Риальто за каменной аркой стоит дом, где жил Марко Поло, автор знаменитого труда «Мильоне» (название происходит от семейного прозвища Emilione), недавно вышедшего в серии aldini. Каких только чудес не узнал юный Джорджоне из этой книги!
* * *
Однажды хмурым осенним утром Беллини сообщил подопечным, что собирается навестить больного друга Витторе Карпаччо, от которого несколько дней не было вестей. Путь от мастерской до задворков собора Святых Иоанна и Павла, за абсидой которого находилась Скуола Святой Урсулы, был не близкий – по ступенчатым мостам через каналы, да ещё в слякоть. В помощь он взял с собой двух рослых парней – Джорджоне и Тициана.
Одного из корифеев венецианской живописи Карпаччо они застали за работой в большом холодном зале с высоким сводчатым потолком. Борясь со старческим недугом, мастер не выпускал из рук палитру и кисти. Завидев гостей, расторопная служанка тут же накрыла стол, выставив фьяску белого шипучего вина и закуски с дарами моря.
Пока оба мастера были заняты трапезой, Джорджоне с Тицианом принялись рассматривать прислонённые к стене большие многофигурные полотна из почти завершённого цикла «История святой Урсулы», заимствованного из знаменитой книги генуэзского епископа доминиканского ордена XIII века Якопо да Вораджине «Золотая легенда» с её удивительными историями из жизни святых мучеников.
Хотя само повествование ещё насквозь пронизано средневековым мировоззрением с неизменным почитанием мощей и реликвий, с верой в таинственную символику чисел и полуязыческим поклонением «древу жизни», книга к концу XV века выдержала 143 издания. Оттуда черпали сюжеты многие итальянские мастера.
Живо и увлечённо написанная книга привлекала художников занимательностью и искренней привязанностью автора к своим когда-то реально существовавшим героям. Их судьбами заинтересовались Джотто, Симоне Мартини и Фра Беато Анджелико, а позднее Пьеро делла Франческа и, конечно же, Витторе Карпаччо с его богатейшей фантазией.
Рассматривая полотна с обилием героев разного толка и громкой разноголосицей, Джорджоне вдруг опешил. Он почувствовал шум в ушах, который утих, когда его внимание привлекли гондольер с одиноким седоком, а вдали гордо возвышающаяся над городом колокольня Сан Марко. В этом сопоставлении двух вертикалей ему вдруг послышался тревожный набатный звук в явном контрасте с шумной сценой прибытия многочисленной делегации английских гостей. Но он успокоился, когда подошёл вплотную к полотну «Сон святой Урсулы», от которого не мог оторваться.
Отстав от него, Тициан торопливо делал наброски в тетради, переходя от одной картины к другой и не видя ничего вокруг.
Девичья светёлка залита льющимся сверху мягким утренним светом. Падая на ложе спящей девушки, солнечные блики ласково приглашают её пробудиться от сновидений, а стоящий у входа в опочивальню ангел возвещает спящей о её грядущем мученичестве.
Всё здесь соткано светом, играющим главенствующую роль при сотворении объёмов и перспективы. Как же эта скромная картина, преисполненная тишины и неизъяснимой поэзии, непохожа на всё остальное в шумном и нескончаемом повествовательном многословии Карпаччо!
Тем временем оба старых мастера, изрядно взбодрив себя напитками, повеселели. Лица у них порозовели, и они пожелали послушать молодёжь, скромно стоящую в сторонке.
На вопрос хозяина дома, что молодые люди думают об увиденном, Тициан раскрыл тетрадь с рисунками и, протянув её мастеру, сказал, слегка волнуясь:
– Ничего подобного мне не приходилось видеть ранее. Все полотна потрясают до глубины души своим величием, колоритом и продуманной до мелочей чёткой композицией, где каждое лицо наделено ярко выраженной индивидуальностью…
Обычно молчаливого Тициана словно прорвало, но он остановился, чтобы перевести дух. Было видно, что Карпаччо остался доволен ответом и даже прослезился – у стариков глаза часто на мокром месте. Успокоившись, он обратил взор на другого парня, ожидая, что скажет тот.
После длинной тирады товарища Джорджоне понял, что от него ждут. Проявив находчивость, он честно, без лукавства сказал:
– Пока я ещё не успел разобраться в увиденном и уловить главную мысль. Но вот падающий свет на картине «Сон святой Урсулы» настолько меня ослепил, что рука не осмелилась бы повторить это чудо в рисунке.
При этих словах Тициана всего передёрнуло, и лицо его покрылось красными пятнами. Впервые между двумя товарищами пробежала чёрная кошка.
Хотя трудились они бок о бок в одной мастерской, друзьями их никак не назовёшь – уж больно разными и непохожими они были по складу характера, темпераменту, привычкам и образу жизни. В отличие от импульсивного весёлого Джорджоне, который был желанным гостем в любом доме, Тициан отличался рассудительностью, был тугодумом и не хватал идеи на лету. Но за что бы он ни брался, во всём проявлял неторопливость и основательность. Нет, он не пел и не играл ни на каком музыкальном инструменте, хотя и любил дружеское застолье, но в меру, в отличие от других мастеровых.
Пожалуй, лучше всех о Тициане отозвался всё тот же Джорджоне, который в кругу друзей как-то образно высказался: «Он был художником уже во чреве матери».25 Такое признание старшего товарища дорогого стоит!
На прощание Карпаччо поблагодарил Беллини за визит, сказав, что тот вырастил достойную себе смену. И был прав. Как говаривал Леонардо да Винчи, плох тот учитель, который не воспитал себе замену.
Проводив обмякшего, захмелевшего учителя до дома, оба ученика разошлись в разные стороны, не обменявшись ни словом.
С той поры Джорджоне стал внимательнее приглядываться к урсулинкам, нередко встречаемым на улице в их строгом монашеском одеянии. Ведь среди них немало милых мордашек!
* * *
Как свидетельствует летописец Санудо, «Дом Братства», или Скуола Святой Урсулы была одной из двухсот больших и малых скуол, созданных в филантропических целях и разбросанных по всей Венеции. Они не имеют ничего общего с учебными заведениями. Это чисто венецианское явление, представляющее собой довольно просторные светлые помещения для встреч мирян определённого прихода (от лат. schola – свободное времяпрепровождение, приятный отдых), которые после службы собирались для совместного обсуждения чисто житейских вопросов или по случаю больших праздников. Как правило, рядом находилась церковь, освящённая в честь какого-нибудь святого, чьё имя носила и сама скуола.
Между общинами крупных скуол, таких как Сан Марко, Сан Джорджо дейли Скьявони, Сан Джованни Эванжелиста, Сан Рокко, Сан Джорджо Маджоре или Скуола острова Мурано, членами которых были по преимуществу состоятельные граждане, шло негласное состязание по оформлению своих помещений и придания им пышного декора в чисто венецианском духе, на что прихожане не скупились. Для малоимущих и бедняков существовали скуолы при монашеских братствах.
К работе в скуолах привлекались известные мастера: братья Беллини, Карпаччо, Чима да Конельяно, Де’ Барбари, Корона, Савольдо и целая династия художников Виварини. Здесь оставили свой след и художники из других областей Италии, посчитавшие для себя честью поработать в венецианских скуолах, где позднее создали свои творения Веронезе и Тинторетто. А вот Джорджоне так и не принял приглашение на написание картин для скуол из-за щепетильности и капризов заказчиков, сующих свой нос куда не надо.
Кроме того, при его жизнелюбии и радостном настрое души ему было трудно погрузиться в мир христианского мученичества и страданий. Это было выше его сил. Он удивлялся, как старине Карпаччо удавалось при всей его весёлости нрава и тяге к вычурной красивости писать на трагическую тему. Но причина кроется в большой возрастной разнице между ними.
Как правило, художники, работавшие на скуолы, обеспечивались всем необходимым, в том числе красками. Особым спросом у мастеров пользовались ультрамарин, изготовляемый из дорогой привозной ляпис-лазури, а также киноварь, кобальт, охра, кадмий, не говоря уже об известных венецианских белилах.
Сама Венеция стала крупным производителем лаков и красок, которые продавались в обычных городских аптеках. Сюда для закупки красок наведывались художники из других областей. Ради получения побочного дохода к производству лаков и красок приобщились и некоторые монастырские братства, которые по традиции успешно занимались изготовлением вина «Лакриме Кристи».
ЗНАКОМСТВО С ДЮРЕРОМ
Начиная с 1495 года в Венецию часто наведывался Альбрехт Дюрер, друживший с Беллини. У венецианцев, переиначивших его имя на Дуро (от ит. duro – крепкий) из-за упрямого несговорчивого характера, большим спросом пользовались его гравюры на религиозные и мифологические темы.
Они заинтересовали и Джорджоне ясностью образной структуры и строго упорядоченным размещением пластических объёмов в пространстве. Особенно его поразили своей экспрессией гравюры на тему Апокалипсиса, подаренные Дюрером Беллини. Да и сама личность немецкого живописца привлекла его – благородной осанкой и, главное, независимостью суждений, а порой резкостью в спорах и нежеланием идти на компромисс. Тогда в споры вмешивался добряк Беллини, пытаясь охладить пыл немецкого друга.
Джорджоне всячески старался обратить на себя внимание немецкого художника. Но тщетно – тот не замечал никого вокруг, кроме друга Беллини, которого одаривал своими рисунками. Всем остальным в мастерской к самодовольному немцу было не подступиться.
На одной из гравюр Дюрера можно прочесть такие слова, написанные размашисто готическими буквами, смысл которых Джорджоне смог понять только с помощью старого мастерового, выходца из одного швейцарского кантона:
Я не желаю предпочесть
Суровой искренности лесть.
Держаться надобно подальше
От лицемерия и фальши.
(Пер. Л. Гинзбурга)
Джорджоне задумался над этими строками. Ему никогда ещё не приходилось сталкиваться со столь пронзительной искренностью, звучащей как крик души, а сам Дюрер напоминал ему такого же страстного и неистового Эразма Роттердамского, выступавшего против всякой фальши и лицемерия. Он с ещё большим интересом наблюдал за Дюрером в каждый его приезд, хотя в немце было и что-то отталкивающее, чрезмерно резкое. Но, как говорится, гению многое дозволено.
Как правило, Дюрер останавливался в Немецком подворье, где располагались контора и склады банкирского дома Фуггера, а также других приезжих купцов. Красавца немца всё интересовало в Венеции, хотя сами венецианцы раздражали его не только своей болтливостью, но и бессовестным копированием его рисунков. Он даже затеял тяжбу с некоторыми типографами. А позднее особенно досталось от него известному гравёру Раймонди, который без спроса сделал 17 прекрасных ксилографий из его цикла «Жизнь Богородицы». Узнав об этом, Дюрер пришёл в бешенство, посылая проклятия на головы всех жуликоватых итальянцев.
И всё же, как ни велик был его гнев, не стоит забывать, что итальянское искусство Возрождения оказало на Дюрера сильное влияние. Без итальянской школы его творчество могло бы носить совершенно иной характер.26
В один из очередных своих наездов в Венецию он уговорил Беллини показать ему недавно водружённую конную статую кондотьера Коллеони, до которой не сумел сам добраться, окончательно запутавшись в лабиринте улочек и каналов. Беллини с готовностью откликнулся на просьбу немецкого друга и заодно рассказал ему, что знаменитый полководец оставил правительству республики своё огромное состояние на благотворительные цели в обмен на обещание воздвигнуть в его честь монумент.








