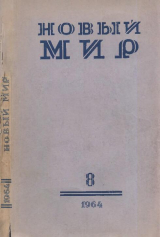
Текст книги "Мёртвая дорога"
Автор книги: Александр Побожий
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 10 страниц)
– Что случилось? – спросил я Айвоседу, развязывавшего нарты, на которых был уложен чум.
– Пуча рожать будет, – ответил он.
Не прошло и десяти минут, как среди снега стоял чум. В него повели жену Айвоседы.
Повариха партии Евгения Петровна, пожилая дородная женщина, сосланная на Север ещё до войны, взяла на себя обязанности акушерки. Она велела нагреть воды и пошла вслед за роженицей. Айвоседа достал из нарт несколько чурок дров и, набив котёл снегом, всё отнёс в чум.
Нам делать было нечего. Хмельков достал карту сомнительной точности, и мы стали сравнивать её с местностью. Но никаких ориентиров, конечно, не было – на юг и запад до самого горизонта была равнина, покрытая белым снегом. От ярких лучей солнца она искрилась, до боли слепя глаза. Только на севере виднелась узкая полоса леса, по которой легко было догадаться, что там течёт река Ево-Яха. Мы сидели и смотрели на однообразную панораму полярной земли.
Но вот из чума вышла старая ненка и, подойдя к Хмелькову, сказала:
– Тяжело рожает, спирт надо.
Хмельков кивнул завхозу, и тот достал фляжку со спиртом.
– Лей, – подставила кружку ненка.
Завхоз, немного налив, стал завинчивать фляжку.
– Лей ещё, шибко тяжело рожает, – потребовала ненка, протягивая кружку.
Когда спирту налили полкружки, она сказала: «Хватит», – и пошла в чум.
– Молодец Евгения Петровна, по всем правилам медицины орудует, – похвалил завхоз повариху, побалтывая у уха фляжкой и проверяя на слух остаток ценной влаги.
А минут через пятнадцать после того, как ненка унесла спирт, из чума донёсся детский крик – на свет появился ещё один житель тундры.
Стоявший в нетерпеливом ожидании Айвоседа от радости ударил по снегу хореем и побежал к чуму. Он постоял у полога минуту и, не решаясь войти, вернулся к нам.
– Давай фляжку, – попросил он у завхоза, – оленя дам.
Завхоз посмотрел на ненца, потряс фляжкой ещё раз около уха и поморщился, но, поняв наши знаки, протянул её отцу новорождённого.
– А оленя сыну побереги, – добавил завхоз.
– Может, дочка, а не сын, откуда твоя знает?
– По голосу слышно, басом кричит, – пошутил завхоз.
И как бы в подтверждение его слов вышедшая из чума Евгения Петровна, подойдя к Айвоседе, сказала:
– С сынком вас.
Айвоседа совсем засиял.
– Ну как, Евгения Петровна, спиртик-то пригодился для медицины? – подмигнул поварихе завхоз.
– Какая там медицина! Напоили роженицу, чтобы быстрее разродилась, – вот и вся медицина.
И она рассказала, что роды были действительно тяжёлые и ненки заставили роженицу выпить полкружки спирту. Дослушав Евгению Петровну, Айвоседа глотнул дважды и передал фляжку Пяку. Фляжка обошла всех ненцев.
А через час мы уже ехали дальше, увозя с собой маленького хозяина тундры, который никогда не будет знать, в каком он месте родился, так как кругом была равнина неповторимой белизны, а стоявший недавно на ней чум, в котором он родился, уже лежал на нартах.
В середине дня партия Хмелькова со всеми оленями и нартами свернула на север, к руслу реки Ево-Яха, а мы с Пяком, оставив воргу, поехали прямиком дальше на запад, в партию Моргунова.
Тихо бегут олени по скованному ночным заморозком насту. Пяк уверенно направляет их, ориентируясь по еле заметным признакам. Он заранее объезжает участки бугристой тундры и те места, где слабый наст. Мы едем то по озеру, то по еле заметным гривкам или пологим северным склонам долин. Озера легко угадываются по невысоким обрывистым берегам, травяные болота по совершенно плоским участкам, где из-под снега торчат редкие стебельки жёлтой осоки. Снег сливается на горизонте с серым северным небом, и глазу не на чем остановиться. Только наши олени, нарты и мы сами словно плывём на запад в безбрежном океане, оставляя за собой отпечатки оленьих копыт и следы нарт. Я подолгу сижу с закрытыми глазами. В них словно попал песок, они слезятся, и мне кажется, если я буду и дальше смотреть на эти сверкающие миллиарды снежинок, то ослепну. Пяк ещё утром надел самодельные очки. Вместо стёкол в них были деревянные полукруглые пластинки с узкими горизонтальными щелями.
Мы сидим и молчим. Но вот, проезжая по озеру, Пяк резко остановил оленей.
– Там олень ушёл, – показал он хореем на север.
Я посмотрел в указанном направлении, но, кроме белых бугров – гидролоколитов, – ничего не увидел.
– Вот смотри, – показал он на снег рядом с нартами.
– Это волки бежали? – спросил я, увидя следы на снегу.
– Их оленя погнали туда. – И он снова махнул хореем в том же направлении. Но следов оленя я нигде не увидел.
– Его так оленя гоняет! – И, вскочив на нарты, ненец погнал упряжку по волчьим следам.
Поднявшись с озера на берег, мы увидели и следы оленя. Пяк погнал упряжку изо всех сил, а следы всё дальше и дальше уводили нас в сторону. Теперь видно было, что олень иногда проваливался, но снова выскакивал на наст и уходил от погони. Наши олени стали уставать, от них повалил пар, и я предложил Пяку прекратить погоню. Но он, не оборачиваясь, ответил:
– Скоро его халмер будет.
И действительно, преследуемый олень всё чаще и чаще проваливался в снег, оставляя на острой корке наста отпечатки шерсти и крови.
– Его шибко ноги ранил, совсем халмер будет, – пояснил каюр, показывая на пятна крови.
Обогнув огромный гидролоколит, мы увидели волков, сгрудившихся вокруг оленя, видимо ещё живого, так как волки то отскакивали, то снова набрасывались на жертву. Пяк остановил наших испугавшихся оленей и, схватив карабин, стал стрелять в волков. Я последовал его примеру. Волки, не желая расставаться с добычей, не убегали. Но вот один из них пополз на брюхе в сторону, еле волоча ноги. Тогда, поняв наконец опасность, волки кинулись в разные стороны. Наши олени упирались и не хотели идти дальше, и только когда звери были совсем далеко, мы подъехали к растерзанному животному. Я пристрелил смертельно pаненнoro волка, а Пяк стал снимать с оленя шкуру и разделывать мясо. У оленя было перегрызено горло и вырвано мясо на задних ногах. Опоздай мы ещё минут на пять – от него, кроме рогов и костей, ничего бы не осталось. Погрузив на нарты шкуру и часть мяса, не повреждённого волками, мы зарыли все остатки поглубже в снег и поехали по своему маршруту дальше на запад.
Уставшие олени бежали тише, часто шли шагом. Наст за день ослаб и во многих местах не выдерживал их веса.
Добравшись до узкой долины, по которой, должно быть, летом протекал небольшой ручей, мы увидели на самом её дне редкий чахлый лесок.
– Олень не терпит, чай надо пить, – решительно заявил Пяк, останавливая упряжку.
Я разгрёб снег, а Пяк развёл костёр и повесил над ним котелок. Когда снег растаял, ненец бросил в воду несколько кусков мяса, а я добавил соли.
Олени стояли, понурив головы, потом легли. Мне было жаль животных, ведь они до конца пути будут голодными – пастбища здесь не было, да и на поиски под снегом ягеля нужно много времени.
Закусив сочным мясом, мы ещё долго сидели у костра. Потом снова поехали на запад.
К вечеру мы уже увидели на горизонте полоску леса. Но неожиданно навстречу нам стали надвигаться чёрные тучи. Быстро темнело. Олени еле плелись и часто останавливались – Пяк был хорошим каюром и жалел их. Посреди тундры нас окутала тьма, и мы словно растворились в чернилах. Уже не видно было оленей, и только тяжёлые вздохи их да поскрипывание полозьев среди абсолютной тишины напоминали, что они рядом и мы куда-то едем.
Мне было непонятно, как Пяк ориентируется без дороги, без ветра, в кромешной тьме.
– Может, переночуем? А то заблудимся, – предложил я ему.
– Терпит, терпит, скоро палатки будут, – успокоил он.
Ехали ещё час. Мне не раз казалось, что мы движемся назад, а то куда-то в сторону.
– Дым пахнет, – сказал каюр.
Я стал усиленно тянуть носом, но дыма не почуял.
Ехали ещё долго, и вдруг до нас донёсся лай, а потом я увидел вылетавшие из трубы искры. Нарты круто покатились под гору и остановились.
Было уже заполночь, в лагере давно все спали, но собаки неистовым лаем разбудили людей и в одной палатке появился свет, проникая через полотно. Вышедший из палатки человек мелькнул в полосе света и снова исчез в темноте. Только по голосу я узнал, что это был начальник партии Моргунов. Ноги мои от непривычки к долгой езде затекли, и я, кое-как разминаясь, доковылял до палатки.
После темноты даже керосиновая лампа слепила глаза, утомлённые за день сверканием снегов.
– Не ждали? – спросил я Моргунова.
– Почему же? Мы начальству всегда рады, – возразил он. – Сейчас накормим. Устали, наверно.
Кроме Ивана Ивановича, в палатке спали ещё двое, и, как мы ни старались говорить потише, они проснулись. Первым вылез из спального мешка старший инженер партии Лавров. Недавно в Уренгое он отпраздновал своё пятидесятилетие, но его силе и выносливости завидовала молодёжь. Это был железный человек. Даже его лицо с резкими чертами, загорелое и обветренное, казалось отлитым из бронзы. Лавров крепко пожал мне руку и подбросил в потухшую железную печку сухих дров; сам он, видно, не замечал холода, хотя был в одной рубашке. Третьим в палатке был радист Чертков, недавно списанный с торгового судна; он упросил взять его в экспедицию и заслать как можно дальше, где нет водки и других соблазнов.
– Почему так задержались? – спросил Лавров, раскуривая трубку.
– Да вот оленя Пяк догонял. – И я рассказал историю с волками.
– Это, наверное, наш олень, мы его три дня назад в тундре бросили, он ложился и не мог идти, – пояснил Моргунов.
– Может, и ваш, – согласился я. – Завтра оленеводы по шкуре узнают. А Пяк им всё расскажет.
Спать легли, постелив на пол брезент и оленьи шкуры, когда уже начало светать. У меня болели глаза, и я долго ещё ворочался, вспоминая события длинного дня.
– С чего же нам начать? – спросил меня утром Лавров.
– Начинайте обстраиваться, – посоветовал я ему и Моргунову. – Если есть подходящий лес, стройте дом, склад, баню.
– А как же с трассой? Ведь с первого мая, по приказу, нужно начинать изыскания, – забеспокоились они.
– Что же вы в таком снегу будете мучиться? – посмотрел я на них.
– Да, снегу много, ещё не таял, – подтвердил Лавров.
– Лыж хватит? – повернулся я к завхозу.
– У всех по одной паре, четыре уже сломаны, – ответил он.
После короткого обсуждения решили в первую очередь заняться строительством, – а чтобы застраховать себя от неприятностей за неисполнение приказа, Лавров в это время проложит километров пять хода со съёмкой местности по долине реки Ево-Яха.
Мы ещё раньше все пришли к единодушному мнению, что трассу для железной дороги на таком огромном пространстве можно правильно проложить, только имея хорошие карты. Таких карт не было. Имевшаяся у нас миллионка была неточная, с белыми пятнами, на ней даже реки были показаны пунктиром. Ещё в Салехарде мы считали самым разумным сделать съёмку местности с самолётов и из отдельных снимков составить фотосхемы всей местности, чтобы легче было выбрать направление железной дороги. Но съёмку делать было бесполезно: ведь нужно знать, где болота, озера и участки бугристой тундры, а сейчас всё было покрыто снегом.
– Пойдёмте посмотрим долину Ево-Яхи, – предложил я.
Встав на лыжи, Лавров, Моргунов и я отправились вверх по долине. Моргунов, к моему удивлению, ходить на лыжах не умел, и ему пришлось скоро вернуться в лагерь. Дальше мы шли вдвоём с Лавровым. Я старался меньше смотреть на снег, а иногда надевал деревянные очки, сделанные для меня Пяком.
До истоков реки было километров сорок, конечно, за день мы не успели бы туда дойти и вернуться. Поэтому решили пройти хотя бы половину расстояния.
Русло шириной в пятнадцать—двадцать метров было извилистым. По берегам рос кустарник в рост человека. На пойме встречалась низкорослая лиственница, чахлые карликовые берёзки. Во многих местах река поворачивала в тундру, и там берега были ещё круче и выше, вода их подмывала, по складкам снега угадывалось сползание грунта. Встречались следы песцов, зайцев, а куропатки своими мохнатыми лапками буквально испещрили весь снег; видимо, они слетались в этот лесной уголок с огромного пространства, мы то и дело поднимали их стаи.
Пройдя километров десять, мы увидели в двухстах метрах от леса трёх диких оленей. Они старательно разгребали копытами снег, лакомясь ягелем. Олени были крупнее и стройнее домашних и так ловко работали передними ногами, что снег далеко летел от них. Мы стояли не двигаясь, скрываясь за стволами лиственниц. Но стоило нам выйти на открытое место, как они насторожились и, закинув рога на спину, стремглав понеслись в открытую тундру.
Куропатки здесь были совсем не пуганые, они улетали только тогда, когда мы подходили к ним на тридцать—сорок метров.
Осмотрев долину и наметив места, где примерно пройдёт трасса железной дороги, мы к вечеру возвратились домой.
Прожив ещё день в партии, чтобы отдохнули олени, мы с Пяком в ночь на 30 апреля выехали обратно в Уренгой. Я теперь был уверен, что Пяк в темноте не заблудится, а ехать ночью по крепкому насту лучше, чем днём, когда припекает солнце.
Убрав по-праздничному палатки и накрыв большой стол, мы отпраздновали Первое мая. Весна всё ещё не приходила. Только в начале июня резко потеплело.
Но какая в Заполярье капризная весна! Накануне ярко светило солнце, было тепло. Вода в реке продолжала прибывать, и нам пришлось вытащить самолёты со льда в посёлок. Появились забереги. Днём летели стаи уток, гусей, прилетели лебеди, над рекой стоял шумный гомон птиц, но к вечеру они неожиданно повернули обратно на юг. А ночью хватил мороз, заливы и забереги покрылись ледком. Не успевшие отлететь на юг пернатые метались вдоль реки, ища открытую воду, и летели в тундру на озера, надеясь найти там пристанище.
Но вот через день солнце вновь стало припекать и снова появилась полая вода на реке и в заливах. Теперь уже днём и ночью летели с юга птицы – лебеди и гуси повыше, утки бреющим полётом над водой. И каких только пород нет в этих полчищах! Летели чирки, черледи, вострохвостки, шилохвосты, пеструшки, крахали, широконоски, гоголи, нырки, сиязи, серухи. С пронзительным криком летели гагары. Словно со всего света слетались сюда несметные стаи уток разнообразных цветов и оттенков. Они вернулись с юга на свою полярную родину, чтобы вывести здесь потомство и осенью вместе с ним улететь на юг.
Данила Васильевич уже вторые сутки сидел в скрадке, у залива, рассадив на воду своих крашеных уток. Оттуда часто доносились выстрелы. Мы с Волоховичем тоже пошли вверх по реке, чтобы поохотиться. Даниле Васильевичу мы решили не мешать и остановились у ближайшего залива, где по берегам была старая трава и куда часто садились стаи. Нам везло. Одни птицы садились на полую воду залива отдохнуть, другие подплывали к траве подкормиться, чтобы потом лететь дальше к самым северным широтам. Мы старались стрелять из своих укрытий так, чтобы убитые утки падали на берег или на мелкое место. Я подстрелил уже с десяток уток, а они, несмотря на поздний час, всё летели и летели. Солнце давно висело над самым горизонтом и, словно нехотя, спускалось за него, продолжая освещать землю бледным светом.
Мы уже собирались уходить, как в поблекшем небе показалась небольшая стая лебедей. Развернувшись над нами, они, перекликаясь между собой, стали снижаться к заливу, где был скрадок Данилы Васильевича. Сделав несколько кругов, они опустились у самого скрадка, и в это время ударили один за другим два выстрела и летевшая в самой середине стаи птица стала падать. Она пыталась ещё бороться, но рана, видимо, была смертельной, и, ещё раз взмахнув крыльями, она камнем упала к шалашу Данилы Васильевича. Вся стая взмыла вверх и полетела прочь. Только один лебедь, отбившись от стаи, кружился над тем местом, где упала, видимо, его подруга. Мы уже дошли до фактории, а над рекой среди тишины бледной весенней полярной ночи всё ещё раздавались его призывы. Мне было не по себе, я был зол на Огурцова: ведь уток и гусей было так много, что стрелять лебедей было хуже озорства.
На берегу нас встретила Марина, видимо давно следившая за нашей охотой, мы пошли к ней. Васса Андреевна ещё не спала, и нам удалось уговорить её приготовить ужин.
Пока теребили уток, пришёл и Данила Васильевич, волоча два мешка, набитых птицей. Но Васса Андреевна встретила его не так, как встречают удачливого охотника.
– Зачем убил? – процедила она сквозь зубы.
– Чего убил? – пробурчал муж.
– Лебедя, говорю, зачем убил, – повернулась она к нему.
– Сам на мушку налетел, вот и пальнул, – оправдывался Данила Васильевич.
– И подумать только! – Васса Андреевна хлопнула себя по бёдрам. – Ведь уток, и то бьёт только сидячих, из скрадка, а тут на тебе, влёт лебедя убил. Накажет тебя бог, ирода, отнимет у тебя последний глаз.
– Ладно, боле не буду, – пробурчал Данила Васильевич.
– Неси, куда хочешь, и чтоб твоей ноги в доме не было. Иди в свой скрадок, – заключила Васса Андреевна и отвернулась от мужа.
– Я ведь думал, лебяжий пух лучше, – заикнулся было он.
– Замолчи! – топнула она ногой.
Данила Васильевич потихонечку, боком продвинулся к столу и стал торопливо есть. Видно, очень уж был голоден, если не обращал внимания на грозные взгляды жены. Допивая чай, он поспешно сказал дочери:
– Верка, положи в котомку шанег, пойду в скрадок, а то утренний перелёт прозеваю.
Он быстро собрался и, не говоря больше ни слова, ушёл.
Чтобы не повторялось таких печальных случаев и в экспедиции, я тут же написал радиограмму всем партиям, категорически запретив охоту на лебедей.
Через два дня я оборудовал свою палатку, чтобы переселить в неё Марину. Но, узнав о нашей свадьбе, пришёл заведующий метеостанции и предложил мне занять маленький ветхий домик, стоявший на окраине фактории, у берега залива. В нём помещалась радиостанция, а сейчас ему удалось договориться с бухгалтером колхоза перевести её в правление. Я был рад этому предложению, и мы с Волоховичем и Ольгой навели в доме порядок.
Началась наша жизнь в этом маленьком, ветхом домике. Вещей у нас почти не было: у Марины два платья и костюм, а у меня одна рабочая одежда. Ни обстановки, ни домашнего уюта.
Марина села на жестокий топчан, покрытый спальным мешком, и засмеялась.
На Пуре был ледоход. Огромные ледовые поля медленно двигались на север, то и дело создавая заторы. Льдины толщиной в метр лезли на берега, становились на дыбы, с грохотом ломались.
А вода всё прибывала. Она переполнила озера и болота вокруг фактории, и мы жили на островке. Уже много дней нас не посещала ни одна оленья упряжка. Только по радио поддерживалась связь с Салехардом и изыскательскими партиями. По радио мы узнали, что в Надым всё же успели до распутицы пройти тракторы, а за ними и колонна автомашин. Теперь тракторы корчевали в Надыме лес, ровняли землю.
Нужно было приниматься за дело и нам. Долго раздумывать не пришлось. Единственным удобным для посадки самолётов было место рядом с факторией, а дальше, к тундре, начиналось болото.
Фактория стояла на высокой прибрежной песчаной гряде, вытянувшейся вдоль реки метров на триста и достаточно широкой. Гряда обрывалась с одной стороны заливом, а с другой – глубоким оврагом. Когда земля немного оттаяла, мы начали жечь и корчевать вагами пни, а потом засыпали все неровности землёй, утрамбовывали её тонкими слоями. На площадке до глубокой ночи раздавался весёлый говор и смех. Расходились по домам и палаткам, лишь когда солнце касалось горизонта, зная, что наступила полночь. Пятнадцать дней метр за метром ровняли мы площадку; здесь, на Севере, где земля сплошь покрыта дикой тундрой или угрюмым лесом, она казалась нам уголком цивилизованного мира. И вот наконец, когда у всех уже сплошь покрылись мозолями ладони, а спины не разгибались, Волохович первого июля взлетел на ПО-2, увозя двух больных рабочих. Вечером он вернулся с почтой для всего обширного района и для нас. С этого дня самолёты стали летать в партии, сбрасывая им прямо к палаткам недостающее продовольствие, снаряжение и почту.
До 20 июля ещё удерживалась прохладная погода, но вот в лесу растаяли последние островки снега – и наступило полярное лето. На деревьях набухали почки, пробивались листья, зеленела трава, появились цветы.
В ночь на 20 июля все жители фактории не сомкнули глаз. К вечеру стал накрапывать тёплый дождик. Раз-другой блеснула молния, и гроза, прогрохотав над тундрой за рекой, перекинулась дальше к северу, прорезая там чёрные тучи огненными стрелами, словно извещая, что и в Заполярье наступила летняя пора. Была удивительная тишина. Ни один лепесток не шелохнётся на деревьях, словно всё живое, удивляясь, замерло в этот первый летний вечер.
Мы сидели с Мариной, наслаждаясь тишиной тёплой белой ночи. Но вот около уха пропел комар, за ним другой, и вскоре нам пришлось от них спасаться в домике. Однако комары и здесь не давали покоя. Ложась, я плотно закрыл дверь и окно, но они пробирались в щели. С каждой минутой комариный зуд нарастал и вскоре превратился в сплошное гудение. О сне нечего было и думать. Я выскочил из-под одеяла и, кое-как одевшись, развёл дымокур. Комната наполнилась дымом, комары опустились к самому полу, но не улетали. Марина, задохнувшись в дыму, сквозь слезы просила убрать костёр подальше. Когда дым рассеялся, комаров стало ещё больше. Крупные и рыжие, они с яростью набрасывались на нас. Не выдержав их натиска, Марина побежала к костру. Мы стояли в клубах дыма и хлестали себя ветками. У всех домов и палаток, как у нас, один за другим поднимались столбы дыма. Но вдруг, несмотря на болезненные укусы, нам почему-то стало смешно, и, спасаясь от злых насекомых, мы побежали к дому Вассы Андреевны. Там тоже горел костёр. Васса Андреевна, закутанная в одеяло, хлестала себя по голым ногам веником, Данила Васильевич у костра мазал дёгтем лошадь; бедное животное мотало головой, било хвостом и лезло в клубы дыма.
– Говорила тебе: не сегодня-завтра навалятся они, распроклятые! – сонным голосом выговаривала Васса Андреевна. – Так нет, только и знаешь, что бегать с ружьём, мучься с тобой теперь.
Данила Васильевич был уже в накомарнике и плаще, даже на руки надел рукавицы, перевязав их бечёвкой вместе с рукавами плаща. На нём сидело столько комаров, что вся его одежда казалась коричневого цвета. Кончив мазать мерина, он полез на чердак и, достав оттуда пологи, пошёл в дом.
– Комаров-то стряхни с себя, – крикнула ему Васса Андреевна, – а то полон дом натащишь!
Я взял веник и стал сметать с Данилы Васильевича комаров. Веник сразу стал грязным. Мы повесили над кроватями пологи и, выгнав из-под них комаров, позвали женщин. Васса Андреевна уговорила Марину переночевать с Верой под пологом, а мы с Данилой Васильевичем пошли к костру. Он снова принялся мазать мерина дёгтем, а я подложил дров и, чтобы было больше дыму, навалил сверху мусор.
После этой ночи я понял, почему ненцы на всё лето угоняют оленей к самым северным широтам, где холоднее и постоянно гуляет ветер. Олени с трудом переносят такое множество гнуса, болеют, а многие, не выдержав мучений, гибнут.
Только здесь, у Полярного круга, можно понять, какой это страшный бич для всего живого. По сравнению с этими комарами дальневосточная мошка не страшна.
Пасмурная погода с тёплыми дождями и грозами неожиданно сменилась жарким летом. Даже комары днём куда-то прятались. В один из таких жарких дней Марина заметила плывущую вниз по Пуру к фактории лодку. И как же мы удивились, когда встретили доктора Нину Петровну! Все были рады ей, а Марина так и бросилась в её объятия. Оказалось, что она уже давно плывёт из районного центра Тарко-Сале и по дороге посетила много чумов. Одета она была по-дорожному – в чёрные шаровары и куртку из замши. На голове был накомарник с волосяной сеткой, а на ногах – унты из гладкой кожи.
Пока мы с Волоховичем вытаскивали лодку, Нина Петровна растирала ноги, затёкшие от долгого и неудобного сидения в маленьком судёнышке. Белая шея Нины Петровны, резко отличавшаяся от бронзового, загорелого лица, была покрыта множеством мелких ранок от комариных укусов.
Здесь же, на берегу, Нина Петровна попросила меня организовать назавтра медицинский осмотр для всех работников экспедиции.
– А сегодня я займусь местным населением, – добавила она, поднимаясь на крутой берег.
Мы с Волоховичем забрали из лодки её нехитрый врачебный скарб с медикаментами и отнесли в наш домик.
Вода в Пуре убывала, обнажая огромные песчаные косы. На одной из них, выше фактории, Волохович выбрал место для посадки больших самолётов. Песок там был настолько плотный и ровный, что лётчикам оставалось только выложить посадочные знаки. Самолёты теперь прилетали из Игарки и Салехарда, делали съёмку местности и доставляли нам из фотолабораторий снимки и фотосхемы, которых мы с нетерпением ждали. С утра до ночи Болотов, Мальков и я сидели над снимками, изучая через стереоскопы местность, расшифровывая фотосхемы. Площади ягелевой тундры на них выглядели более светлыми, бугристая тундра темнее, а озера и реки совсем чермными. Мы научились читать эти фотосхемы так же легко, как любую карту.
Выбирая направление железной дороги на огромном пространстве, мы старались проложить её по долинам рек и ягелевой тундре, где местность не изрыта буграми пучения; судя по неоднократным исследованиям Болотова, грунт в таких местах почти всегда был песчаный.
На фотосхемах, составленных из отдельных снимков, километр за километром ложилась проектируемая железная дорога. После тщательного исследования каждого снимка они вместе с фотосхемами отправлялись в партии, куда их сбрасывали с самолётов. Получив такие материалы, наши изыскатели легко ориентировались на местности, прокладывая трассу. По этим же материалам наметили места строительства мостов через реки Надым и Пур, разместили станции и разъезды. Неясным оставался только мостовой переход через реку Таз, который должна была выбирать соседняя Енисейская экспедиция. По условиям местности их участка её руководители наметили строительство моста ниже устья реки Кыпа-Кы. По условиям же нашего участка трассу следовало прокладывать по правому берегу реки Варка-Сыль-Кы, на чём настаивал в радиограммах и Рогожин. Если будет принят вариант Енисейской экспедиции, то Рогожину нужно будет прокладывать трассу к Тазу по совершенно голой равнине, усеянной болотами, озёрами и бугристой тундрой, где совершенно нет леса и нет даже земли, пригодной для отсыпки насыпи.
Но Мальков стоял за вариант Енисейской экспедиции. Он брал линейку, делал вычисления, складывал цифры...
– Уважаемые товарищи, – (мы понемногу отучили его говорить «коллеги»), – ведь он короче варианта по Варка-Сыль-Кы на целых пять километров, – доказывал он. – А это в будущем даст большую экономию. Ведь каждый поезд будет проходить быстрее.
– А как и чем полотно дороги будем отсыпать, об этом вы подумали? – возражал ему Болотов. Вы видите, что делается на снимках? Одни болота да бугры пучения. А на них песочку не найдёте.
– Вы там ещё не были, – отмахивался Мальков.
– Я по фотоснимкам вижу. Был бы песок, так был бы и ягель или хоть какая-нибудь растительность, а здесь одна чернота, – ткнул главный геолог в фотосхему.
– Уважаемый товарищ! Не будьте так уверены. А в крайнем случае, если песка нет, людей хватит, чтобы любым грунтом отсыпать насыпь носилками.
– Да пойми же ты наконец! – вспылил геолог. – Такая земля, как там, наполовину смешана с водой и на носилках держаться не будет.
– На такой случай ведра есть, ими землю и с водой можно таскать, – невозмутимо возразил главный инженер.
– Вас бы заставить таскать, не то бы вы запели, – обозлился Евгений Петрович и отвернулся от Малькова.
– Вы, Лазарь Тимофеевич, не учитываете ещё одного очень важного обстоятельства, – вмешался я с возможным и, кажется, удавшимся мне спокойствием. – Ведь на железной дороге поселятся люди. Им, конечно, в лесу и у речки лучше будет, чем в тундре, где зимой метели, а летом не просыхает земля.
– Ну что же, с этим я отчасти согласен, – сказал он.
– А почему только отчасти? – вновь вмешался главный геолог.
– А потому, что наш героический советский народ нельзя запугать ни тундрами, ни метелями, – срезал его Мальков.
– Верно, – остановил я Болотова, готового снова вскипеть. – Но если бы вас, Лазарь Тимофеевич, назначить начальником станции вот сюда, где вы наметили станцию... Согласились бы вы прожить там хоть годика два? – посмотрел я на него.
– Не понимаю, при чём тут я? – пожал он плечами.
– Да так, к слову пришлось. А вообще, как говорит Татаринов, не мешает иногда ставить себя в положение тех людей, которые будут строить или эксплуатировать дороги по нашим проектам.
Мы помолчали.
Мне неприятно было разговаривать с главным инженером, и я не мог понять, кто он и чего хочет...
Но мне хотелось прийти к единодушному мнению, чтобы легче было отстоять вариант по долине реки Варка-Сыль-Кы.
Мальков походил вокруг стола и как-то нехотя сказал:
– Если в инженерном деле считаться со всеми, то лучше не быть инженером.
– С чем же инженер должен считаться? – посмотрел я строго на него.
– Только с цифрами, – совсем мрачно заявил он.
– Эх, Лазарь, Лазарь, не то мелешь... – вздохнул Болотов. – Надо бы тебе годок-другой на строительстве поработать, да и на эксплуатации не мешало бы побывать, тогда бы другой из тебя проектировщик вышел.
Малькова мы так и не убедили. А на другой день нас вызвал Татаринов на реку Таз, куда должен был прилететь и он сам. Там, как у нас на Пуре, был организован Борисовым аэродром на песчаной косе, и мы вылетели втроём на двух самолётах.
Рогожину я ещё накануне дал радиограмму, чтобы он спустился на лодке в устье реки Варка-Сыль-Кы.
Мы с Болотовым летели на самолёте Волоховича, Мальков летел с Юркиным. По дороге сбросили почту в партии Абрамовича и Амельянчина. Волохович низко кружился над их палатками, но многих я не мог узнать – так люди обросли бородами.
Рядом с белыми палатками у дымокуров стояли и лежали олени. Обе партии расположились у небольших речек, вблизи оленьих пастбищ – ягелевой тундры.
Пролетев над плоским и незаметным водоразделом рек Пур и Таз, сплошь усеянным озёрами, мы попали в бассейн реки Варка-Сыль-Кы. Вначале соединились два небольших ручейка, потом притоки один за другим с обеих сторон стали впадать в них, образовав довольно широкую речку.
А вот и палатки Рогожина. Волохович снова снизился и пошёл бреющим полётом метрах в пятидесяти от земли. Сбросив почту и убедившись, что Рогожина в лагере нет, Волохович помахал крыльями и пошёл дальше, вниз по реке. Варка-Сыль-Кы здесь была извилиста, со множеством староречий и заливов, сливавшихся с озёрами.








