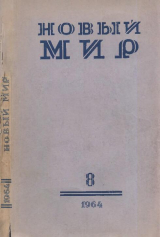
Текст книги "Мёртвая дорога"
Автор книги: Александр Побожий
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 10 страниц)
Вначале на меня как-то угнетающе подействовала убогая обстановка чума, но тут же я подумал, что ведь каждая лишняя вещь будет обузой у вечно кочующих вместе с оленями жителей Севера. Чум не может долго стоять на одном месте, и как только олени съедят вокруг него ягель, нужно переезжать.
Хозяин оказался родственником Герасима. Герасим ему что-то объяснял по-ненецки. Все другие ненцы качали головами, о чём-то сокрушаясь. Я догадался, что речь шла о встреченных нами людях, приехавших в их родную тундру: их боялись.
Мы сидели с Рогожиным в общем кругу с ненцами у очага, не мешая их разговору. Но вот хозяйка сняла котёл, и разговоры стихли, собаки подались ближе. Хозяин дал нам с Рогожиным по большому куску мяса. Мы не знали, куда эти куски положить, и держали в руках, обжигая пальцы. Потом нам подали по охотничьему ножу и, не обращая на нас внимания, стали есть мясо сами. Они захватывали его зубами и у самых губ отрезали ножом куски. Они так быстро действовали ножом, что мне казалось, что вот-вот кто-нибудь из них обрежет себе губы. Но эти опасения были напрасны: они действовали так ловко и так быстро, что не успели мы съесть и половины, как они уже бросали объеденные кости собакам.
Кое-как справившись с необыкновенным ужином, я достал пачку папирос и стал угощать хозяев. Сразу несколько рук потянулось к коробке.
Я удивился, когда увидел, как мальчик лет восьми, взяв папиросу с ловкостью заправского курильщика, глубоко затянулся. Вначале я думал: он задохнётся и бросит. Но он преспокойно курил наравне со взрослыми, и сидевшая с ним рядом мать, тоже курившая, замечаний ему не делала: ненцы начинали курить с детства. Хозяин, выкурив папироску, достал лист табака и, растерев его вместе с древесной стружкой, заложил за губу. Его примеру последовал и Герасим. Через минуту оба они стали сплёвывать жёлтую табачную слюну в очаг.
После трудного пути хотелось спать. Видя наши сонные лица, хозяйка бросила нам две оленьих шкуры, на которых мы расстелили свои меховые мешки.
Утром я проснулся от завывания ветра. В чуме было холодно, в углу кто-то кашлял. Кутаясь в спальном мешке, я прислушался, как порывы ветра сотрясают ветхое жильё.
Рядом со мной что-то зашевелилось, я протянул руку: её лизнули. Я погладил пригревшуюся у моего бока собаку и, встав, подбросил в очаг дров. Поднялся и Герасим.
– Шибко пурга, однако, будет, – сказал он, зябко поёживаясь в малице.
– Что же делать будем? – спросил я.
– Чуме сидеть будем, чай пить будем, мясо кушать будем, потом спать будем. Тундра пургу шибко плохо, пропадай можно, чуме совсем хорошо, – заключил он.
Когда стало светать, ненцы подогнали своё стадо оленей к чумам, на опушку леса, и стали таскать дрова. Разгулявшийся ветер дул со стороны леса – чумы были от ветра прикрыты.
Непрерывно валил снег. Его крутило, подхватывало воющим на разные голоса ветром, несло от леса в тундру, где в море снега бушевал хаос.
Когда можно будет ехать обратно?
Поняв на вчерашнем примере безнадёжность передвижения экспедиции на оленях, мы с Рогожиным отказались от поездки дальше к Надыму.
Мы ходили из угла в угол по чуму – вернее, по кругу, так как чум не имеет углов, – подсаживались к ненцам, расспрашивали их о крае, где скоро пройдёт железная дорога. Ненцы качали головами, ахали и не верили, что из Салехарда через тундру, где с трудом проходит олень, пройдут большие железные дома. Они не могли понять, что это такое – железная дорога, хотя Рогожин объяснял по нескольку раз, как устроено полотно, как перебрасываются мосты через реки и кладутся рельсы, по которым побегут поезда, и уверял, что до Енисея можно будет доехать за одни сутки.
– Есть дороги такие, есть, – поддержал Рогожина хозяин. – Я сам в кино видел, как люди в деревянных чумах ездят, а впереди железный чум с большой трубой и шибко свистит...
Утром взошло яркое солнце. Мы стали собираться в обратный путь. Нигде поблизости не было оленей. Ненцы внимательно всматривались в тундру, ища своё стадо, а мы сокрушались, что ехать не на чем. Но вот Герасим и хозяин чума что-то заметили и, крикнув собак, показали им направление. Собаки сорвались с места, помчались и вскоре потерялись из виду. Прошло немного времени, и послышался лай. Собаки гнали во всю мочь к чуму оленей, яростно набрасываясь на тех, что откалывались в сторону. Вскоре всё стадо собралось около чумов, а собаки, рассевшись полукругом, зорко охраняли их. Взяв аркан, Герасим с хозяином пошли ловить «олешек». Они искусно бросали на рога длинную тонкую верёвку с петлёй на конце, и вскоре упряжки были готовы к пути. Своих оленей Герасим оставил в стаде и взял свежих. Пришли сюда и брошенные нами по пути олени – им нужен был длительный отдых.
Мы выехали обратно в Салехард, имея уже какое-то представление о тундре и оленьем транспорте.
2
В Салехарде мы узнали, что из Игарки возвратился Пётр Константинович Татаринов, начальник Объединённой северной экспедиции. Наша Надымская железнодорожная экспедиция, по приказу министра, входила в её состав. На изысканиях железной дороги Салехард—Игарка уже начали работать две экспедиции – Обская (от Салехарда) и Енисейская (от Игарки на запад). А пятьсот километров среднего, самого недоступного участка отводились нам.
Татаринова я знал давно как очень опытного руководителя, проведшего много изысканий железнодорожных линий на Дальнем Востоке, в Сибири и на Севере. Среди изыскателей и строителей железных дорог его знали если не все, то многие, и авторитет его был заслуженным. Мне хотелось поскорее посоветоваться с ним в надежде, что вопрос с переброской экспедиции решится как-то проще. Встав рано утром, я отправился к нему, но его ещё не было. Он с начальником строительства Барабановым до глубокой ночи просидел в окружкоме партии, где с ними был и заместитель министра Чернышёв.
– Ждите. Он сказал, что с утра обязательно будет у себя, – успокоила меня секретарша. – Кстати, он о вас спрашивал два раза.
Я сидел и ждал. В десять часов пришёл подполковник Борисов – командир авиации Северной экспедиции, давнишний мой приятель по Дальнему Востоку. Он летал вместе с Татариновым в Игарку и теперь пришёл тоже к нему.
– Значит, «трали-вали», говоришь, у тебя? – спросил Борисов, когда я рассказал ему о своих трудностях с переездом.
– Да, вроде того, – согласился я. – Может, своими самолётами меня выручишь? – задал я ему, кажется, совсем безнадёжный вопрос.
– Самолёты есть, а с аэродромами на трассе полный «тентель-вентель», – покачал головой командир. Он подошёл к карте Севера и позвал меня. – Вот смотри: только и есть у нас аэродромы в Салехарде и в Игарке. А посредине – ничего. Есть ещё вот зимняя площадка в Халмер-Седе4, но она много севернее, у самой Тазовской губы. Вот вся моя география.
– А мне вот надо сюда, – ткнул я пальцем в самую середину белого пятна, где маленьким кружочком была обозначена фактория Уренгой.
– Сюда не могу, – решительно сказал Борисов и добавил: – Ещё нет таких летательных аппаратов, чтобы садиться и взлетать без площадки.
Но я уже ухватился за мысль добираться до Уренгоя на самолётах и с этой мыслью не хотел расставаться.
– А в Халмер-Седе перевезёшь? – спросил я.
– Сказал перевезу – значит, перевезу, – подтвердил он.
– Тогда хорошо. Я полечу туда и возьму с собой ещё человек десять, – твёрдо сказал я.
– А вообще-то зачем тебе туда лететь, когда тебе нужно в Уренгой? – подумав, спросил Борисов. – Уж не на подлёдный ли лов осетров в Тазовской губе решил переключиться?
Пока мы смотрели на карту, у меня неожиданно возник план: долететь на большом самолёте с группой людей до Халмер-Седе, а оттуда добираться на оленях до Уренгоя. По карте между этими посёлками была ворга, и там не шестьсот километров, как от Салехарда до Уренгоя, а только около трёхсот. Но Борисову я сказал по-другому.
– А оттуда ты нас перевезёшь в Уренгой на маленьких бипланах, они хорошо садятся на лыжах.
– Здорово же ты, трали-вали, придумал меня объехать!
– Почему объехать? – удивился я.
– А потому, что залетим мы туда, горючего на обратную дорогу в Халмер-Седе не хватит, и будем мы там загорать. Не подойдёт!
– Да нет же, – возразил я. – Мы лётное поле расчистим на реке Пур, и вы к нам летать будете, а стало быть, и горючее для ПО-2 привезёте.
Я говорил уже с азартом, всё больше веря сам в то, что только что придумал.
– И послушай, Василий Александрович, – убеждал я Борисова, поправляя ему золотую звезду на груди. – Ведь если я не заберусь в Уренгой и не начну работать к первому мая, мне «трали-вали» по полной форме будет. А везти по тундре без дорог триста человек да пятьдесят тонн груза на такое расстояние, сам понимаешь, безрассудно. Люди могут замёрзнуть, груз будет брошен в тундре, на этом вся затея и кончится.
Я почти убедил Борисова. На дворе снова пошла завывать метель, а мы продолжали обсуждать план заброски экспедиции в Уренгой.
– Слушай, с кем ты собираешься площадку расчищать? – подумав, спросил Борисов.
– А десять человек, что со мной будут, а жители города Уренгоя? – уверенно ответил я.
– А знаешь ли, что в твоём граде всего четыре домика? – спросил он.
– Не может быть? – удивился я.
– Точно. Четыре, и крохотные, – подтвердил он. – Мы вчера, когда летели с Татариновым из Игарки, специально снижались, чтобы посмотреть на твою столицу.
На этом нас прервал Татаринов.
– Что громкие речи держите друг перед другом? – сказал он, войдя. – Давно не виделись, приятели?
Пожав нам руки, он сел за свой рабочий стол.
– Ну, когда в путь-дорогу? – спросил он меня.
– Да не знаю ещё, какой дорогой ехать, – уклонился я.
– Как не знаете? Есть постановление Совета Министров, подписанное товарищем Сталиным. Вашей экспедиции оленеводческие совхозы и колхозы должны выделить для переезда и для работы тысячу голов оленей. Реализуйте это постановление и поезжайте.
Он достал из сейфа папку с особо важными документами и прочитал этот пункт.
– Не добраться нам на оленях, – твёрдо ответил, я и рассказал о своих сомнениях в надёжности оленьего транспорта, о бездорожье и обо всём том, с чем познакомился в городе и в тундре.
Мои объяснения озадачили его, но он всё же настаивал.
– У страха глаза велики. Доедете! А мало тысячи оленей – дадим ещё пятьсот за счёт Обской.
– Дело не в счёте, Пётр Константинович, – стал я доказывать спокойно.
– А в чём же? – перебил он.
– А в том, что олени такого расстояния без дорог не пройдут.
– Тогда на тракторах поезжайте. Если нужно, и танки без орудийных башен можем достать!
Я показал сделанные Рогожиным расчёты, что тракторы на такое расстояние по тундре даже горючего для себя не провезут.
Эти доводы, кажется, совсем озадачили Татаринова. Он вышел из-за стола, распрямился во весь свой высокий рост, стал ходить по кабинету. Иногда он останавливался у окна, прислушивался к завыванию пурги и снова ходил, пощипывая коротенькие усики. Я смотрел на его седеющую голову и вспоминал Сталинград в феврале 1943 года. Тогда там тоже завывала метель, а мы в полуразрушенном деревянном домике праздновали победу и, кстати, отмечали пятидесятилетие Татаринова. Сейчас ему было уже пятьдесят шесть, но худощавая фигура и энергичное лицо с резкими морщинами скрадывали годы.
Походив, он остановился у карты и, не глядя на нас с Борисовым, спросил:
– Что же, до лета откладывать вашу заброску? – И, не дав мне ответить, продолжал рассуждать вслух: – Обская губа и Тазовская вскроются в июле, и тогда вы можете плыть по ним до устьев рек Пур и Таз. Но эта отсрочка совсем не годится. Ведь первыми пароходами поедут туда строители железной дороги, и к их приезду должна быть трасса, а вы, выходит, приедете вместе с ними. Нет, не годится! – решительно отвергнул он свои же соображения. Он сурово посмотрел на меня и сказал: – В постановлении Совета Министров о строительстве железной дороги Салехард—Игарка указаны сроки начала и окончания строительства, и никому из нас не дано права эти сроки изменять. Вы меня поняли?
– Яснее ясного, – ответил я.
– Ну так вот, думайте, как это выполнить. – И уже немного мягче добавил: – На заседании Совета Министров я заверил, что мы с поставленными задачами справимся и будем достойными пионерами самой большой в мире заполярной магистрали.
Последние слова Пётр Константинович сказал торжественно.
– У нас есть ещё один план. Разрешите доложить? – спросил я и подробно рассказал, о чём мы только что говорили с Борисовым.
Татаринов дослушал внимательно.
– Сколько нужно будет снега расчистить на площадке в Уренгое, чтобы садились самолёты ЛИ-2?
Я вопросительно посмотрел на Борисова.
– Поле должно быть километр длиной, сто метров шириной. Ну и в глубину там снега, видимо, лежит на метр. Так что в сто тысяч кубов уложатся, – подсчитал лётчик.
– Значит, по десять тысяч на брата, – зло заметил Татаринов. – Да ещё сколько наметёт, пока чистить будете. Ерунда! – рассердился он. – Подумайте до завтра. – И велел секретарю вызвать машину.
Ночью пурга немного утихла.
Утро мне ничего нового не принесло. Я всю ночь ворочался на топчане, прислушиваясь к завыванию ветра и думая, как уговорить Татаринова и Борисова забросить меня самолётом в Халмер-Седе.
Мне пришлось доказывать Татаринову, что в Уренгое я организую олений транспорт навстречу тому транспорту, который выйдет из Салехарда. Я заведомо врал, так как сам знал, что оленьего транспорта в Уренгое достать невозможно: мне ещё накануне сказали в окружкоме партии, что поделка нарт и упряжки займёт два-три месяца. Я только чутьём угадывал, что нужно быть на месте и там организовать всё, что возможно. С горячностью я настаивал на своём, и Татаринов, внимательно слушая меня, в конце концов сдался, но только потому, что и сам он, несмотря на свой огромный опыт, ничего другого предложить не мог.
Выйдя из кабинета Татаринова, я сразу бросился к телефону и сообщил Борисову, что полёт разрешён.
– Хорошо. Машины будут готовы завтра рано утром, – ответил Борисов. – А сейчас присылай свой народ аэродром чистить. Пусть тренируются.
Я собрал пятьдесят человек и пошёл с ними на лётное поле. Там уже тракторы разравнивали и укатывали снег. Нам оставалось только откопать занесённые пургой самолёты.
В день вылета я приехал на аэродром, когда было ещё темно.
Колючий ветер гнал по лётному полю позёмку в сторону города, очертания которого были еле видны сквозь снежную пелену. Командир самолёта ЛИ-2 Ганджумов – или, как его звали в отряде, Джамбул – посмотрел на проносившиеся рваные облака, на метеосводку, принесённую радистом, и велел готовить самолёт к вылету. Механик и моторист стали заводить моторы. Холодные, они вначале «чихали», выбрасывая клубы чёрного дыма, но, постепенно прогревшись, заработали ровно.
Вдесятером мы разместились в самолёте на холодных скамейках и ящиках со снаряжением. Ганджумов вырулил машину на старт. Проверив моторы на больших оборотах, он отпустил тормоза, и самолёт покатился по ровному полю, набирая скорость, навстречу ветру и метели. В окна было видно, как два ПО-2 выруливали со своих стоянок, чтобы лететь вслед за Ганджумовым.
Не отрываясь, я смотрел в окно – но там, кроме снега, ничего не было видно. Только иногда под крылом проплывали еле заметные понижения с чахлой растительностью.
Потом снежная пустыня стала совсем ровной, самолёт почти перестало бросать, и я понял, что мы летим над Обской губой. За губой раскинулась опять тундра, и через два часа полёта Ганджумов посадил ЛИ-2 в Халмер-Седе. Выгрузив снаряжение и бочки с бензином для ПО-2, он улетел обратно в Салехард.
Ветер заметно усилился. Когда через полтора часа прилетели ПО-2, их сразу же пришлось привязывать тросами на стоянках, чтобы не опрокинуло.
Кое-как разместив сотрудников экспедиции и экипажи самолётов, я пошёл в поселковый Совет. За столом, покрытым красной материей с пятнами чернил, сидел пожилой ненец. Он курил трубку и не обратил на меня никакого внимания. На моё приветствие он ответил: «Ладно», – и отвернулся.
– Мне нужно видеть председателя Совета, – обратился я к нему.
– Его уехал, – последовал лаконичный ответ.
– А когда будет? – допытывался я.
– Моя не знает.
Говоря о погоде и расспрашивая о дальнейшем пути следования экспедиции в Уренгой, я немного заинтересовал ненца. На вопрос, можно ли достать оленьи упряжки, чтобы доехать до Уренгоя, он ответил:
– Нашем месте нет, а совхоз Самбург шибко много есть. Наш олень совсем плохой, ездить не терпит, – добавил ненец. Потом он достал из кармана малицы горсть табака и, заложив за нижнюю губу, отвернулся от меня, уставившись в замёрзшее окно.
Видя, что ненец явно тяготится моим присутствием, я вышел и направился в дом, где разместились сотрудники экспедиции. В доме было настолько холодно, что снег на валенках не таял. Лётчик Миша Волохович растапливал печку. Дрова из собранного плавника были сырые и не горели. Миша толкал в печку старую резину, подливал отработанное масло. В комнате было дымно и противно пахло жжёной резиной.
Разогрели кое-как и съели консервы, не снимая с себя меховых костюмов. Стало теплее. Лётчики заставили выпить разведённого спирта и радистку Марину, единственную девушку в нашей группе, впервые попавшую на изыскания, да ещё в Заполярье.
В первый раз она и на самолёте летела. Когда Марина ещё только поднималась по лесенке в самолёт – она чуть не дрожала от страха. А в воздухе, когда ЛИ-2 бросило вниз, Марина закричала: «Ой, падаем!» – и вцепилась мне в руку. Все засмеялись, а проходивший мимо бортмеханик, посмотрев на неё, ехидно улыбнулся. Я объяснил ей, что это воздушная яма и ничего тут страшного нет. От обиды и стыда у Марины на глазах выступили слезы, и она, закусив губы, уткнулась в окно.
Постепенно страх проходил, Марина стала рассказывать мне о доме, о тех, кто остался в Сибири, в Иркутске, о родных. Вспомнила, как плакали мама и бабушка, не отпуская её одну в такой далёкий путь, и только папа принял её сторону и убедил их, что она уже не маленькая, ей двадцать лет и пора быть самостоятельным человеком.
– Когда тронулся поезд, – рассказывала Марина, – я видела, как заплакала мама, а отец её успокаивал. Я тоже заплакала. Но подумать только! Мой дед ещё ездил в Салехард-Обдорск на собаках, а теперь мы летим на самолёте! Вот прилетим, сразу напишу своим, – сказала она.
Но как ни храбрилась Марина, она с облегчением вздохнула после того, как самолёт уже приземлился, и честно сказала, что, когда машина снижалась, ноги у неё совсем отнимались от страха. Пока Миша растапливал в комнате печку, она ходила из угла в угол, стараясь согреться, потом пошла натягивать антенну. Мне сразу понравилась эта девушка с весёлыми, насмешливыми глазами. Но, конечно, я тогда не думал, что Марина будет моей женой и матерью моих детей. Ей было двадцать, а мне тридцать три.
Ночью пурга стихла. Утро было морозное, воздух чистый и прозрачный. Насколько хватал глаз, были видны равнина тундры и Тазовская губа, покрытые белым снегом. Они казались округлыми и терялись за снежным горизонтом. Волохович вёл самолёт по прямому курсу через тундру, на совхоз Самбург. Рогожин и я сидели согнувшись в тесной кабине. Через сорок минут показались очертания берегов Пура, а вскоре и посёлок. Самолёт, снизившись, сделал несколько кругов. Из домиков выбегали люди, они суетились, махали руками. Лётчик, приглушив мотор, обернулся к нам и крикнул:
– Где будем садиться?
– Пробуй на реке, – ответил я.
Сделав над рекой ещё два круга, Волохович выбрал ровную площадку и посадил самолёт.
Из посёлка на берег бежали люди и, обгоняя их, неслись с лаем собаки. Погружаясь по пояс в снег, мы с трудом выбрались на берег. Ненцы разогнали собак и радостно встретили нас. Все они были одеты в меховые малицы и унты, расшитые цветными узорами. На некоторых поверх малиц были надеты ещё и «гуси», тоже сшитые из оленьих шкур, только мехом наружу.
Они обступили нас, и каждый старался первым приветствовать гостей. Говорили они по-русски плохо, сильно растягивая слова. Шумный говор стих, когда подошёл пожилой невысокий человек, одетый в новую малицу, и отрекомендовался на чистом русском языке:
– Николай Иванович Вануйта. Директор оленеводческого совхоза.
Я назвал себя и познакомил Вануйту с остальными товарищами.
В это время детвора оттёрла Волоховича в сторону. Громко смеясь, ребятишки выпрашивали у Миши папирос и чтобы он дал им шлем и очки, пока старый ненец с широким морщинистым лицом и слезящимися глазами не крикнул на ребят по-ненецки – тогда те отступили от лётчика.
– Долго мы пробудем здесь? – спросил Миша, выбравшись из окружения.
– Да часа два.
– Тогда я пойду мотор чехлом закрою, а то застынет, не заведём.
Николай Иванович крикнул:
– Как управитесь – прошу ко мне на обед.
Толпа ненцев пошла за Волоховичем и Рогожиным к самолёту. Они окружили его плотным кольцом. Одни с опаской трогали крылья, стропы и хвостовое оперение. Другие стояли на почтительном расстоянии, громко говорили, смеялись. Несмотря на сильный мороз, никто не думал уходить.
– К вам раньше прилетали самолёты? – спросил я идущего рядом Вануйту.
– Прилетал один лет пять назад. На воду садился, да только многие жители не видели его, они с оленями в тундре были.
В домике Вануйты было тепло. Его жена, дородная, ещё молодая женщина с ярко-голубыми глазами, возилась в кухне.
Познакомив меня с женой, Вануйта вышел в сени и вернулся с куском оленьего мяса и большим осетром. В тепле они сразу покрылись снежной дымкой. Вануйта снял с себя пыжиковую малицу, покрытую сверху синим сукном, и остался в свитере и меховых унтах. Я подивился его крепкой, широкоплечей фигуре. Совершенно белая шея Вануйты резко отличалась от обветренного до цвета тёмной бронзы лица с чёрными пятнами на не раз обмороженных щеках. Я подумал, что этот человек, видимо, всё время находится в тундре, а дома редкий гость и нам просто посчастливилось увидеть его. Я с первого взгляда проникся уважением к Вануйте.
Пока я глядел и думал, Николай Иванович снял со стены охотничий нож и стал строгать оленину тонкими ломтиками.
– Сейчас я угощу вас нашей северной закуской, – сказал он.
Я посмотрел на хозяина, потом перевёл взгляд на груду сырого мяса, ничего не понял и ничего не сказал. Искусно работая ножом, Вануйта настрогал и осетрины. Затем, сложив строганину в две миски, он вынес всё в сени. Когда мясо и рыба были убраны, жена нарезала хлеба, поставила на стол горчицу, соль, перец, налила в блюдечко уксус и положила вилки. В это время вошли Волохович и Рогожин. Раздевшись, они потирали замёрзшие руки.
– Вот сейчас и погреемся, – сказал Николай Иванович, разводя спирт водой.
«Не маловато ли воды добавляет директор?» – подумал я.
Вануйта, как будто угадав мою мысль, сказал:
– У нас на Севере слабее семидесяти градусов не пьют. Вот по рюмочке выпьем, покушаем, а потом и о делах поговорим.
Он вышел в сени и вернулся, неся миски со строганиной, густо посолив её. Мы с опаской посматривали на необычную закуску и чувствовали себя неловко. Поняв наше смущение, Вануйта подбодрил:
– Раз уж приехали на Север – ешьте строганину. Вам ещё не раз придётся её отведать в тундре, и даже без соли.
Довод был веский.
– Давайте сначала осетринки, она легче пойдёт, – угощал хозяин.
Рогожин первый поддел вилкой небольшой кусок осетрины, густо помазал горчицей и, обмакнув в уксус, проглотил, не жуя.
Вскоре мы освоились с закуской. Выпив по второй рюмке, стали жевать.
После строганины хозяйка подала большой чугун с тушёными куропатками. Съев по птице и запив сытный обед крепким чаем, мы попросили разрешения перейти к деловому разговору. По просьбе Рогожина, Вануйта подробно рассказал о тундре, реках, охоте и оленях. Оленеводство для него было, видимо, самым любимым делом, и он с увлечением говорил о совхозных стадах, о пастухах и пастбищах.
На волновавший нас вопрос он ответил:
– Из Салехарда в Уренгой перевозить на оленях триста человек да ещё груз – и не думайте. – Потом, помолчав, сказал: – Я, конечно, экспедиции помогу. В совхозе больше десяти тысяч оленей. Но гробить оленей я не буду.
– Ну, а чем же вы тогда нам поможете, если, как вы говорите, из Салехарда до Уренгоя оленям не дойти? – спросил я.
– Помогу всем, что под силу оленям.
Я решил использовать случай и попросил у директора десять оленьих упряжек с нартами для перевозки людей и имущества от Самбурга до Уренгоя.
– Десять, говоришь? Столько, пожалуй, найдём. – И, хитро прищурившись, сказал: – Только за это вы мне перевезёте пушнину в Халмер-Седе.
– Ну что же, хорошо, – согласился я.
Прикинув наличие бензина в Халмер-Седе, Волохович подтвердил, что может перевезти оттуда оставшихся людей и имущество самолётами в Самбург, а обратными рейсами в Халмер-Седе – пушнину. На этом и порешили. Я повеселел. Поблагодарив хозяев за гостеприимство, мы направились к самолёту. Минут через двадцать самолёт загрузили пушниной, и он, с трудом оторвавшись от рыхлого снега, поднялся в воздух, взяв курс на Халмер-Седе.
Через два часа Волохович вернулся в паре с Юркиным. Доставив на двух самолётах четырёх сотрудников с вещами и забрав пушнину, самолёты ушли обратно на аэродром с ночёвкой.
Два дня гостили мы у директора совхоза, поедая горы строганины. На третий день загрузили девять нарт, посадили на каждую по одному человеку, и олений транспорт двинулся в путь одновременно с отлетавшими самолётами: впереди было полтора часа полёта до Уренгоя и четверо суток пути на оленях, если не будет пурги.
Я не отрываясь смотрел на реку, вдоль которой шёл самолёт. Чем дальше на юг, тем гуще и выше рос лес в её долине. Русло было прямое, но часто разделялось на рукава. На островах и по берегам рос хвойный лес, а дальше, за поймой, простиралась белая тундра.
– А вот и Уренгой, – показал я летевшему со мной мотористу на домики, из которых вился дымок. Покружившись, самолёт сел на реку у крутого берега. Неожиданный наш прилёт поднял на ноги всё малочисленное население фактории.
«Ну и город!» – подумал я, окинув взглядом четыре домика без заборов и пристроек. Домишки стояли на высоком яру, обдуваемые всеми ветрами.
– Кто у вас здесь начальник? – поздоровавшись, обратился я к высокому, тощему, одноглазому мужику.
Зябко кутаясь в старый, заплатанный полушубок, мужик почесал затылок и спросил в свою очередь:
– Смотря по какой части.
– А разве их здесь много? – удивился я.
– Пятеро, – отозвался он. – И каждый по своей линии.
– Ну, а самый старший кто? – допытывался я.
– Все одинаковые. Никто никому не подчиняется, – уже нехотя отозвался одноглазый.
– Тогда будем знакомиться. – И я назвал себя.
Он потряс мне руку, давя её вниз, и отрекомендовался:
– Огурцов Данила Васильевич. Заведующий рыбоприёмным пунктом.
Второй мужчина, низенький, толстый, с одутловатым лицом и заплывшими глазами, тоже русский, но одетый, как ненец, в малицу, назвался Ниязовым, заведующим факторией. Он познакомил меня с женой – худенькой, бледной женщиной с плаксивым лицом. Третий – здоровенный парень лет двадцати пяти – оказался заведующим метеостанцией; четвёртый – низкорослый, невзрачный мужчина – представителем лесхоза; пятый – инвалид на одной ноге – был бухгалтером оленеводческого колхоза. Все они отрекомендовались с достоинством. Здесь же были их жены и дети. Единственным взрослым работающим жителем фактории, не числившимся начальником, была уборщица.
Решив, что заведующий факторией всё же старший, я обратился к нему с вопросом, где можно устроиться с жильём.
– Только в заезжей, – ответил тот.
Заезжей оказалась небольшая комната с железной печкой посредине. В углу стояли грязный стол с многочисленными зарубками и замысловатыми знаками, вырезанными ножом, и две покосившихся табуретки. Стены и потолок грязные, прокопчённые. В окна и в двери дуло, и по комнате гулял ветер.
– Кто у вас тут жил? – возмущаясь грязью и неприглядным видом комнаты, спросил я.
– Когда ненцы приезжают в правление колхоза или за продуктами, а когда и русские из райцентра, из Тарко-Сале, – невозмутимо ответил Ниязов.
– А на чём же они спят? – вмешалась в разговор Марина.
Ниязов недовольно посмотрел на девушку и пробурчал:
– На полу.
На него все посмотрели с недоумением. Как бы оправдываясь, заведующий факторией добавил:
– A что им, варшавские кровати подавать, что ли?
– Варшавские не варшавские, а простые койки с постелями поставить не мешало бы.
– У меня не гостиница, – отрезал Ниязов.
– Ну, а как же спать на голом холодном полу? – не успокаивалась Марина.
– А как они спят в снегу по нескольку суток, когда пурга захватит в тундре? – огрызнулся Ниязов и заторопился домой, боясь новых вопросов. – Ольга! Затопи печку! – крикнул он уборщице, выйдя на улицу.
Когда за ним захлопнулась дверь, я дал волю раздражению.
– Не обращайте внимания, – посоветовала Марина, – лучше примемся за дело. Она познакомилась с Ольгой, и та согласилась ей помочь навести порядок. Мужчины тоже взялись за работу. Отправив двух мотористов вмораживать в лёд чурки, чтобы привязать к ним самолёты, Волохович взял ящик и пошёл к Ниязову за известью. Я отправился доставать плотничий инструмент для починки окон и двери, а Юркина командировали за водой. К вечеру комнату нельзя было узнать.
Когда совсем стемнело и все уселись за стол, наслаждаясь чистотой и теплом, на дворе заскрипели нарты и послышалась ненецкая речь. В следующую минуту открылись двери и в комнату вошли два ненца, запорошенные снегом.
– Здорово, – немного смущаясь и растягивая слога, приветствовал нас пожилой высокий ненец.
– Здорово, здорово, – ответили мы.
Из-за спины высокого выглядывал низкорослый ненец, пристально разглядывая сидевших за столом. Оба топтались у порога, не решаясь пройти вперёд. Я и Волохович вышли из-за стола, приглашая их раздеваться и садиться за стол.
– Ночевать можно будет? – нерешительно спросил низкий хромой ненец.
– Конечно, конечно, – ответили все.
– Тогда нарта пойдём убирать, олень пускать.
Они ушли, переговариваясь между собой.
Когда кончили ужинать, я встал из-за стола и, одевшись, вышел на улицу. В темноте возились у нарт ненцы, перевязывая поклажу. Рядом стояли, понурив головы, уже распряжённые олени. На небе сполохами играло северное сияние. «Эх, – подумал я, – надо бы Марину позвать, она ведь ещё не видела».
Но вспомнив, что её нужно устроить куда-то на квартиру, я пошёл на первый огонёк, светившийся в окне. Зайдя на высокое крыльцо, постучал.
– Входите, – раздался мужской голос.
Я вошёл в тёмную кухню. Хозяином дома оказался одноглазый. Он пригласил меня в комнату, где хозяйка с дочерью, девушкой лет восемнадцати, занимались рукоделием.








