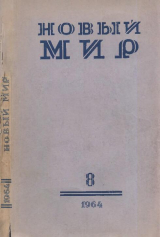
Текст книги "Мёртвая дорога"
Автор книги: Александр Побожий
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 10 страниц)
Ганджумов уже смеялся, вытряхивая из шапки снег, который успели насыпать в неё лётчики.
– Ну вот. Чего шумел? Себе же хуже сделал, – шутил Борисов. – Знал, куда летел? Знал. Самолёт цел? Цел. Горючее, лопаты, фанеру, продукты привезли? Привезли. Так чего же ты...
– Ладно, хватит, – перебил его Джамбул, – пожрать надо.
– Стоит ли ещё тебя кормить, трали-вали, такого шумливого!
– Что же, я с голодным брюхом буду здесь загорать? Ведь теперь не взлететь.
Действительно, самолёт провалился в снег и о взлёте нечего было думать.
Волохович был рад – ему привезли четыре бочки авиабензина и масло. Они с Васей катили бочки к границе площадки. Борисов подтвердил, что в Салехарде на нашу площадку возлагают большие надежды, завезут сюда продовольствие для факторий и передовой отряд строителей, человек триста.
– Так что нам, лётчикам, работёнки хватит, если будет площадка, – сказал он.
Я посмотрел на него вопросительно, не понимая.
– Снег до льда придётся убрать, – сказал он, – иначе полётов не будет.
Мне стала понятна горячность Ганджумова. Теперь, когда снег плотный и толщиной всего тридцать сантиметров вместо метра, а у нас есть инструменты, есть горючее для ПО-2 да прибавилось ещё шесть человек экипажа ЛИ-2, мы с этой работой управимся.
Мне удалось выторговать у Борисова уменьшение площадки. До льда решили расчищать полосу – в длину восемьсот метров и в ширину пятьдесят. Садиться на такую дорожку, конечно, будет трудно, но остальная часть площадки создаст дополнительную безопасность.
В палатку пришли, когда Васса Андреевна уже запускала пельмени в кипящую воду. Она теперь работала у нас поварихой и сегодня, по случаю прилёта, принарядилась. Встречая гостей, она поминутно оправляла свои пышные волосы, выбивавшиеся из-под шёлковой косынки, не сводила глаз с Борисова, с его пяти рядов орденских колодок и золотой звезды. На Волоховича она уже не обращала внимания.
– Вам как? С бульончиком или с маслом? – спрашивала она Борисова, заглядывая ему в глаза.
Борисов любезно пошутил:
– Из ваших рук всё вкусно.
Васса Андреевна расцвела.
После обеда пошли расчищать площадку. К привезённым большим листам фанеры привязали верёвки – теперь есть на чём транспортировать снег! Расчистку начали от ЛИ-2, разрезая снег на равные пласты до квадратного метра. Эти плотные пласты клали на фанеру и везли за пределы площадки. Работа подвигалась быстро, к вечеру прошли полосу шестьдесят метров длиной и шириной двадцать.
А утром подул южный ветер, и Борисов решил лететь. Он объяснил, что нужно воспользоваться встречным ветром, который помогает взлёту, и что даже шестидесяти метров ему достаточно, чтобы, набрав скорость, выскочить на утоптанное оленями поле, самолёт там не провалится.
Мы удерживать его не стали.
Взревели моторы, самолёт побежал и, оторвавшись, стал набирать высоту. Сделав над Уренгоем круг, помахав нам крыльями, ЛИ-2 улетел в Салехард. Нам же предстояло ещё убрать и вывезти более десяти тысяч кубометров плотного снега – по тысяче кубометров на человека.
После короткого совета мы решили: Пяка послать в тундру за ненцами, мне с Волоховичем лететь в районный центр Тарко-Сале, а Рогожину возглавить расчистку площадки. За уборку снега решили платить рубль с квадратного метра. Рогожин растолковывал Пяку стоимость уборки снега. Пяк понимал плохо. Рогожин повторял:
– Вот смотри, так шаг и так шаг, это метр, один рубль будет.
– А если вот так? – И ненец положил хорей в длину и хорей в ширину.
Рогожин измерил рулеткой и ответил:
– Это пятнадцать рублей.
– Теперь моя понял. Так хорей и так хорей – пятнадцать рублей. Наши, однако, поедут. – И, сев на нарты, Пяк погнал оленей вверх по Пуру.
Борисов привёз приказ по авиации МВД: «Всем самолётам без радиостанций летать на Севере только в паре». Как ни жаль было бензина, но мне пришлось лететь одному на двух самолётах. Однако я надеялся, что из Тарко-Сале я привезу людей.
Тарко-Сале расположен на слиянии двух рек – Пяку-Пур и Айвоседа-Пур (ниже течёт река Пур). Мы летели на высоте не более километра. Погода была ясная, и можно было видеть всю местность. По берегам рос густой и довольно высокий лес, преимущественно лиственница и берёза. Местами попадались тёмные пятна кедрача. Сразу от поймы начиналась безлесная тундра. В Пур впадали большие и малые речки. Хотя самих речек под снегом не было видно, но по лесу можно было угадать их направление и даже знать, что это – река или небольшой ручеёк: реки тянулись далеко и широкая полоса окаймляющего их леса терялась за снежным горизонтом тундры, а маленькие речки и ручьи имели меньше растительности, и там, где заканчивался росший по ним лес, видны были их истоки. Получалось сложное разветвление, словно огромный прут с длинными толстыми и короткими тонкими ветвями. Глядя на карту-миллионку, я легко определял местность. Вот за левым крылом самолёта осталась река Хадыр, а далеко справа был уже виден Ямсовей, – и всё это я узнавал только по лесу. Потом пролетели над мелкими протоками, и снова был виден лес, далеко уходивший в тундру, рассекая снежную пустыню. Чем выше по Пуру, тем лес становился гуще и выше; подлетая к Тарко-Сале, я увидел южнее посёлка огромный лесной массив.
Волохович посадил самолёт на реку, следом за ним сел и Юркин. Жители посёлка нас встретили так же радушно, как и в Самбурге и в Уренгое. Посёлок был небольшой – всего три-четыре короткие улицы да ещё отдельные дома, разбросанные в беспорядке. В домах побольше размещались районные учреждения. Я шёл и читал вывески: баня, почта, заготпушнина, магазины, чайная... Встретившиеся нам прохожие были русские. Ненцев не было видно.
В райкоме меня принял первый секретарь Василий Иванович Розанов. Я подробно стал рассказывать ему о задачах экспедиции и о строительстве железной дороги, но он вскоре меня прервал и попросил об этом рассказать широкому кругу работников района. Потом он кому-то позвонил и просил собрать всех через час.
Встав из-за стола, он прошёлся по большому кабинету с ковровой дорожкой, подошёл к карте района, в который уместилось бы много областей, окружающих Москву, и хотел начать какой-то разговор, но потом, видимо, изменив своё решение, повернулся ко мне.
– Идёмте ко мне обедать, вы ведь с дороги.
Я поблагодарил и согласился.
Дома он познакомил меня с миловидной белокурой женой, учительницей, которая только что пришла из школы. По обстановке их маленькой квартиры нетрудно было догадаться, что живут они здесь вдвоём и недолго.
– Давно из Салехарда? – спросила она меня.
– Больше десяти дней.
– Смотрите, как быстро! А мы ехали летом по губе, потом по Пуру больше месяца. В губе нас так качало да ещё чуть на мель не выбросило – до сих пор забыть не могу! А потом этот пароходик с баржей на Пуре... Кажется, целая вечность прошла. Я миллионы комаров накормила, пока дотащились до Тарко-Сале. То на мели сидели, то сутками дрова грузили, то машина поломалась. Говорят, пароход этот здесь с самой революции, и всё один.
– Верно, – поддержал жену Василий Иванович. – В прошлом году он один рейс от губы вверх сделал, а когда пошёл вниз, поломался окончательно, и вот весь район остался на голодном пайке. Так что наша жизнь здесь целиком зависит от этого пароходика.
– Ну, теперь у вас железная дорога пройдёт, – не без гордости сказал я, – легче будет.
– Нам бы не железную дорогу, а два-три хороших парохода да площадки для самолётов, – помечтал Василий Иванович. – Вы ведь правильно решили, что без авиации вам здесь ничего не сделать. А то я, секретарь райкома, ничего по существу о том, что происходит в районе, не знаю. В один конец триста километров, в другой – пятьсот, в третий – и того больше. Хочется везде побывать, а вот попробуй! Верить на слово? Да ведь сколько обмана, очковтирательства и жулья по факториям развелось, словно купцы сидят там, а не заведующие. Много, много таких, что едут сюда на Север карманы набить и смыться, – зло закончил он.
Я вспомнил Ниязова.
– Летимте в Уренгой, – предложил я, – а там вас лётчики повозят по оленьим стадам, с пастухами поговорите, они вам всю правду расскажут.
Василий Иванович что-то соображал, а потом ответил:
– Предложение хорошее, но у нас через три дня назначен пленум райкома. Вот если бы вы прислали за мной самолёт дней через десять, было бы очень хорошо.
Я обещал.
Пельмени были из оленины. Однако Вера Ивановна была, видимо, большая мастерица: они получились не хуже настоящих сибирских.
– Как мне хотелось бы побывать в Салехарде, поговорить в окроно о нашей школе, – посмотрела Вера Ивановна на мужа. – Мне кажется, мы не так учим ненецких детей, и их неуспеваемость зависит не столько от них, сколько от нас.
– Напиши письмо, – неуверенно посоветовал Василий Иванович.
– А ответ когда получу? В августе, с первым пароходом?
– Да ведь теперь мы можем отправлять почту через них, – кивнул он на меня.
Мне, правда, неловко было брать на себя обязательства – ведь площадки ещё нет, – но и отказать в таком деле было бы нехорошо, и я сказал:
– Не только почту, но и людей по неотложным делам можем перевозить, а Веру Ивановну в первую очередь, раз уж решается дело о детях, – пообещал я.
– Вот так-то! – обрадовалась она.
Поблагодарив Веру Ивановну за обед, мы пошли в райком. К моей информации собравшиеся отнеслись с интересом, но их больше всего интересовало, скоро ли наладится авиасвязь с Салехардом. Как я понял, всё руководители района считали постройку железной дороги чем-то маловероятным, а вот авиация для них была вопросом сегодняшнего дня: с нами послали в Уренгой трёх молодых работников, чтобы они, помимо своих служебных дел, помогали нам на площадке. Сразу после пленума должен был приехать на оленях и председатель того колхоза, что базируется на Уренгой.
Когда все разошлись, мы ещё час просидели с Василием Ивановичем. Он рассказал мне о населении района, о том, как нужно держаться с ненцами, чтобы они чувствовали, что их уважают. Нашу беседу прервал работник торготдела – он принёс справки, куда сколько нужно завезти продовольствия. Запечатав их в конверт, Василий Иванович попросил передать пакет в окружком с первым же самолётом.
Лётчики были в гостях у начальника районного управления МВД, как мне сказал встретившийся милиционер, очевидно всегда осведомленный о том, где находится и что делает его начальство. Было пять часов вечера. До захода солнца оставалось ещё около двух часов, и я думал сегодня же улететь в Уренгой, если успеют собраться отлетавшие с нами работники района. Но я сразу забыл об этом думать, когда увидел Мишу и Васю в гостях. Они сидели за столом красные, под изрядным хмельком. Хозяин, старший лейтенант Тимошенко, с которым мы познакомились в райкоме, меня ждал. Хотя мы и не уславливались, но он понимал, что без пилотов я никуда не денусь и всё равно приду. Я не подал виду, что мне не понравилась его затея, но решил Мишу и Васю увести ночевать в какое-нибудь другое место.
– За ваши успехи, – поднял большую стопку Тимошенко.
Чокнулись, выпили, закусив солёным муксуном.
– Не захромать бы? Надо по второй, – предложил хозяин.
Чтобы не портить отношений с местной властью, пришлось выпить и по второй.
– Когда я был командиром роты, – сказал Тимошенко, – я воевал под Сталинградом. Эх, и время же было горячее... Выпьем ещё по одной перед шашлыком, – предложил он.
Я хотел передёрнуть, но Тимошенко обиделся и предложил, обратясь прямо ко мне:
– За знакомство. – Переведя дух, он продолжал: – Когда я командовал батальоном и вёл в атаку своих орлов, фрицы драпали без оглядки. А я командовал: «Орлы, за мной, бей, коли супостатов»...
Он эффектно жестикулировал. Ясно было, что после четвёртой стопки он будет командовать полком. Но он переменил разговор и стал просить нас:
– Увезите моих осуждённых на самолётах в Салехард. Замучили, окаянные. Тюрьмы нет, жратвы не напасусь, а делать им нечего. Какие сортиры были, все вычистили, дрыхнут да жрут целыми днями, аж распухли.
– За что сидят? – спросил я.
– Да так, всё мелочь. Растратчики больше да пропойцы. Хоть бы настоящие были, а то так, ерунда.
– Я могу их взять в экспедицию, – предложил я.
– А если сбегут?
– Никуда не денутся из тундры, – заметил я, – а всё ж пользу приносить будут.
– Это надо обмозговать и начальство запросить, – решил он. – А расписочку вы мне на них дадите?
– Конечно, дам. Им у нас будет хорошо, и никуда они не уйдут, – заверил я.
– Ладно, только начальство всё же запрошу.
Четвёртая стопка показалась мне совсем крепкой, у меня закружилась голова, а хозяин сказал:
– Когда я ходил в штыковую атаку, фашистов вот так кидал через себя! Полк, за мной!
Когда мы уходили, хозяин уже посылал армады бомбардировщиков на Берлин, но в штыковую атаку по-прежнему ходил сам.
Переночевав в доме приезжих, мы рано утром вылетели в Уренгой.
Рогожин с людьми расчищали площадку.
К вечеру приехали ненцы на трёх нартах, посланных Пуганой, и на другой день нас работало уже больше двадцати человек. Ненцы возили снег на нартах, мы таскали на фанере. Каждый имел свой участок, чтобы к вечеру можно было замерить, кто сколько сделал.
Я работал с Пономаренко и Мариной. Пономаренко разрезал лопатой снег на равные куски, мы с Мариной наваливали, а потом везли за пределы площадки. Марина отрывалась только на несколько минут в сеансы связи и снова принималась за снег.
Придя в середине дня с радиостанции, она пошла посмотреть, как работают ненцы, и вернулась чем-то расстроенная.
– Что с вами? – спросил я её.
– Там ребёночек голенький на холоду лежит, – чуть не плача, сказала она и потащила меня за собой.
На снегу стояла корзинка, прикрытая крышкой. Из неё доносился детский плач.
Марина приподняла крышку. В корзинке, обшитой снаружи и внутри оленьим мехом, лежал без пелёнок и одеяльца, на одной древесной стружке, голый грудной мальчик. Он плакал, заливаясь горькими слезами.
К нам уже шла женщина – видимо, мать ребёнка. Со слезами на глазах Марина стала ей выговаривать, а та улыбалась и только отвечала:
– Его терпит, терпит, нас всегда так.
Она подошла к ребёнку, перевернула под ним стружку и снова захлопнула корзинку, оставив её стоять на снегу.
– Идёмте, – позвал я Марину. – Слышали – говорит, так надо.
Может, это было и неверно, но я подумал: они закаляются со дня рождения – ведь жизнь у них впереди суровая, в холодной безлюдной тундре.
Поздно вечером, когда появилась Полярная звезда, мы кончили работу и замерили, кто сколько сделал. Рогожин рулеткой обмерял участки, где работали ненцы.
– Не терпит, – запротестовал пожилой ненец. – Зачем обман делаешь?
Рогожин, ничего не поняв, стал внимательнее рассматривать цифры на рулетке. Ненцы волновались, а пожилой ненец отстранил рулетку и подал Рогожину хорей.
– Этим меряй. Так хорей и так хорей пятнадцать рублей, нам Пугана говорил.
Рогожин стал мерить хореем.
Он записывал в книжку все участки, а когда закончил, тот же ненец сказал мне:
– Деньги давай.
– Может, потом сразу рассчитаемся, когда закончим расчистку?
– Не терпит, – твёрдо повторил он.
– Хорошо, хорошо, – успокоил я, и мы пошли рассчитываться.
Рогожин составлял ведомость, а я платил. Заработок оказался хороший, в среднем получали по шестьдесят—семьдесят рублей – правда, работали много. Одна семья на двух нартах заработала более двухсот рублей. Ненцы были довольны.
На другой день в пять часов утра они явились уже на площадку, и было их уже в два раза больше, чем вчера. Пришёл с ними и Пугана.
Двое ненцев были без нарт. Они подошли к нам и спросили:
– Пешком таскать можно?
Я понял, что у них нет ни нарт, ни оленей и снег они решались таскать прямо так, в руках.
– Можно, – согласился я, но дал им лист фанеры с верёвкой.
Рогожин отмерил хореем участок.
Ледовое поле быстро увеличивалось, и когда вечером закончили работать, то увидели, что дней через пять можно принимать самолёты.
Погода нам благоприятствовала: ночью держались морозы ниже тридцати, а днём ярко светило солнце и температура повышалась до минус двадцати, а главное – давно не было пурги.
Второго апреля ледовое поле было готово, и Волохович дал согласие на приём тяжёлых самолётов. По краям площадки были высокие снежные валы, и заносов мы уже не боялись.
Волохович и Юркин завели самолёты, чтобы покатать ненцев. Первыми решили посадить в самолёт Пяка, Пугану и их жён. Женщины лететь отказались и спрятались за спины мужчин. С Пяком сел Рогожин, с Пуганой должен был лететь я.
Пугана не без гордости прошёлся перед своими родичами, посмотрел на свою жену и полез по крылу самолёта в кабину. Самолёт побежал по площадке и легко оторвался. Вначале Пугана смело смотрел в стекло. Но когда земля стала опускаться всё ниже и ниже под нами, он отвернулся от окна, а потом его голова стала клониться к коленям.
– Смотри, Уренгой! – старался подбодрить я ненца.
– Аха, Уренгой, Уренгой, – помахал он рукой, не поднимая головы.
Сделав круг – другой, Миша пошёл на посадку. Лишь когда самолёт остановился, Пугана выпрямился и приобрёл ту же гордую осанку, что была у него, когда он садился.
Его радостно встречали жена и все ненцы, а он горделиво прошёл к своей упряжке и, прыгнув на нарту, погнал по площадке. Олени неслись со скоростью ветра, а Пугана, скинув с головы капюшон малицы, ещё подгонял их. Его длинные волосы трепал встречный ветер. Сделав два круга, он остановил тяжело дышавших оленей.
– Шибко хорошо, – сказал он. – Сегодня наша праздник будет.
Ненцев катали на самолётах до самого вечера, а потом был настоящий праздник. Пономаренко собрал остатки нашего продовольствия, а чего не хватало – взял взаймы на фактории.
Васса Андреевна, Марина и ещё две женщины с утра готовили обед. Накрыты были все столы в палатках и в «ненецкой». Детям раздали весь наш запас шоколада, конфет и печенья. «Белка шапка» выдал понемногу спирта.
Когда стемнело и сполохи северного сияния чудесными переливами озарили небо до самого зенита, ненцы, обнявшись, встали в большой круг. Здесь были мужчины, женщины и дети. Они мерно раскачивались и тихо пели на один и тот же однообразный мотив.
– Как называется песня? – спросила Марина Айвоседу.
– Никак не называется, – ответил он.
– А что же вы поёте? – допытывалась она.
– Разное.
– А всё же? – не унималась девушка.
– Моя пел, самолёт летал, олень хорошо тундра ехать, потом про пучу6.
– Маленько спирту надо, арка начальник, – попросил Пугана и добавил: – Петь хорошо будут.
Пономаренко пошёл на факторию просить взаймы – у нас ни спирту, ни денег уже не было.
Пугана открыл бутылку и вошёл в круг. Глотнув из горлышка и закусив куском снега, он передал бутылку соседу по кругу, а тот, сделав то же самое, передал бутылку своему соседу. Она обошла круг и вернулась к Пугане пустая. А монотонная песня в такт качавшегося круга не прекращалась. Только когда стало меркнуть северное сияние, все разошлись по палаткам и домам.
Первый самолёт Кошевого сделал посадку в десять утра и, разгрузившись, ушёл на Салехард. Через час прилетел Джамбул с двадцатью сотрудниками экспедиции, потом ещё и ещё садились и взлетали самолёты. С площадки не успевали вывозить на нартах грузы.
Вырастал палаточный городок. Палатки были большие – больше любого дома на фактории. Для них расчищали снег и прорывали между ними в снегу траншеи. В одной палатке устроили столовую, в другой штаб экспедиции, остальные оборудовали под жильё. Маленький Уренгой быстро завоевал авторитет, и к нему из тундры присоединялись всё новые ворги. А самолёты всё летали и летали, привозя людей, продовольствие для жителей, снаряжение для экспедиции и грузы для лагеря заключённых. Из Уренгоя были отправлены меха и залежавшаяся почта.
Хотя морозы ещё не уступали и ветры иногда приносили снежные заряды и тогда завывала пурга, но апрель даже здесь, в Заполярье, всё же был предвестником весны. Ярче светило солнце, дни становились длиннее, и южные ветры порой доносили едва ощутимые весенние запахи.
Стаями летали куропатки, оставив свои снежные зимние жилища; в кедровом лесу появилось много глухарей. Выбрав свободное время, мы с Рогожиным, встав на лыжи, пошли на противоположный берег Пура, где, по рассказам Данилы Васильевича, выше по реке, километрах в трёх, водится много глухарей. Мы уговаривали Данилу Васильевича пойти с нами, но он был занят своими тремя должностями и, кроме того, готовился к весенней охоте: делал деревянные чучела уток и искусно красил их в расцветку разных утиных пород. На полках уже стояли готовые чучела: кряква, широконосик, гоголь, нырок, чирок и серуха. Дав нам свою собаку по кличке Моряк, Данила Васильевич сказал:
– Я своё весной возьму. Да моя Васса не больно-то и любит глухарей. Утей да гусей подавай на третью перину.
Мы поняли, что Данила Васильевич готовится к большому промыслу, и не стали ему мешать. Моряк был довольно старый кобель, да к тому же слабый наст плохо держал его, и пёс местами проваливался по брюхо. Он далеко не отбегал и кружил метрах в ста от нас.
Я спугнул одну капалуху с ветвистого кедра, когда перебирался через глубокий овражек. Моряк побежал было за ней, но вскоре провалился в снег и вернулся ко мне с высунутым языком.
Я позвал Рогожина, и мы осторожно пошли вместе в самую гущу кедрача. Впереди залаял Моряк.
– Есть, кажется, – шепнул Рогожин.
Мы пошли ещё осторожнее и вскоре увидели пса. Он лаял, задрав голову на высокий кедр, подбегал к стволу и прыгал, словно хотел взобраться на дерево.
Мы пристально смотрели, но сквозь густую хвою ветвистого кедра ничего не могли увидеть. Моряк подбежал к нам и снова стремительно бросился к тому же кедру. Мы решили обойти дерево с двух сторон. Не успели мы ступить по нескольку шагов, как из гущи соседнего кедра сорвался огромный чёрный глухарь и стремительно полетел, сбивая на лету ветки. У меня перехватило дыхание, но мне ничего не оставалось делать, как посмотреть вслед могучей птице. Стрелять было поздно – глухарь быстро скрылся за макушками деревьев. Значит, Моряк фальшивит, решил я, и нам нужно быть осмотрительнее.
Шли дальше; Моряк снова залаял.
Подойдя ближе к нему, мы осторожно и внимательно стали осматривать все деревья. Почему-то мы смотрели оба на самый верх, как вдруг услышали тихий звук «цок-цок-цок»... Глухарка сидела на втором суку от земли, за стволом.
Рогожин заметил первый и вскинул ружье. Я тоже последовал за ним, чтобы стрелять, на случай, если он промажет. Раздался выстрел, и эхо покатилось по лесу. Капалуха камнем упала к ногам собаки. Моряк кинулся к ней и стал давить ей голову, но подоспевший Рогожин забрал свой трофей. Птица была хотя и тощая после зимы, но большая, килограмма два.
Когда, перебежав через небольшой бугорок, Моряк снова залаял, мы долго смотрели и наконец обнаружили на вершине лиственницы рыжую белку. Как Моряк ни лаял и ни злился, мы стрелять не стали и пошли левее, в тёмный кедровый лес. Спугнув ещё одну капалуху, Моряк нашёл большого глухаря. Теперь первым увидел я и, как мы условились, первым и выстрелил. Глухарь сорвался с ветки и полетел, но полет его был неуверенный, и вскоре он стал клониться влево, а затем пошёл на снижение. Огромный, чёрный, с красными веками и синим отливом перьев у головы, глухарь весом около шести килограммов был моим первым трофеем на Севере. Спугнув ещё двух капалух и одного глухаря, мы решили возвращаться домой. Выйдя к протоке, берега которой поросли кустарником и лозой, мы спугнули большую стаю белых куропаток. Моряк погнался за ними и потерялся в лесу. Мы осторожно пошли дальше вдоль протоки, всматриваясь в яркий снег. Вскоре мы заметили на белом снегу новую большую стаю. Местность была почти открытая, низкий кустарник не мог нас скрыть от сотен зорких глаз, и мы решили обойти куропаток с двух сторон. «Только бы не помешала собака», – думал я, заходя со стороны леса. Так оно и вышло: пёс кинулся к ним. По меньшей мере сотня птиц поднялась со снега и полетела в разные стороны. Я успел выстрелить два раза и одну сбил. Рогожин стрелял в самую гущу налетавших на него птиц и дуплетом сбил трёх.
Охота была удачная, что и говорить, – и мы решили идти в Уренгой, спустившись на русло реки, где проходила ворга.
Поднявшись на крутой берег, мы остановились посмотреть, как прилетевший из Салехарда самолёт будет делать посадку. Но самолёт уже сел, подрулил к стоянке, а нам всё ещё не хотелось уходить.
По ворге, по которой мы только что шли, стремительно бежала упряжка оленей. Путник их не погонял, но казалось, они сами знали, что нужно спешить, и, словно пушинку, вынесли в гору нарту с человеком и небольшой поклажей. Доехав до нас, нарты остановились. Не успел я подумать, кто из ненцев мог приехать, как к нам подошла девушка, одетая в малицу и унты, с обветренным до бронзы лицом.
– Самолёт в Салехард полетит? – обратилась она к нам и откинула капюшон, обнажив толстые русые косы.
Мы ничего ей не ответили, с удивлением глядя на эту северную амазонку. Светло-русые волосы её оттеняли бронзовое лицо.
– Здравствуйте, я Рогожин, – неуверенно отозвался Александр Петрович, не ответив на её вопрос.
– Нина Петровна Орлова, – твёрдо сказала она, пожав Рогожину руку. Поздоровалась и со мной.
– Я о самолёте спрашивала. Я врач, – повторила Нина Петровна. – У меня – тяжелобольной, подозреваю прободение язвы желудка. Больного и меня нужно как можно быстрее доставить в Салехард.
– А где больной?
– В пяти километрах отсюда в чуме лежит, – показала она рукой на юг.
– Везите скорее, а я задержу самолёт.
– Помочь вам? – неуверенно спросил Рогожин, глядя то на неё, то на меня.
– Было бы неплохо, – согласилась она, – а то в чуме одни женщины и те плачут.
– Хорошо, – кивнул я, снимая с Рогожина рюкзак и принимая от него ружье.
Нина Петровна развернула оленей и, посадив позади себя Рогожина, погнала упряжку. Минут через сорок они возвратились на двух нартах с больным и его женой. Самолёт уже стоял на старте и, как только ненца внесли, поднялся в воздух. Рогожин стоял, не спуская глаз с удалявшегося ЛИ-2. Уже затих звук моторов, а он всё стоял и смотрел.
– Ты что же, с первого взгляда влюбился? – пошутил я.
– Ничего не знаю, не спрашивай...
Мне стало как-то жаль его. Спрашивать я больше не стал, а предложил пойти к Вассе Андреевне и попросить её приготовить глухарей и куропаток на ужин.
Васса Андреевна, глядя на птицу, недовольно повела плечами.
– Что, не нравятся? – спросил я.
– Больно они тощие, а вот этот, – потрогала она ногой лежавшего вместе с другими птицами глухаря, – совсем сухой, вроде моего Данилы, одни кости да жилы.
– Ну, ладно, мы сами зажарим или Марину попросим, – вышел из себя Рогожин и стал складывать дичь в рюкзак.
– Это что же вы надумали? – ухватила она его за рукав.
– Раз не хотите, пойдём в палатки.
– Это я сначала не хотела, а сейчас вспомнила, что докторша может вечером вернуться из Салехарда.
– Какая? – спросил Рогожин, выпуская из рук рюкзак.
– Да та, что сегодня улетела. Она Даниле сказала у самолёта: «Как сдам больного в больницу – сразу вернусь». У неё тут и олени остались, – пояснила Васса Андреевна.
– Давайте отереблю дичь, – засуетился Рогожин.
Весь день Александр Петрович следил за радиограммами, узнавая, какие самолёты и когда будут из Салехарда.
– Вот если с Кошевым не прилетит, – сказала Марина, – значит, ждите завтра, Александр Петрович. Кошевой заночует у нас, обратно не успеет.
Рогожин пошёл на площадку встречать самолёт, а мы с Мариной – к Вассе Андреевне.
Данила Васильевич сидел на табуретке босой.
– С праздником, Данила Васильевич? – спросил я хозяина.
– Праздник и есть, а она шумит, – показал Данила Васильевич на жену.
– На тебя не шуметь надо, а кочергой тебя огреть. Говорила: подожди до вечера, со всеми и выпил бы... Пойди дров наколи посуше, видишь – не горят, – крикнула она мужу.
– Я чо, босой пойду, валенки-то мои спрятала. – И как бы в подтверждение он почесал голой пяткой другую ногу.
– Обувайся да штаны подтяни, люди ведь пришли, – кинула она ему валенки и добавила: – Смотри, не забреди ещё...
Данила Васильевич всунул босые ноги в валенки, потёр единственный глаз и, пошатываясь, пошёл на улицу.
– Рогожин плохо отеребил глухаря. Где он есть? Я бы его заставила дотеребить все пушинки, – успокоившись, показала нам глухаря Васса Андреевна.
– Нину Петровну встречает, – выдала Рогожина Марина.
– Она бабёнка ничего. Только ей, как мне, не везёт – попался муж пропойца. Правда, она с ним быстро покончила, а я мучаюсь, – вздохнула она.
Чтобы уйти от этого разговора, я вышел вслед за Данилой, помочь ему с дровами.
Когда ужин был почти готов, послышался шум моторов, и я поспешил на площадку. В дверце самолёта показалась Нина Петровна, Рогожин решительно шагнул вперёд и подал ей руку. Они пошли к фактории, не замечая меня. Я не спеша пошёл вслед за ними.
Нине Петровне было лет тридцать, она была хороша собой и стройна, только ходила немного вразвалку, видимо, от частой и длительной езды на оленях. Эта хрупкая на вид женщина одна ездила по тундре от чума к чуму, ночевала в ветхих жилищах ненцев, а иногда и в снегу, когда застигнет пурга.
Она окончила в 1940 году медицинский институт в Томске, и сразу же её направили на Крайний Север. Она протестовала, говорила, что сюда надо хорошего врача, ведь здесь всё нужно решать самой, нужно иметь практический опыт. Но её, конечно, не стали слушать, выдали документы на проезд в Ямало-Ненецкий национальный округ и сказали: «Не поедете – лишим диплома».
И вот она поехала вниз по Оби. Почти месяц смотрела с палубы парохода на угрюмые берега. Кое-где на берегу попадались деревеньки, а потом снова тянулись леса, болота; на пристанях реяли миллиарды комаров. В эти долгие дни она чувствовала, что всё осталось позади, и вычеркнула себя из жизни на те два года, которые должна была пробыть на Севере... «Пройдут эти два года, – думала она, – вернусь в Томск, получу хорошего руководителя...»
В Салехарде её документы просмотрел заведующий окрздравотделом. Написал резолюцию: «В Красноселькупский район», и она снова поехала. Сначала на пароходе по Обской, потом по Тазовской губе, а дальше на барже, которую тянул вверх по реке Таз буксир. Осенью она оказалась уже в Красноселькупе. Там Нину Петровну встретили радушно, в первый же день она попала к начальству. Заведующий районным отделом пожал ей руку и сказал:
– Вот хорошо, молодёжь будет двигать вперёд культуру в тундре, лечить людей и просвещать коренное население.
Она ему сказала:
– Чтобы что-то двигать и лечить, нужен опыт, а у меня его нет.
– Ничего, ничего, – успокоил он. – Поработаете самостоятельно, быстрее опыт приобретёте.








