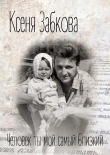Текст книги "Не жди, когда уснут боги"
Автор книги: Александр Иванов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 12 страниц)
МАЛЕНЬКОЕ БЕЛОЕ ОБЛАЧКО
Стюардесса возникла неожиданно и ярко, как золотой солнечный диск в иллюминаторе. В огромных, чуть выпуклых глазах подрагивает, казалось, удивление, а приоткрытые в полуулыбке спелые губы словно бы говорят: ах, как хорошо мне среди вас, удобно сидящих в своих креслах, застегнувших привязные ремни. Она прохаживалась по салону, ей было хорошо, и пассажиры любовались ею. Кто-то задержал ее шуткой, и ему стало жаль, что это сделал не он. Но спустя минуту-другую лик стюардессы начал отодвигаться и меркнуть, его закрыло маленькое белое облачко – словно настоящее облачко влетело в салон самолета.
Мир вздрогнул и потеплел —
В него вошла ты
вспомнились ему стихи, сочиненные совсем недавно, в Домодедово, когда он думал о тебе. В общем-то, он думает о тебе постоянно, стихи появляются гораздо реже.
Хочешь знать, как это все началось? Чтобы покороче, избавимся от кое-каких временных и географических подробностей: ведь не в том суть.
Еще у истоков юности в воображении нашем постепенно складывается призрачный желанный образ подруги. Но как редки совпадения с ним действительности! Поначалу мечешься, ищешь, затем смиряешься и отдаешься во власть стихийному течению судьбы на долгие годы. И когда уже ничего не ждешь, когда потянет изнутри зябким ветерком, вдруг свершается чудо. Наконец-то свершается чудо. Свершается запоздалое чудо.
Ты видела когда-нибудь, как после затяжной пурги в горах солнце на самом своем излете озаряет пасмурные хребты живым огненным светом? Величественное и печальное зрелище…
Оркестр играл танго.
– Разрешите?
– Пожалуйста.
Он не танцевал тыщу лет и рискнул только потому, что знал: тебе очень хочется потанцевать. И не зря рискнул. Уже первые движения вселили уверенность и легкость, будто пали какие-то оковы, настало освобождение; и во всем этом ты была его спасительницей, его добрым другом. Под ладонью подрагивала тихая талия, белокурые волосы струились по щекам, мелодия вливалась в вас, точно вино в бокалы – до самых краев.
В какое мгновение к нему пришло ощущение, что ты – это Ты? Он не помнил. Погруженные в суету, мы четко отмеряем лишь время потерь; счастливые взмахи судьбы, касаясь нас, будоража и улетучиваясь, остаются вне каких бы то ни было измерений. И в самом деле: зачем нужны ориентиры, если повторение невозможно?
Редко, совсем редко вы оставались вдвоем. У тебя была милая, тоже юная подруга, но с каким-то странным заскоком: она постоянно рвалась выдавать свое мнение за твое. Ему даже неловко вспоминать, в какое бешенство его это приводило. Говорят, подобная черта присуща трибунам и политиканам. К сожалению, не только им.
Хорошо, что играет оркестр.
– Разрешите?
Плавный наклон головы. Ты вообще все делаешь плавно. В тебе нет углов. Лишь округлые линии, как бы подернутые туманом задумчивости. Пожалуй, это несколько витиевато, и потом – красит ли плавность в наше время безоглядных темпов? Но ты всегда представлялась ему именно такой. И тут ничего не поделаешь.
Ах, эти быстрые модные танцы, когда танцуешь порознь, каждый сам по себе, когда партнер только подразумевается – как пламя костра в электрокамине. Любопытная штука: волнуемся из-за того, что уменьшается тяга к общению, и вместе с тем создаем музыку, разъединяющую людей. Родив парадокс, сами живем под его диктовку.
Однажды после танцев вы пошли купаться. Днем на пляже людно, не протолкнуться, теперь же все выглядело по-иному. Рассеянный свет луны и расположенных поодаль неоновых светильников окрашивали берег в загадочные, таинственные тона; тишину баюкал мерный плеск волн. Сиюминутность людского бытия придает и окружающему некую сиюминутность. Ночью же от моря веяло вечностью, в которой легко тонули любые ваши устремления, заботы.
– Смотри!
Он посмотрел. Песок пляжа, покинутого людьми, продолжал хранить бесчисленные следы их ног. Следы разветвлялись, наслаивались друг на друга, ложились вкривь и вкось – как людские судьбы, настигнутые войной или стихийным бедствием. Огромное пространство, усеянное чернеющими провалами, как-то скорбно стыло в безмолвии ночи.
Вам расхотелось купаться. Присев прямо на песок и уронив голову на колени, ты долго смотрела то на волны, набегавшие на берег, то на светящиеся изнутри коробки разбросанных вдоль побережья отелей. От тебя веяло морем. Ты была в миллионы раз юней, чем оно, и всего вдвое, чем он. Но если морю это казалось сущим пустяком, то ему так не казалось.
Вроде бы он неплохо плавает. И все же: можно ли плыть против течения собственных лет?
Я касаюсь тебя, словно Вечности —
Неизбывной и неозябшей.
Кто-то меряет шагом Путь Млечный,
Кто-то ищет защиты нашей.
И нисходит небесная милость
На земные робкие плечи,
И кому-то обида простилась,
Чьи-то раны надеждою лечат.
Мы мелеем, как реки в пустыне,
Нас уносят волны отлива.
Как хотелось бы мне, чтоб отныне
Ты счастлива была, счастлива!
Знаю, сделать я это не в силах,
Миг и радостен, и конечен.
Снова Черное море взбесилось,
Пену на берег мечет, мечет.
…Кто-то меряет шагом Путь Млечный,
Мне поэтому легче, легче.
Покоясь в кресле самолета, он беспомощно озирает те минувшие дни, которые исчезли, растворились, сгорели, как капельки росы на солнечном костре. Трудно что-то выделить, на чем-то остановиться: жизнь тогда была без резких поворотов, углов, столь же плавна и одухотворена, как ты сама. Он радовался тебе, как все живое радуется рассвету.
– Забавно, – думал он вслух.
– Что забавно? – ты поворачивала к нему непонимающее лицо.
– Да все!
Вот тебе и пожалуйста, – улыбалась ты.
Удивляясь тому, что происходит с ним, он повторял частенько «забавно, забавно», и ты, кажется, догадывалась, что он имеет в виду. Ваш отпуск на Черноморском побережье – об этом не говорилось прежде, поскольку не было необходимости, а теперь такая необходимость появилась – ваш отпуск заканчивался и вами овладевала грусть по дому, по всему, что с ним связано. Выдумывались всякие отвлекающие игры; в одной из них с причудливым названием «мокау» проигравший исполнял желание выигравшего. И тогда ты пела, потому что везло ему одному.
Густела ночь, тревожна и чиста,
И звезды, будто дождь летели,
На пятом этаже отеля
Окно светилось, словно бы мечта.
В нем силуэт, девичий силуэт
(О, сколько раз поэтами воспет!)
То подплывал, то удалялся,
И звуки русского романса
Рождались, как в траве росистой след.
Немело море, таинство храня,
Бульвары замирали, скверы,
Как замирали дикари в пещерах
Пред волшебством священного огня.
Печаль романса, словно жизнь, хрупка
И нежен, тих девичий голос.
Угадывать дано нам колос
При виде зыбкого ростка.
И белый свет мне снова мил —
Из тишины и неба выткан.
«Отвори потихоньку калитку…» —
Твой голос умолял, просил.
С минувшим память порывать вольна,
Но ей разрушить не удастся
Напевность русского романса
И силуэт девичий у окна.
В Москве вы расстались. Ты улетала в другой город, улетала совсем ненадолго или навсегда. Твое лицо плыло перед ним маленьким белым облачком. Расставаясь, обычно говорят «до свидания», хотя верней было бы сказать «прощай». Это, пожалуй, чуть ли не единственный случай, когда спасительная ложь всеми оправдывается.
Его самолет был ранним утром. Грузный таксист спал в машине, навалившись грудью на баранку. Долго он не мог его разбудить. Наконец таксист поднял свое помятое лицо, сквозь припухлость век протиснулся недовольный взгляд.
– Чего тебе?
– На самолет опаздываю, – сказал он.
– А мне в гараж уже пора.
– Так недалеко же, к городскому аэровокзалу.
– Давай конкретней: Внуково, Домодедово, Шереметьево – куда?
– Нет, к городскому аэровокзалу.
– Поехали лучше прямо в аэропорт.
– Ты же в гараж опаздываешь!
– Разве я сказал об этом?
– Ну да.
Таксист тряхнул головой и повез его в Домодедово. На мокрой от бесконечных дождей земле росли травы, леса, трепетали на влажном ветру листья берез. А по синей небесной шири плыло маленькое белое облачко. Его парус, его надежда.
Мир вздохнул и потеплел —
В него вошла ты!
ОТЧИЙ ДОМ
Мы уезжали, мы уехали от весны. После стремительных, пронизанных солнцем ливней фрунзенские улицы светились зеленью. Мальчишки уже бегали на холмы за тюльпанами. А тут, в средней полосе России, все только еще стряхивало с плеч зимнюю усталость, распрямлялось, отдаваясь теплым влажным ветрам.
Березовые перелески тонули в талой воде. Мы видели, как меж белых стволов лавировала охотничья лодчонка, подчиняясь резким и точным взмахам шеста. Наверное, начался перелет уток. Или, быть может, охотник просто, поддавшись общему состоянию природы, наслаждался, прогуливаясь без всякой цели.
Остановок почти не было. Наш туристический поезд задерживался только в крупных городах, да и то, если это оговаривалось в путевке. Маршрут пролегал через Украину, Белоруссию и Прибалтику, Ленинград и Москву. Мы знали, где, когда и на сколько предстоят остановки, знали, что все за нас обдумано и рассчитано. Дни проходили неспешно, без пустячных забот и суеты. Страна вливалась в окна вагонов. И мы как бы срослись с ними, связывая свои разговоры с увиденным.
– Земли-то сколько! – восклицает Толеген. – Видимо-невидимо. А у нас, куда ни глянь – горы барьером стоят. Воды здесь полно! Благодать.
Толеген из Ошской области, агроном. Очень высокий, с правильными чертами лица, узкой ленточкой усов и пристальным мягким взглядом. Слегка ссутулившись, он застывает у окна лишь тогда, когда открываются поля. Лес ему безразличен, к лесу не тянется его душа. Зато поля… Они для Толегена – основа основ. Поля – значит, хлопок. А хлопок – это все земные блага. И внутреннее чутье земледельца воспринимает лес как некое излишество: там ведь хлопок не посеешь.
– Добавить бы сюда нашего солнца, – говорит он. – А воды хватает. Вон сколько! И почва, видно, вполне подходяща.
– Для чего? Для хлопка, что ли? – догадываюсь я.
– Странно спрашиваешь. Конечно. Хлопок здесь такой бы пошел, только держись. Дай ему жары покрепче – сорок центнеров гарантирую.
– Интересный ты человек, Толеген, – заметил со второй полки Иван Степанович. Он лежал на животе, почти вплотную приблизив лицо к окну. – Если каждый захочет переделать природу на свой лад, что же получится? Тебе, скажем, поля подавай, леснику – чтобы все сплошь лесом было покрыто, мне вот, шоферу, автомагистрали бетонные без конца и без края. Каждая профессия потому хороша, что есть сотни других. Разнообразием великим – вот чем хороши и работа любая, и судьбы наши, и страна родная.
В чуть приоткрытое окно врывался ветер, лохматил седые, но все еще густые волосы Ивана Степановича. Был он значительно старше нас, соседей по купе, немало поездил по белу свету, с какими только людьми не встречался, и оттого, видно, любой разговор наш его интересовал, и оттого интонация плавная и возвышенная ему особенно шла, как идут снежные шапки горным вершинам.
– Тебе самому-то приходилось в поле работать? – спросил он, скосив глаза на лацкан пиджака Толегена с голубеньким институтским ромбиком.
– Странно спрашиваете, – обиделся Толеген. – Разве можно жить в колхозе и не выращивать хлопок? Я все на себе испытал: и сеял, и собирал. А как же? У нас иначе не бывает. Иначе не на земле живешь, а при земле. Какой от тебя прок? Никакого. Разве мог я стать агрономом, не поработав на поле?
– Да ты не серчай, – добрая улыбка тронула лицо Ивана Степановича, и морщинки побежали по нему, как рябь по воде. – Всяк волен собой распоряжаться. И не всегда то хорошо, что правильно. Иной делает все верно, как по уставу, не придерешься, но вот штука: и у самого на душе кошки скребут, и окружающим от него света мало.
– Да-а… – протянул Нургазы, наш четвертый сосед по купе, и было не понять, то ли он согласен с Иваном Степановичем, то ли еще раздумывает, согласиться или нет. – А вы давно шоферите? – помолчав, спросил он.
Иван Степанович ответил не сразу. Его что-то влекло, притягивало, уводило в заоконные просторы, он пытался найти, разглядеть что-то ведомое ему одному, и все больше напрягался, томимый щемящим ожиданием.
– У меня почти вся биография на колесах, – сказал он, наконец. – Как подрос, до руля достал, так и поехал. Вот только в войну…
– Что, не хватало машин? В пехоту пошли?
– Хватало. Слабенькие, правда, машины были, ну да ничего, в те времена сходили за милую душу. Не повезло мне, друзья, не повезло. На второй месяц в мою полуторку снаряд угодил. Сам еле выкарабкался. Ну, а потом – как все, кто уцелел, но от своих отстал, – в партизаны подался.
Мы молчали; тишина заполнялась мерным настойчивым стуком колес; мимо плыли и плыли живые полотна величайшего из художников – природы. Лес густел, становился глуше, неприступнее и все ближе подходил к железнодорожному полотну.
– Вот здесь, конечно же, здесь! – взволнованно произнес Иван Степанович, и его указательный палец уперся в толстое мутноватое стекло.
Показалась небольшая речушка, лениво несущая свои воды меж илистых, поросших камышом берегов. Обычная для этих мест речушка, каких десятки попадались на нашем пути. Но едва Иван Степанович воскликнул, едва в нем торкнулось воспоминанье, как торкается ребенок в матери, просясь наружу, на свет, мы изо всех сил стали всматриваться в окрестное пространство, стесненное могучим лесом.
– Крепенько тогда поработали, что и говорить, – продолжал, уже более спокойно, Иван Степанович. – Славное было зрелище, ох, и славное, настоящий фейерверк. – Он опять замолк, представляя, должно быть, то, что тогда случилось.
Торопить его не хотелось. Столько книг и фильмов о войне принято сердцем, что оно уже избегает горячки, воспринимает все терпеливо, в плотной неразделимости с теми бедами и победами, которые выпали на долю страны.
…От него требовалось пустить под откос эшелон и вывести из строя железную дорогу. (Ту самую, по которой мы теперь проезжали!). Подполз вместе с товарищами. Выслал фланговую разведку. Вскоре мигают фонариками: порядок. Подождали, пока пройдет дрезина с балластом. Потом бросок к рельсам.
Заложили шестнадцатикилограммовую рапеду. Приготовились бежать, зная, что после взрыва немцы звереют, окружают и прочесывают лес. Но эшелон прошел, а взрыва – нет, нет, нет! В чем дело? По рации приказали: отступать. Но как быть с рапедой? Так и оставить ее?.. Тол они вытапливали из брошенных снарядов, был он на вес золота. «Пойду, проверю», – решил он. Его не пускали. Мина могла сработать в любой момент. Да и немцы забеспокоились: по железнодорожному полотну то и дело, как щупальца, шарили лучи прожектора.
Предупредив товарищей, чтобы они отходили подальше, он направился к рельсам. Подполз. И облегченно вздохнул. Проводок, ведущий к взрывателю, упал на шпалы. Колеса промчавшегося поезда даже не коснулись его. Собрался было снимать мину, как справа, нарастая, донесся грохот состава. «Вне расписания идет. Особо важный», – мелькнула мысль. Быстро набросил проводок на рельсы и скатился с насыпи. Едва достиг леса, раздался мощный взрыв. За ним – еще и еще! Рвались цистерны с горючим, вагоны с боеприпасами, они наскакивай друг на друга, образуя огненную лестницу. В лесу стало светло, хоть иголки ищи. Настоящий фейерверк!.. Эшелон полностью сгорел. Шпалы тоже. Рельсы покоробились. На неделю железнодорожная связь врага была прервана.
– Да-а, – протянул Нургазы, качнув головой. – Хорошо сработали, понимаешь ли. Вам бы после войны взрывником пойти. Или надоело?
– Так у меня ж было дело, свое кровное дело – машину водить. Куда мне от него? Никуда.
– А я вот взрывник, – сказал Нургазы. – Порой настолько осточертеет, что плюнул бы да ушел.
– Где взрывником-то?
– На Токтогулке. О Серебрякове слышали? Вот у него.
Я знал, что на Токтогулке жаркое время: завершается строительство отводного туннеля. Газета, в которой я работал, писала, что бригада проходчиков Серебрякова готовится к рекордному рывку. Спрашиваю Нургазы:
– А как же рекордная проходка?
Он смотрит на меня, коренастый, плотный, глаза у него коричневые, слегка выцветшие – от долгого пребывания под землей, с маленькими белыми точечками – от частых вспышек при взрывах.
– Дней через десять начнут, – тихо говорит он. Чувствую, тема для него не из приятных. Но коль замахнулся…
– Нам еще ехать и ехать. Значит, без тебя они начнут?
– Без меня.
– Обидно, наверное? Ведь не каждый день такое событие.
– Событие, событие! – неожиданно взрывается он. – Да на моей памяти, знаешь, сколько их, этих событий? С ума сойти можно. Как отпуск, так обязательно что-нибудь намечается. И планы мои – коту под хвост. Ну, раз, понимаешь ли, ну, два… Нельзя же бесконечно! Мне тоже, понимаешь ли, отпуск по-человечески хочется провести.
– Эх, Нургазы, – Иван Степанович отодвинулся от окна, спустился с полки. – Разве отдохнешь по-человечески, когда на душе покоя нет?
– Почему нет? – возразил Нургазы, хотя уже не столь пылко. – Должник я, что ли? О моей работе никто худого слова не скажет.
– А мы все друг перед дружкой должники, – сказал Иван Степанович. – Но долг такой в радость, от него силы прибавляются. Если же отступил, схимичил, не сделал, как совесть велела, тот же долг становится тяжестью, замучает, пока не исполнишь.
– Верно, говорите, – поддержал его Толеген. – Как бы я, например, уехал во время посевной? Представить себе не могу.
– Пойду, покурю, – сказал Нургазы.
Следом за ним вышел и Толеген.
Мы слышали, как в соседнем купе открылась и закрылась дверь.
– Опять он к своей землячке, – сказал Иван Степанович, имея в виду Толегена. – Что-то тут неладное кроется.
Я вспомнил, как на одной из остановок, в Саратове, кажется, ко мне подбежал запыхавшийся Толеген и стал расспрашивать, куда исчезла его землячка Гуля. «С Нургазы ушла», – ничего не подозревая, ответил я. «В какую сторону? Когда?» – еще пуще заволновался он. «Успокойся, не заблудятся. У Нургазы чутье на улицы». – «Если б только на улицы!» – И Толеген помчался разыскивать их в незнакомом городе, хотя через час была назначена отправка, и они все равно пришли бы к поезду.
С тех пор он всячески мешает их встречам, не допускает, чтобы они оставались наедине. Выглядело это нелепо. Единственно, что слегка оправдывало его в наших глазах, – возможные родственные связи и обычная в таких случаях просьба родителей присмотреть за дочкой.
Раздался какой-то шум. Через стену доносились голоса, все громче, все отчетливее. Хорошие разговоры на повышенных тонах не ведутся. Мы разом поднялись.
В соседнем купе Гуля наступала на ошеломленного Толегена.
– Чего ты пристал ко мне, шага не даешь ступить! Бай-манап, вот ты кто! Дома я из-за тебя, как в клетке, думала, хоть сюда вырвусь, нет, потащился за мной, следишь – выслеживаешь… – Толеген сидел перед ней, стоящей, овладел собой, заусмехался с чувством непонятного превосходства. – Сколько говорила: уйди лучше, иначе я такое сделаю, что… – И она разрыдалась, упала ничком па полку, зарылась лицом в подушку.
– Вы ее не слушайте, болтает всякую ерунду, – сказал нам Толеген.
– Ерунду?! – Гуля вскочила, в мокрых глазах плескались гнев и презрение. – Обрадовался, что мои родители уступили твоим, согласились выдать меня замуж? Но я не хочу! Ты мне чужой человек, даже хуже, чем чужой! И отвяжись от меня!
Толеген спокойно смотрел на нее и усмехался.
– Болтаешь всякую ерунду. Самой потом стыдно будет, – сказал он.
Вошел Нургазы. То ли он слышал часть разговора, то ли догадался, в чем дело, только, отодвинув меня плечом, подступил вплотную к Толегену и сказал тихо:
– Убирайся вон! Не то…
– Ха, испугал! – хмыкнул Толеген.
– Надо бы тебе уйти, – посоветовал Иван Степанович. – Смотри, до чего Гулю довел. Не тяни, побыстрей-побыстрей!
Толеген нехотя подчинился.
Плечи у Гули подрагивали. Желая успокоиться, она повернулась к окну. Первый раз в жизни ей довелось ехать по нашей, по своей огромной стране. К бокам поезда прижимались, словно входя в нее самое, – большие и малые перелески, большие и малые реки, луга и деревни. И боль постепенно отодвигалась, затухала, высвобождала из своего насильственного плена.
Поздно вечером, когда поезд миновал Харьков, Нургазы отправился за чаем. Поднялся было за ним и Толеген. Но я остановил его:
– Слушай, а тебе не надоело?
– О чем это ты?
– Ходишь все по его следам, как сыщик, настроение людям портишь…
– Она моя невеста!
– Ты что, забыл ее слова? Может, напомнить?
– Она еще ничего не смыслит!
– Зря ты это все затеял, Толеген, – подал со своей полки голос Иван Степанович. – Раз не любит тебя, лучше и не рыпайся. Бесполезно – как при пустом баке в рейс ехать.
– А, затвердили: любит – не любит, – поморщился Толеген. – Сколько у меня знакомых, которые женились по любви, а потом остыли. Значит, возможен и обратный вариант – любить она будет после замужества.
– Ловко ты выворачиваешься, ловко. Жаль, если наше к себе доброе отношение совсем затопчешь. А до девчоночки лучше не лезь, ведь иначе ссадим мы тебя с поезда, вот так…
– Руки коротки, – огрызнулся Толеген, однако, посидев малость, разделся и улегся спать.
Перед Киевом мы стояли с Нургазы в тамбуре, он рассказывал:
– Как-то вышла со шпурами задержка. Пошел на склад, чтобы душу, понимаешь ли, отвести разговорами. Любопытно мне стало: какой у меня расход взрывчатки? Подсчитали – двадцать тонн только за год. А я уже шесть лет на тоннелях Токтогулки. Можешь прикинуть, на сколько перекрытий Нарына хватило бы той взрывчатки.
Я не стал прикидывать. До Киева оставалось минут двадцать. Поезд уже замедлял ход. Кто знает, когда еще удастся послушать мастера-взрывника Нургазы. Не очень-то он словоохотлив. Больше у других старается вызнать…
– Спрашиваешь, как я взрываю? О, это не хитрая штука. Заряжаем обычно шпуров семьдесят. Все уходят. Мне остается соединить проводки – и привет. – Он чиркает спичкой, закуривает. – По инструкции мне положено находиться в ста метрах от взрыва. Но как быть, если экскаватор даже не отгоняют дальше пятидесяти? Время поджимает. Забираюсь я в ковш этого экскаватора, начинаю над проводками колдовать. Не думай, что у меня нервы железные, тоже, понимаешь ли, ерундят. Но соединить-то нужно! Оттягиваешь мгновение, а потом – раз! Сам ничком на дно ковша, как в окопе. Все-таки взрывом кубов пятьсот отламывает. Осколки летят еще те… Стоп, приехали.
Я даже не рад был Киеву, прервавшему наш разговор. Но что делать – приехали, значит, приехали. По перрону волнами заколыхались ак-калпаки, шляпы. В плавную украинскую мову стала вливаться киргизская речь.
Рассаживаемся по автобусам. Я слушаю хрипловатый голос экскурсовода, смотрю на город, с которым давно хотел познакомиться, а мысли беспрестанно возвращаются то к Ивану Степановичу, то к Нургазы, то к Толегену или Гуле.
– Здесь мы выйдем, – говорит экскурсовод. – Перед нами Киево-Печерская лавра, если вы помните из истории…
Я снова переключаюсь. «Помнишь, как Иван Степанович полз к рельсам за рапедой? – это во мне голос Нургазы. – Риск не то, что у нас. Хотя и нам ошибаться нельзя. Вот представь: остаюсь я один в тоннеле. Мои парни отправлены в тыл. Мне надо лишь соединить эти проклятые проводки. Я остаюсь один. Сколько раз за шесть лет? Техника безопасности – великая вещь. Но ты знаешь про блуждающий ток? А электровзрыватель срабатывает при ноль-пять ампера. Вот и суди сам…».
– Отсюда виден самый большой мост через Днепр, – возвращает меня в действительность экскурсовод. – Длина его превышает один километр.
Мост на самом деле прекрасен. Вылетая из тоннеля метро, электрички мчались по нему, словно паря над Днепром. Пешеходы надолго застывали у перил.
Протиснувшись сквозь толпу туристов, увидел Нургазы.
– Как тебе мост?
– О, строить мосты – это здорово, – повернул он на свой лад. – Без взрывников не обойтись. В камерах специальных надо работать – кессонах. Час работы, а два свежий воздух глотаешь. Чтобы легкие выдержали давление.
Не успел я его еще о чем-то спросить, как рядом оказалась Гуля. Значит, поблизости и Толеген бродит. Да, конечно же, вон и он, голубчик, головой вертит, Гулю высматривает. Я шагнул ему навстречу.
– Как тебе мост?
– Мост? Причем тут мост? Где… она?
Я показал в противоположную борону. Толеген недоверчиво посмотрел на меня, провел пальцем по черной ленточке усов и… остался рядом со мной.
– Нравится город? Такое богатство архитектуры, чистейший воздух, каштаны, – заговорил я, чтобы хоть как-то сгладить возникшую неловкость. – Хотелось бы тебе здесь жить?
– А что? Вполне, – пожав плечами, рассеянно ответил он.
В купе, ставшем для нас совсем привычным, Иван Степанович шелестел газетами. Время от времени он цокал языком, вздыхал. Видно, не все ему было по нутру.
– Зашевелились контрики. Всыпать бы им как следует, чтобы не совали свой поганый нос в жизнь нашу, не мололи чепуху, от которой тошнит даже, – он отодвинул газеты, снял старомодные очки и засунул их в футляр. – Когда мы воевали, думали: последний раз, никто и никогда не засомневается в нашей правоте, не посягнет на наше дело. Не посмеет посягнуть! Неужели мы ошибались?
Нургазы подсел к нему поближе, положил поверх его руки свою, крепкую, видавшую виды руку.
Нас качнуло. Поплыл перрон, вокзал, застучали колеса. Мы продолжали свой путь по большой стране, за судьбу которой можно тревожиться, но быть в ней твердо уверенным.
В Минске мы с Нургазы не стали ждать экскурсионного автобуса. Пошли по улицам, сворачивая с одной на другую, садились в троллейбусы и выходили из них. Был он молчалив и собран, глаза сузились, будто все он собирается просмотреть насквозь, без промаха. Его интересовали дома, рекламы театров, витрины магазинов. В прохожих он вглядывался так, словно выбирал себе друзей. И сам он не казался здесь посторонним. Что-то связывало его с Минском покрепче, чем иного старожила.
Час, второй… Нургазы шагал коротко, так же коротко поворачивал голову, стараясь ничего не упускать из виду. Деревья стояли еще черные, точно обожженные. Мокрое небо висело над самыми крышами. Порой начинал накрапывать дождь. Нургазы лез в карман плаща за беретом. Спустя несколько минут дождь прекращался. «Издевается, понимаешь ли», – сказал бы он раньше. Теперь же спокойно снимал, берет и засовывал обратно в карман.
Так мы дошли до площади Победы.
– Да-а, – он медленно стал огибать площадь. – Через Минск на танке проходил мой отец. Ранили его сильно. И все-таки он жил, семнадцать лет еще жил. Видишь, и я появился на свет… – голос четкий, задумчивый. Как шаги часового.
По площади, как почти по всем большим площадям мира, разгуливали голуби. Уверенные в своей неприкосновенности, они близко подходили к людям. Один из них, сизоватый и важный, склюнул соринку с ботинка Нургазы и посмотрел вверх. Нургазы достал шоколадку – единственное, что отыскал из съедобного. Голубь обиженно повернулся и пошел прочь. Он и не собирался просить. «Извини, понимаешь ли…» – сказал ему вслед Нургазы.
На следующий день Нургазы улетел. Об этом мы узнали в самый последний момент. Нашему поезду еще предстояли остановки в Риге, Ленинграде, Москве.
– Ничего не поделаешь, – он подхватил чемоданчик, остановился у дверей. – Потом наверстаю. А там… вдруг парни меня ждут, надеются? Сами понимаете.
Мы с Иваном Степановичем стояли растерянные. Толеген куда-то запропал.
– А как же Гуля? – непроизвольно вырвалось у меня.
– Обещала приехать ко мне, – улыбнулся он.
– Не волнуйся, – сказал Иван Степанович, – мы ее в обиду не дадим.
– Знаю.
И поезд наш покатил дальше, по самой необъятной, по вольной и могучей стране, что зовется у нас Отчим домом.