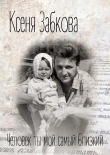Текст книги "Не жди, когда уснут боги"
Автор книги: Александр Иванов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 12 страниц)
– Полностью согласен, Валерий Павлович, – быстро проговорил Ануфриев, хотя директор ничего и не спрашивал. – Знать твердое мнение – это уже половина дела. Как по накатанной лыжне скользить – даже с закрытыми глазами можно.
– Ох, и скор ты соглашаться! – покачал головой Симонов. Прищурился, нацелив зрачки на Григория. – А что Панкратов думает?
– По мне бы свою лыжню пробить. Трудней, на верней, – ответил Григорий.
– Свою, значит? – вроде бы удивился директор. – Места на земле не хватит, если каждый захочет свою пробивать.
– Не захочет! Вы же прекрасно знаете, что не захочет! – убежденно сказал Григорий. – Большинству накатанную подавай. Встал – и покатил. Не столь важно – куда, главное – твердо и надежно. Скользи себе с закрытыми глазами…
– Э, да ты злой, Панкратов! – сказал директор, и было не понять, доволен он или осуждает.
Нахохлившийся Ануфриев стоял в углу, изо всех сил стараясь показать, что ему эти уколы, как слону дробина.
– Не обращайте внимания, Валерий Павлович, – сказал он. – Погоня за оригинальностью – и только.
– Помнится, Панкратов, – директор, казалось, пропустил реплику Ануфриева мимо ушей, – помнится, ты сам утверждал, что сверху все виднее. Где же последовательность?.. Не люблю предсказаний, но… Остаться наедине со своей правдой, свистеть в кулак и чувствовать себя героем – разве не смехотворно?.. – Он пригнул голову, шагнул к столу. – А теперь давайте о деле. Ваши соображения?
Ануфриев и Григорий подробно изложили то, о чем говорили перед его приходом. Директор выслушивал их доводы, затем лез вглубь, вширь, выворачивал все наизнанку, требовал цифровых подкреплений прямо сейчас, немедля, опротестовывал одни аргументы, защищал другие и – в конце концов, ушел удовлетворенный.
А Григорий по его милости опоздал на свидание.
Ничего, утешал он себя, а то зачастил, чуть ли не каждый день – свидание за свиданием. И сам отдохну, и ей разнообразие. Легкомысленно в моем возрасте так резко перестраиваться. То года два вообще от женщин воротило, то прилип и лапки от восторга свесил, ах, как замечательно!
Он решил воспользоваться антрактом и отправился к Виктору. Алексей и Аленка разъехались в разные стороны, изредка балуют его печальными письмами. Несмотря на спешку, с которой они все покидали, торопясь поскорее уехать, умчаться друг от друга и от места, где произошло несчастье, Аленка все-таки умудрилась оформить передачу квартиры какой-то семейной своей подруге на временное пользование. А Григорий до сих пор винит себя: вот если бы не Магомаев, вот если бы успел!..
Виктор лежал на тахте и слушал пластинку.
Мне нравится, что вы больны не мной,
Мне нравится, что я больна не вами,
Что никогда тяжелый шар земной
Не поплывет под нашими ногами.
– Вить, я очень злой? – спросил Григорий, как спрашивают невпопад о чем-то таком, что висит на душе и ничем его не снимешь.
Виктор приподнялся на локтях, длинная тонкая шея его еще больше вытянулась, серые глаза изучающе глянули на друга.
– Нет, Гриша, – сказал он, – ты не злой. Ты жесткий, как мясо старого верблюда. Сомневаюсь, что кому-то охота тебя пожевать. Может, я и не прав. Но уж абсолютно точно: углы режешь почем зря. А у нас и земля, и формы ее обитателей, и ракеты – кругом овальным линиям простор. А тебе углы подавай. И самые острые. Я тоже, поверь, ценю прямолинейность, но – прямолинейность течения большой реки, а не комариного полета.
– Но не могу же я совмещать в себе и овальность, и углы! – возразил Григорий.
– Пожалуйста. Только не возмущайся, когда это сочетается в других.
Григорий посидел в кресле, походил по комнате, уселся на край тахты.
– Вить, а если бы ты застал ночью свою Земфиру с цыганом? Что бы ты сделал?
– Уже началось? – Виктор горестно тряхнул волосами. – Рановато для Зои…
– Причем тут Зоя? – с яростью перебил Григорий.
– А, это тест на соблюдение морального кодекса!.. Так знай: я бы предпринял все, чтобы отбить Земфиру у цыгана. Ведь свою жену отбивать гораздо благородней, чем чужую. Но потом, возможно, сам бы оставил ее…
– Все-то ты понимаешь, а не женишься. Отчего?
– Потому и не женюсь, что понимаю. Из теоретиков всегда дрянные практики выходят. Хотя… Пока любой из нас, взяв молоток, не расшибет себе пальцы, он считает, что в нем зарыт талант плотника.
8
Цех выбивался из сил и наращивал показатели, так необходимые заводу. Особенно круто приходилось на участке по выпуску расточных станков, где в свое время работал Григорий. Именно здесь решалась судьба плана, потому что станок – не какие-нибудь плоскогубцы и сборка его сразу заметна на заводском горизонте.
Григорий был откровенен с парнями. Конечно, если б все шло нормально, если б кое-кто не напорол глупостей, вряд ли бы ему пришлось ораторствовать перед ними и призывать к перегрузкам. Уж коли по-честному, то никаких объективных причин нет. Просто многие неполадки свалились разом в одну кучу, и надо поднатужиться, протащить завод на своих плечах, чтобы те, кому следует, успели во всем разобраться, все отладить.
Парни для порядка погудели, но согласились: отступать уже некуда. Тем более что Григорию они верили, знали, что человек он деловой и просить о чем-либо зря не станет. Только Гошка с редкой звериной фамилией Носорогов и тоненьким птичьим носиком буркнул вроде бы недовольно:
– Бывший товарищ в роли кровопийцы. Ай, как нехорошо! Хотя бы постарался, чтобы обстоятельства, которые правят нами, совпадали с нашими интересами.
Улыбнулся Гошка, замолк и пошел к своему станку. Работать пора, а от работы его никакими директивами не оторвешь.
Григорий рассказывал как-то Зое об этих парнях, ну и о Гошке Носорогове тоже. Услышав его фамилию, она долго смеялась, прикладывая пухлые, как оладышки, ладони к повлажневшим глазам.
– Он, видно, живет по соседству со мной, этот Гоша, – отсмеявшись, сказала она. – Утром у нас на остановке обычно толчея. Однажды я вышла пораньше, чтобы не очень спешить, а он, бедняга, вероятно, запаздывал. У автобусных дверей не протолкнуться. Вдруг слышу: «Пропустите, товарищи! Срочный опасный груз! Пропустите, товарищи!..» Люди от неожиданности расступились, и он свободненько, даже не лишившись пуговицы, попал в автобус. Там на него набросились: «Нахал! Обманщик! Все давятся, а он – как чрезвычайный посол…» – «Зачем обманщик? – сказал Гоша. – Я на работу тороплюсь. Не меньше, чем ваш посол. И даже больше. Вы когда-нибудь видели, чтобы носорог торопился, на работу? Нет. Так смотрите! Ибо я есть самый настоящий Носорогов. Желаете убедиться?» И он достал паспорт.
А вот Ануфриева Зоя не помнила. На одном факультете учились, а не помнила. Странная штука – человеческая память. След в ней оставляют не долгожители, а те, кто беспощадно тратит себя на острое словцо или великое открытие.
…Чуть ли не ежедневно, завершая свой марафон по заводу, Симонов задерживался в механическом. Ах, до чего прекрасные настали времена в поставке материалов из других цехов! Прямо молочная река и кисельные берега. Только сам успевай поворачиваться да поживей, поживей, чтобы время, коснувшись твоего станка, дымилось и отступало прочь.
Будь Григорий начальником цеха, он бы спросил Симонова: «Уважаемый Валерий Павлович, вы мне доверяете?» – «О, да!» – ответил бы тот. – «В таком случае, простите, не совсем понятны ваши затяжные визиты в механический. Или они продиктованы личной симпатией к моей персоне?» Директор бы, разумеется, смутился, пробормотал бы что-нибудь несущественное о своем долге находиться в гуще масс, на трудном участке. Но Григорий бы остановил его оправдательную речь и выдал под занавес: «За доверие – спасибо! Позвольте же мне работать без мелкого опекунства. Оно, простите, для меня оскорбительно».
Но Григорий не был начальником цеха, и потому директор продолжал свои затяжные визиты в механический. Ануфриев, казалось, лоснится от счастья, мелкой рысцой бежит ему навстречу, сопровождает его, ловит каждое его слово и делает пометки в блокноте с неизменными красными корочками.
Чаще всего они простаивали на участке расточных станков. Хотя этот участок, по мнению Григория, не нуждался в повышенном к себе внимании. Уж больно хорошие здесь парни, один Гошка Носорогов чего стоит. А Рысбек Качкеев, а Левка Халдеев?.. Как тосковал Григории по своему прежнему рабочему месту, потому что находилось оно среди них, этих парней. Когда цех был пуст, его туда не тянуло, но стоило бригаде встать к станкам, и сердце начинало ныть, звать, проситься. Бывало, он не выдерживал, шел на участок, и кто-нибудь из ребят уступал ему на пяток минут свое рабочее место. После этого им с новой силой овладевало великолепное ощущение свежести и крепости бытия.
Нет, на таком участке директор простаивал совершенно зря.
Другое дело линия по изготовлению инструмента для сельхозмашин. Григорий нутром чуял: вот где темный лес, вот где надо копнуть поглубже. Первое, что он предложил: навести порядок в технологическом процессе, чтобы получаемая из кузнечного цеха штамповка, скажем, для разводного ключа не перетаскивалась в ящиках взад-вперед, а двигалась в одном направлении соответственно очередности операций. Ничего сверхъестественного в этом не было. Ануфриев поохал, согласился, но, как всегда, стал оттягивать. А теперь и вовсе перемонтаж фрезерных станков застрял на неопределенное время.
Ладно, думал Григорий, горячка малость спадет, и я своего добьюсь. Он уже радовался тому, что способен не лезть напролом, выжидать, чтобы потом бить наверняка, когда все вдруг завертелось, полетело вверх тормашками и от этой его трезвой расчетливости остались рожки да ножки.
Действие развернулось на участке по сборке разводных ключей. На том самом, о котором давно ходили разные слухи. Как только появлялись в цехе мужички поизворотливее да похитрее, сразу, едва принюхавшись, норовили попасть туда.
В свое время передовой бригадир Григорий Панкратов особенно не вникал, какими сказочными плодами манит их участок сборки. Передовой бригадир висел на заводской доске Почета и был выше всяких непроверенных слухов.
Став нормировщиком-экономистом, Григорий Панкратов пересмотрел свои старые взгляды и всерьез заинтересовался этим участком. На размышления его натолкнула бригада слесарей Федора Чередниченко. Ни с того, ни с сего в ней возникла узенькая и плоская фигура небезызвестного Останкова или попросту дяди Мити. А рыжий, с веселым роем веснушек на щеках Павлик Нефедов оказался перебазированным на сверлильный станок, откуда даже женщины бегут, по причине скуки и малого заработка.
Над кадрами властен начальник цеха, и Григорий спросил его, из каких соображений произведена эта перестановка. Ануфриев похлопал белесыми ресницами, что означало усиленную работу мысли, и ответил, что такова была просьба бригадира.
– Но почему? Хоть маломальские мотивы есть? – недоумевал Григорий.
– Как же, как же… – Обычно многословный Ануфриев попал в тупик, только бекал и мекал, пока, наконец, не сообразил воспользоваться общими фразами-ярлыками: – Нефедов вроде бы того, зазнался, перестал бригадира слушать, не реагировал на его замечания…
– Но замечания замечаниям рознь…
Ануфриев развел руками и глубоко вздохнул, как бы сожалея, что по таким вот пустякам вынужден тратить время. Бригадир предложил, Нефедов жаловаться не стал – зачем же вести об этом речь и морочить друг другу голову?
А клубок распутывался просто. Павлик Нефедов помялся-помялся, а потом не выдержал и выложил все как есть.
В чередниченковской бригаде он был самый новенький. Поработал месяц-другой, и от радости глаза на лоб полезли: сменное задание одолел в полсмены. Ну, думает, прибавлю еще сноровки – и пятилетка в три года у меня в кармане. Газетчики нахлынут, портреты, интервью… И вдруг посередине мечтаний обожгла коварная мысль: почему же те, кто поднаторел на сборке, остаются в тени? Способностей-то великих у него тоже нет… Или случайность? Но чем дальше, тем лучше и лучше шло. Чередниченко, с которым он мечтал сфотографироваться для газеты вместе, помог ему быстренько спуститься на грешную землю.
– Дурак ты, паря! – добродушно сказал он. – Ты что, имеешь комсомольское поручение стать передовиком? Ага, не имеешь? Тогда зачем свою золотую голову под пресс кладешь? Или у тебя нет девчонки, чтобы ей на колени класть? Без поручения начни вкалывать – сходу норму повысят. Нажмешь еще – опять повысят. Пока пупок не развяжется. Делай, как мы – и будешь ходить к девчонкам бодреньким, не замордованным тяжким трудом. Усек? И чтоб к этой теме больше не возвращался.
Павлик был нормальный здоровый человек, привыкший не отказывать себе ни в чем, даже в работе, и его затошнило, когда он попытался делать, как остальные. Тянучка, нарочитая несобранность движений, перетаскивание ключей из угла в угол, бесконечные перекуры… А результат отменный – более полторы нормы на брата. Не передовики, но около. «И заработок, и свежесть тела», – как говаривал Чередниченко.
Павлик пошел против течения. Пусть бригадир сам морокует, как быть с перевыполнением, пусть хоть делит поровну, его это не слишком волнует, но работать он должен на совесть.
– По-твоему, мы бессовестные, да? – Чередниченко добродушно осклабился всеми тридцатью двумя стальными зубами. – Один затесался среди нас порядочный, да? А я-то думал, что рыжие поумнее… Валяй отсюдова! И не трепись. Усек?
Выслушав Павлика, Григорий спросил, почему ж он молчал до сих пор? Испугался, что ли?
– Вот еще! – обиделся Павлик. И пояснил: – Жалко, детишек у них полно.
– Да на кой они нужны, детишки их, если с пеленок привыкнут нечестный хлеб жрать? – заорал Григорий. – Подпольные тунеядцы под боком, а ты… У, молодежь пошла!
Чередниченко знал, что в любой момент может нагрянуть нормировщик. Но чувствовал себя он весьма уверенно. Мужички в бригаде подобрались тертые, голыми руками не возьмешь. Был один свихнутый, да сплыл. В остальных бригадир не сомневался: всем приемам обучены.
– К нам? Пора, пора, – встретил он Григория, который остановился в сторонке, чтобы понаблюдать, как работает бригада. Лохматый, широкий, грузный, Чередниченко оттеснил Григория, заслонил собой и стал жаловаться, насколько им тяжело справляться с заданием. К вечеру ноги еле держат, плечи ноют, голова трещит – аж не хочется жить. Единственное спасение – стакан водки одним махом. Но жена опять-таки… Выручил бы Григорий, подкинул бы работенку полегче.
А Григорий думал: «И как таких земля терпит, сколько пакости от них. Эх, если б рабочих рук было вдоволь, скинули бы всю шваль за борт…»
– Полагаю, что вы меня поймете, – сказал он сдержанно, – без эмоций и лишних слов. Я собираюсь срезать вам расценки.
– Что? – будто бы удивился Чередниченко.
– Не «что», а «на сколько». И запомните, пожалуйста, вежливость моего обращения. А то один пытался… Впрочем, вы это знаете. Ну, а расценки собираюсь срезать на треть. Или возражаете?
У огромного Чередниченко по-бабьи размякло лицо.
– Напрасно вы это затеяли, ведь даже сейчас едва-едва вытягиваем, – плаксивым баском тянул он. – Не трогали б расценки, а? У нас люди семейные, каждая копейка на счету. Смертельно обидите. Вкалываем как ломовые лошади, поощрения, облегчения ждем, но где там… Разве ж до вас дойдет…
– Перестаньте, Чередниченко! – резко оборвал его Григорий, которому надоело это кривлянье. – Согласны или нет?
– Нет!
– Буду снимать хронометраж.
– Валяй, – снисходительно сказал-разрешил Чередниченко. – Только поостерегись, не перегни свой хронометраж. Мы-то с железками дело имеем.
Григорий стал присматриваться, изучать, кто в бригаде, чем занят. Разводной ключ, попав сюда после фрезеровки, доводится до ума и отправляется на закалку. Последний этап…
Он пристроился возле Чередниченко, готовясь, якобы, хронометрировать его работу.
Ну, и цирк начался! С каким наслаждением бригадир плутал в ящике, с трудом, чертыхаясь, находил ось червяка, вставлял ее, чуть ли не до зеркального блеска зачищал напильником зев… Он был неподражаем в своей нарочитой натужности и, вероятно, восхищался собой. Не всякому дано из нормировщика дурака лепить.
А нормировщик меж тем хронометрировал работу его соседа, Останкова.
Когда все было готово, подсчитано и выверено, Григорий подозвал Чередниченко и доказал, что срезать надо еще больше. Тот на дыбы…
9
Это ж надо, милое, мягонькое создание, умница притом, а пристала, словно клещами взяла: расскажи да расскажи, что у тебя там такое стряслось, почему два года на женщин глядеть не мог?
И зачем ей знать? Может, она думает, что какая-нибудь трагическая любовь его надломила? Или коварная незнакомка заставила сомневаться в собственных силах? А может, в ее головке засели нелепости еще похлеще? Попробуй, угадай… Сколько раз он с достоинством отклонял ее просьбу, переводил разговор на другие темы, рассказывал о своих друзьях, о делах в цехе. Но женское упрямство сметет любые заслоны. Ему, как лазерному лучу, все нипочем.
– Ну, зачем тебе это надо? – взмолился Григорий. – Кому приятно ворошить неприятное? Клянусь, никакая конкретная женщина там не замешана. Вернее, замешана, но я ее даже в лицо не видел. И, дай бог, никогда не увижу. Теперь я с тобой. Чего еще?
И услышал спокойный, прямо-таки библейский ответ:
– Я хочу знать все о тебе.
Когда женщина так говорит, она наверняка готовится стать вашей женой, и тут уж ничего не поделаешь.
– Что ж, будь, по-твоему, – наконец великодушно сдался Григорий. – Но учти, с бо́льшим бы удовольствием я бы рассказал о проделках чередниченковской бригады. И тебе, как инженеру-экономисту, было бы полезней.
– Сто раз ты уже рассказывал. Всяких Ануфриевых, Симоновых, Чередниченко я знаю лучше, чем тебя.
– Будь, по-твоему, – повторил он. – Может, зажечь свет?
Темнело. Они сидели в его комнате, где не было ничего из предметов роскоши, кроме книг и музыки. Как и у Виктора, и у многих тысяч холостяков, запоздавших с выбором спутниц.
– Пока не включай. Я и без того тебя хорошо вижу, – сказала Зоя и пододвинулась поближе к нему.
– Дело было летом, летом, – начал он с вынырнувших откуда-то слов эстрадной песенки. – Фу, дурацкий мотивчик! Но дело действительно было летом. Поздним вечером. Даже, пожалуй, слишком поздним для нашего города. Ведь каждый город имеет свой регламент. Я возвращался из кино. Последний сеанс. Иду по улице, почти по центральной, а впереди девчонка… Да… На меня фильмы и книги, как на иных вино, действуют. Хотел познакомиться. Но пока иду следом. И не близко, и не далеко. И вот у перекрестка, темного перекрестка, тогда еще там овощные ларьки стояли, потом их снесли, кинулись к девчонке двое.
Зоя откачнулась слегка от Григория, напряглась, крепко-крепко сцепила пальцы рук, пораженная совпадением, онемевшая, испуганная, будто сию минуту, сейчас повторится все это с ней сызнова, второй раз…
– Она и крикнуть не успела, – продолжал Григорий, – схватили ее за руки и поволокли в сторону этих самых ларьков. Тут я подскакиваю, стукнул одного крепенько, в подбородок угодил, а со вторым замешкался. И в это время на меня еще несколько… Били чем попало и куда попало, разукрасили, как могли. Но пока глаза не затекли, видел, четко видел: отбежала девчонка подальше, постояла чуточку и – наутек. Хотя никто за ней не гнался, мною заняты были. В неотложке я недели две провалялся. Сотрясение и все такое прочее. Читать не разрешают, а думать… На мысли запрета нет. Намучился я с этими мыслями. Ну что, не человек она, что ли? Понятно, женщина существо робкое, беззащитное, но голосовые-то связки помощней наших, заорать-то она могла, чтоб люди сбежались? Ведь еще малость – и мне бы каюк. Случайно какой-то таксист поворачивал в эту сторону, осветил фарами и приостановился: зрелище-то любопытное. Вот они и разбежались… Не в обиду тебе будь сказано, однако мужчина бы так никогда не поступил. Оставить того, кто по доброй воле бросился на выручку, и давать деру… В голове не укладывается. Эх!.. Долго после этого я не мог смотреть на вашего брата как положено… Зажечь свет?
– Нет, нет! Посидим в темноте.
Странный народ женщины, сами напросятся, выпытают, а потом, глядь, себе ж на беду.
Зоя плакала. У маленьких и пухленьких вообще слез тьма. Катятся из огромных глаз, как ручьи по весне. Хорошо хоть без света, Гриша не видит. Да и увидел бы, подумал, что из состраданья к нему. А тут совсем другие слезы…
Как он только про тот злополучный перекресток заговорил, у нее захолонуло сердце, внутри так и оборвалось, она сразу все вспомнила. Не забывала вроде, не потушено было, но вдруг вспыхнуло, ослепило. Ошеломленная всем этим, едва владея собой, она хотела закричать, чтоб он не рассказывал дальше, ей хотелось провалиться сквозь землю, закрыться чем-нибудь прочным и непроницаемым, забиться в угол, исчезнуть, испариться и никогда не попадаться ему на глаза, никогда, никогда! Она чувствовала себя скверным, пакостным человечком, гномом, сороконожкой, к которой с детства питала отвращение; ее одолевала дрожь, противная, мелкая, знобящая; так дрожат неопавшие листья на ноябрьском ветру. Перепуганная насмерть, как, пожалуй, не была перепугана в тот проклятый вечер, она беспомощно металась в себе, ища спасительную лазейку, выход, узенькую щелочку, чтобы протиснуться, спрятаться, замуроваться, во ничего так и не находила.
Тогда на ее стороне был Гриша, неизвестный и смелый Гриша, вступивший за нее в драку. Теперь Гриша, с которым она вся-вся сроднилась, может выгнать, отхлестать по щекам, проклясть – и будет прав, тысячу раз прав.
О, до чего щедра жизнь на совпадения – и радостные, и горькие!..
Как она посмела убежать, бросить его? Растерялась? Струсила? Или в ней сидит – ведь в каждом человеке кто-нибудь да сидит – гнусненький предатель, способный в любой миг нажать на кнопку – и ты уже не ты: можешь подвести, подставить ножку, ударить в спину… Зоя вздрогнула всем телом, словно ощутила град ударов, обрушившихся тогда на Гришу.
– Что с тобой? – услышала она его голос. Крепко и бережно он привлек ее к себе, провел ладонью по волосам, как гладят ребенка. – Мерзлячка несчастная. При такой температуре страусы выводятся и цитрусовые плодоносят пять раз в год. Давай перегородим эту комнату пополам, создадим парниковое хозяйство и будем в самые бешеные морозы приглашать друзей и поедать в огромных количествах свежие овощи. А можно посадить розы, чайные розы, в них важности поменьше, зато пахнут как!.. Будем сидеть и наслаждаться. Правда, наслаждение продукт нерентабельный, но по мне только ради него и стоит дымить заводам и гудеть поездам. Или я никчемный экономист, а?
– Ты великий экономист. Отрасти усы, бороду и тебя возьмут по совместительству в ботанический сад. Великие экономисты всегда что-нибудь да совмещают.
О, она еще в состоянии шутить! Знал бы Гриша, каково ей сейчас.
Ну и знал бы? И что? Она представила, как разомкнутся обнимающие ее руки, как резко отодвинется, отстранится он весь, как холодный чужой голос бросит ей в лицо то, что она заслужила, – и ей стало жутко. Как же быть? Пасть на колени, объяснить необъяснимое? Но разве он простит?.. Или простит? Но ведь может и не простить…
Неужели все кончено? Почему, почему кончено? Ему-то ничего не известно и никогда не станет известно. Да, но она-то сама…
Кто знает, сколько дней и ночей предстоит Зое мучиться, решать для себя: признаться или не признаться, уйти от Григория и тем самым освободить его от соседства с ложью, или остаться, своей жизнью искупить вину пред ним?… Быть может, придет время и она, проснувшись утром рядом с ним, глядя, как на детской кроватке купается в солнечных лучах крохотное розовое существо, расскажет все. А может, и не случится такой идиллической картины в ее жизни. Как говорят философы, все будет когда-нибудь потом, потому что все когда-нибудь будет.
А пока она молчала и слушала о делах и взаимоотношениях в механическом, о перестройке, которую он задумал, о том, из-за чего эта перестройка откладывается, хотя очень выгодна цеху, о совершенно чужих и, пожалуй, безразличных ей в данный момент людях, без которых нет и не могло быть ее Григория.
Лишь однажды он отвлекся, чтобы спросить:
– Кстати, ты убедилась, что в той истории не оказалось ничего такого… Ну, понимаешь?..
– Да, да, убедилась, – быстро согласилась Зоя.
Ах, если бы так же легко и просто его понимали на работе!
Ануфриев распыхтелся, узнав о намерении Григория срезать расценки и повысить нормы на сборке разводных ключей. Догадлив Чередниченко, ничего не скажешь, сумел сыграть на том, что начальник цеха боится всяких осложнений, перемен, конфликтов, особенно, если намекнуть, что они отразятся на плане, репутации цеха. Обработал Ануфриев, повернул на свой лад.
– Вы поступаете опрометчиво, нельзя спешить там, где речь идет о рабочем человеке, о его профессиональной гордости, о плане, наконец. Люди трудятся, по полтора сменных задания выдают, а им это в укор ставится. Снимайте хронометраж, вникайте в экономику цеха, но зачем травмировать целую бригаду? Не те методы, Григорий Александрович! В прошлый раз Останкова оскорбили, теперь… – Ануфриев скакал по огромному кабинету, смешно подпрыгивая, как мальчишка на прутике, а Григорий с тоской думал, какой великолепный парник получился бы из этого кабинета; все бы рабочие хрустели в перерыв огурцами и ели мясистые, краснощекие помидоры.
Но вместо парника был Ануфриев с помидорными щеками и какими-то полунаставительными, полупросительными манерами.
– А нормы все-таки придется повысить, – сказал Григорий.
– Вполне возможно. Надо только основательно проверить, обговорить с рабочими, утрясти… Время сейчас неподходящее – заводской план тянем. Сбавит бригада темп – и застопорится продукция.
– Не застопорится. По новому сменному заданию они должны выдавать ее еще больше.
– Но вы не знаете настрой бригады, а я знаю, – губы Ануфриева начали свинцоветь. – Они считают ваши действия необоснованными и предвзятыми. Условия труда на участке остались прежними. Где основание для пересмотра норм? И потом… с этим Останковым. Тогда у вас конфуз вышел. Не преследуете ли вы его за критику?
– Какой конфуз, какая критика?! – взорвался Григорий, – о чем разговор? Бригада по существу расхищает государственные средства, а начальник цеха пляшет под дудочку всяких Чередниченко и Останковых да еще печется, как бы их не обидели. Черт знает что! Я кем работаю? Нормировщиком-экономистом. Правильно? Позвольте же мне выполнять свои обязанности так, как я считаю нужным.
Ануфриев перестал бегать вприпрыжку по кабинету, остановился рядом.
– Скажите, Григорий Александрович, – голос его стал тихим, доверительным, – если цех завалит план, кто получит по шапке?
– Старая, как мир, песня! Ну, и получите! Ну, и по заслугам! Будь моя власть…
– Но, но! – Ануфриев прыгнул в широкое кресло и заелозил задом. – Почему вы себя так вызывающе ведете? Не забывайтесь! Я терпелив, очень терпелив, но не беспредельно. Вы все время хотите подменить мои функции…
– Плевать я хотел на ваши функции! – озлился Григорий. – Работать надо, порядок наводить, а вы за свой «престол» дрожите и под ногами путаетесь! – хлопнув дверью, он ушел к себе с твердым намерением не отступать.
В самом деле, сколько можно? Чего бы он ни предложил – подожди, не торопись, как-нибудь потом… И вроде бы согласен, и вместе с тем – кукиш с маслом.
Механический цех большой, не одна сотня людей в нем, но если затевается что крутое, все знают. Еще до него далеко, еще ни молний, ни грома, а дыхание грозы, ее отсветы уже видны на лицах.
Гошка Носорогов сидел за его обшарпанным столом и давил прошлогоднюю муху в чернильном приборе.
– Не пользуешься этой канцелярской штукой? Оно и правильно. Шариковые ручки дешевеют со страшной силой. Ну чего маячишь? Садись! – Гошка величественным жестом указал на скамью. – Спроси меня, зачем я сюда пришел? И я отвечу: дать мудрый совет. Чтобы раздраконить эту шатию-братию, нужно подыскать ей замену. Мужички ушлые, себе цену знают, возьмут и прогуляют день-другой. Прикинь, сноровистых ребят на других участках много. Пятерых подобрать не проблема. Зачем делу страдать?
– Так ты думаешь…
– Уверен, наш бывший коллега в роли кровопийцы, Чередниченко на любые фортели способен. Когда наши узнали, куда ты клонишь – жаль только, что не от тебя узнали, – и обрадовались, и обеспокоились. Не будь сейчас закрутки, мы сами могли бы лишнюю смену вместо них отстоять, но ничего, подберем богатырей.
– Слушай, Гоша, а не отложить ли эту затею до более спокойной поры, – заколебался Григорий. – Кое-кто мне так советует.
– Да ты что, блином подавился? – Гошка вскочил, туловище его дернулось вперед, и он застыл вопросительным знаком. – Гони в шею таких советчиков! Ишь, чего захотели! Народ уже поговаривает: сколько раз на Чередниченко замахивались, а с него как с гуся вода. Но ты же боевой товарищ, решительней бригадира в цехе не было! – Он впился глазами в склоненную голову Григория и уже тише добавил: – А то смотри. На смирных и послушных ба-а-льшая мода!
Потом забегал к нему Павлик Нефедов, возбужденный, сияющий, как только что выточенная деталь.
– Пошла-поехала карусель, – сообщил он, приглаживая вихры. – Засуетились в предчувствии близкого краха. Но хорохорятся! Останков, знаешь, что заявляет? Чихать я хотел на возню этого молокососа. Нет, дескать, у него права повышать нам норму. А посмеет, на работу не выйду, сам приползет, умолять будет. Ну, а я поинтересовался, как же детишки без его заработка обойдутся? Чепуха, говорит, гарнитур продам, но себя в обиду не дам.
Григорий просматривал талмуды своего предшественника, стараясь понять, где же произошла накладка? Нормы явно занижены. Тут что-то не так. Или случайно, или преднамеренно, но что-то не так. Он уверен в этом. Не отрываясь от бумаг, заметил как бы мимоходом:
– Между прочим. Павлик, перерыв уже кончился.
Нефедов даже растерялся, поник сразу, буркнул что-то невразумительное и скрылся за дверью.
Ага! Вот она, голубушка! Григорий чуть в пляс не пустился, обнаружив ошибку. Конечно, если уж подходить по-честному, то не радоваться, а горевать нужно. В расценках значилось несколько операций, которые давным-давно на этом участке не выполнялись.
Допустим, размышлял он, доводы для пересмотра норм теперь еще более весомые. Но разве Ануфриева уломаешь? Директорское слово на лету ловит… Стоп! А почему бы к директору не сходить? Светлая голова, поймет, поможет. Григорий сгреб со стола бумаги, сунул их в тумбу, одернул пиджак, словно уже находился в приемной, и… передумал.
Что он, склочник, жалобщик? Почему он должен постоянно уговаривать, уламывать: для государства, а значит, и для нас с вами, так выгодней, а не эдак. Задачи и цели у всех вроде общие, но поворот к ним разный: одни лицом, другие боком, третьи спиной повернулись. Тряхнуть бы тех, кто не лицом, чтоб сильно почувствовали, на какой земле живут, какой хлеб едят.