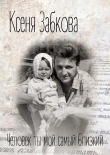Текст книги "Не жди, когда уснут боги"
Автор книги: Александр Иванов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 12 страниц)
Бывало, когда Михаил с Сергеем куда-то уходили, звонила Рита. Справившись у Ольги Петровны о его здоровье, давала понять, что пора бы ему самому наведаться к ней, сводить в театр. Не такой уж он сейчас больной, да и временем, вроде, располагает. Мать только тяжко вздыхала в трубку.
– Ты бы заглянул к Рите, – говорила она сыну. – Мучается ведь. Опять звонила.
– Завтра загляну, – рассеянно обещал Михаил.
Массаж, гимнастика делали свое дело. Пальцы вновь обрели силу, упругость, уверенность, гибкость. С яростным изяществом истосковавшихся поклонников они обрушивались на клавиши, и квартира, переполненная звуками, становилась тесной, как тесны реке берега в весеннее половодье.
Михаил страдал, приходил в восторг, не знал ни устали, ни покоя, стремился поскорее вернуться на сцену, окунуть зал в тревожную бездну мыслей и чувств. Он знал: намечается его концерт, а милейшая тетя Даша шепнула: не вздумай цветочки покупать, там наши готовятся для тебя оранжереи «Зеленстроя» ограбить.
За всеми этими заботами Михаил как-то забыл, что Сергей просил подождать его у проходной. В день получки могли перехватить старые дружки. «Все в нем хорошо, только вот твердости маловато, – думал Михаил, спеша к месту встречи. – Эх, переломил бы себя разок-другой!..»
К проходной опоздал. Проискал Сергея часа два. Нашел в общежитии, где тот восседал на стуле со сломанной спинкой и с жаром доказывал хмельным дружкам, что «литр из горла ему нипочем». Появление Михаила его огорчило.
– Извините, я мигом, – и, набычившись, по-боксерски сведя крутые плечи, вышел из комнаты. Цепко взял Михаила за локоть, притянул поближе. – Зачем притащился? Чего тебе от меня нужно? Позволь человеку жить так, как ему самому хочется!
– Но ты же просил…
– Просил, просил, – скривив рот, передразнил Сергей. – Умеешь душу бередить, в праведники переманивать. А теперь, – он пьяно подмигнул, – отчаливай, пока мои друзья не рассерчали.
Давно Михаилу не было так скверно. Будто его всенародно высекли. Не за провинность, нет, просто потехи ради. Противно и глупо. Он злился, негодовал на себя.
Дома, едва раздевшись, позвонил Рите. Немедля нужно объясниться. Совместная поездка на гастроли в Прибалтику ничуть не хуже свадебного путешествия.
К телефону подошел, Ритин отец, Михаил живо представил его: добродушного и полнотелого, с тугим хохолком медных волос.
– Будьте добры, пригласите Риту, – попросил он.
– А, это ты, Михаил. Здравствуй. Нет Риты, ушла – голос показался скучным, точно отец Риты исполнил неприятную обязанность.
– Тогда дайте телефон, по которому я могу ее отыскать. Она всегда для меня оставляет.
Наступила гнетущая пауза. Потом:
– Ты когда последний раз виделся с Ритой? Молчишь? То-то. Она не только телефонов тебе не оставляет, но и сказала, что больше знать тебя не желает.
Достукался! Допрыгался! Михаил застыл в оцепенении с какой-то злорадной усмешкой на лице. Все совершенно правильно. Иного и быть не могло. Молодец, Рита! Так ему, дураку, и надо!..
Дверь без стука отворилась, и на пороге возник Сергей.
– Ты не гневись, – заговорил, было, он и тут же смолк, потому что Михаил ринулся на него, вцепился, изо всех сил стал трясти, блестя ошалевшими от обиды глазами и повторяя:
– Ты у меня за все ответишь, гусь забулдыжный! Я тебе задам трепку!
– Осторожно, – Сергей без труда высвободился. – Мне завтра этими руками сверхплановые детали стране давать. – Повернулся к Ольге Петровне, молча наблюдавшей за происходящим. – Что с ним творится?
– Что творится? И ты еще спрашиваешь? – несвойственная резкость тона Ольги Петровны удивила даже Михаила. – Вон сколько он с тобой провозился!.. А результат? Ты по-прежнему пьян. А с ним Рита знаться не хочет. Или тебе этого мало?
– Вовсе я не, пьян, – воспротивился Сергей, действительно моментально протрезвевший. – Рита вернется, куда ей деться. Они всегда возвращаются.
А сам сник, опустился одетым на диван, плотно сдвинув колени и положив на них свои крупные руки. Он думал о чем-то еще не совсем ясном, но важном для себя, и думам этим не было видно ни конца, ни края. Пока же надо было подыскать, чем сгладить; облегчить нынешнее положение, уж больно круто замешанное. Предложил заискивающе:
– Может, послезавтра в филармонию сходим? Понимаешь, профсоюз всучил два билета. Там, говорят, какой-то хороший пианист выступает. Твой тезка, а вот фамилию я забыл. Ты же интересуешься этим…
Михаил закашлялся и отвернулся к окну. Крупный размашистый снег создавал как бы сплошную движущуюся стену, соединяющую небо с землей.
СПЕШУ ОТКРЫВАТЬ ДВЕРЬ
Я шел по тропе и дивился тому, что происходило вокруг.
Глубокие, голубоватые снега, заполнившие уходящее вверх горное пространство, застенчиво светились и подрагивали, словно невеста красная, от прикосновения запоздалого утреннего солнца.
Приваленные рассыпчатыми белыми хлопьями, коренастые ели источали запахи морозные, резкие и пронзительные, как тоска по чему-то далекому и несбывшемуся. То там, то здесь встречались легкие, с едва приметкой вмятинкой по бокам следы птиц или хитроумная вязь маленьких зверушек. Но сами они попрятались, притаились, поглядывая на меня, наверное, с любопытством из своих убежищ.
Город, который я только что оставил, еще не успокоился после минувшей новогодней ночи. Хлопали двери ранних магазинов, заспанно и нетвердо двигались машины и люди. Праздник продолжался, и каждый, понятно, метил его по-своему.
Шофер пригородного автобуса скосился на меня, как на зачумленного. Да и был в этом кое-какой резон: нормальные люди в компаниях, среди друзей, чинно и благородно посиживают за столом или, в крайнем случае, отсылаются в теплых постелях, а я один-одинешенек тащусь, бог знает, куда и зачем. Он протиснул пятерню под тугую шапку-ушанку, яростно потер чуть пониже затылка, выражая тем самым полное презрение к моей персоне, потом вдруг спросил с участием: «Поругался, что ли?».
Я промолчал. Не станешь же объяснять, что друзья у меня страстные любители лыж, что именно мне выпал жребий покинуть застолье и отправиться в горы на поиски подходящего плато, где бы снег сохранялся особенно долго, может, до самого апреля. Да и потом, думал я, всегда ли надо выводить из заблуждения того, кто заблуждается по своей воле?
Водитель ворочался в тесной кабине, ища какой-то спасительный выход. Он на самом деле хотел помочь мне; бесприютность моя его угнетала. Наконец выпалил:
– Нечего мудрить. Сейчас я отвезу тебя к себе домой. Там гостей полно. Притрешься пока, смена моя и закончится. Ух, и кутнем! Договорились?
Будучи совершенно уверен в моем согласии, он даже как-то растерялся, обиделся, когда я покачал головой.
– Ну и черт с тобой! – буркнул запоздало, нажимая на стартер.
Больше он со мной не заговаривал. И демонстративно полез под сиденье, загремел ключами, когда настал мой черед выходить на последней остановке.
Тропа была давней, ее основательно присыпало снегом, но она все равно угадывалась, как человеческое тело под одеждой. И надо ступать твердо, не оскальзываясь, чтобы тропа оставалась ладной, без изъянов, чтобы идущий следом поминал тебя добрым словом.
Шел я долго и не спеша, попутно прикидывал крутизну, протяженность и заснеженность склонов, их разворот к солнцу. Иные были вполне подходящи для головокружительных спусков, иные не очень, а поскольку время позволяло выбирать, тропа уводила меня все дальше и дальше.
К вечеру, когда солнце, отбыв свой короткий рабочий день, удалилось на покой и, заметно похолодало, открылась просторная подковообразная долина, окаймленная горами. У самого ее изголовья чернели пятна домов, ферм. А какие склоны окрест – на самый изысканный вкус! Все складывалось великолепно. Раз есть дома, значит, есть и дорога, а значит, мы сможем добираться сюда на машине и выигрывать несколько часов для лыж. С ночлегом тоже решить не сложно – вон сколько домов. Я постучался в крайний.
– Чего надо! – услышал недовольный голос, и в дверную щель высунулась голова мужчины с широким утиным носом и помятым от сна или водки лицом.
Я объяснил, откуда пришел и зачем.
– Лыжник! – обрадовалась голова и скрылась за дверью. – Погоди, я сейчас.
Вскоре мужчина появился в шапке и тулупе, коротко бросил: «Пойдем» – и направился к другому дому, что светился окнами метрах в двухстах от нас.
– Тебя давно Джума дожидается.
– Какой еще Джума?
– Наш заведующий фермой. Чукулдукова знаешь?
– Ага, – на всякий случай согласился я.
– Про него и речь. Да вот как раз он сам, легок на помине, – мой провожатый показал на бредущую навстречу фигуру.
– Эй, Джума, – заорал он. – С тебя причитается…
– Все буянишь, – раздалось в ответ.
– А ты газуй шибче. Лыжника твоего веду, понял?
Фигура во тьме заколыхалась быстрее, мы тоже прибавили шагу, и вот уже меня обхватили, мнут крепкие руки, а я остолбенело стою, не, знаю, в чем дело.
– Ну, молодец! А здоровый какой! – восторгался Джума. – Ну, молодец! Нашел-таки! – Потом заторопился: – Иди прямо в дом, порадуй Каныш, а мне срочно на ферму нужно.
– Причитается! – настаивал мой провожатый.
– Успеешь, Сеит. Завтра сочтемся.
Сеит хохотнул:
– Мужской разговор! – и повернул назад.
В доме было жарко натоплено, пахло лавровым листом и кожей; вдоль печки выстроились для просушки детские ботинки. Сами детишки уже спали в соседней комнате. Каныш, тихая и довольно стройная женщина, помогла мне раздеться, усадила на единственный табурет. От внезапного обилия тепла тело размякло, потянуло ко сну. Но я крепился, боролся с дремотой, боясь шлепнуться с табурета или, что еще хуже, проспать ужин.
Вернулся Джума. Потопал в прихожей, обмел с валенок снег и, наконец, вошел в комнату – невысокий, узкоплечий, но жилистый и, как я убедился перед этим, обладающий потаенной силой.
– Каныш! – он потирал руки – то ли холод разгонял, то ли предвкушал, как ошеломит жену. – Узнаешь его? – кивнул в мою сторону.
До этого я просидел, оттаивая, с полчаса, но если Каныш на меня и взглянула, то лишь мельком, не придав моему приходу никакого значения и продолжая хлопотать у печи. Теперь же, после мужних слов, она стала рассматривать меня столь внимательно, словно примеряла ко мне все виденное прежде; однако в ее черных, некогда блестящих, а ныне слегка пригашенных временем глазах так и не вспыхнули воспоминанья. Отвернулась, начала разливать по чашкам исходящее паром шорпо. Лица покачнулись, поплыли в аппетитном тумане. Я сильно проголодался и тотчас принялся за еду. Джума не торопился. Разломал, лепешку на мелкие куски, побросал их в чашку, чтоб шорпо приостыло. Помешал ложкой, сгоняя остатки пара, снова спросил:
– Неужели не узнаешь?
Камыш медлила с ответом. Ей, видимо, не хотелось огорчать мужа своей беспамятностью, но и притвориться, будто угадала меня, она не могла. И всячески старалась уклониться от прямого ответа, пряталась за долгую многозначительную усмешку, которая собирала морщинки на разгоряченных печным жаром щеках. Можно было подумать, что она, в общем-то, понимает, на что намекает муж, но таит в себе, не спешит высказаться.
Джуму не проведешь. Жена всегда под боком, и ее уловки раскусываются привычно, с первого захода.
– Женщина – человек хитрый, – обращается ко мне Джума, в его голосе подрагивает смех. – Но скажи, видел ли ты когда-нибудь, чтобы лиса обманула сокола?
– Видеть не видел, – пожал я плечами, – и все-таки допускаю, что это может случиться. Смотря, какая лиса и какой сокол.
Джума пропускает мою фразу мимо ушей, как охотник, жалеющий патрон на мелкую дичь. Для него важней разобраться со своей женой.
– Странно, – говорит он с неподдельным изумлением, сводя реденькие брови на переносице. – Как ты могла его забыть?
– «Во дает! – уважительно думаю я. – Кого угодно запутает». Весь разговор обо мне я воспринимаю как розыгрыш. Ну, решил Джума пошутковать, выдать меня за какого-нибудь общего знакомого, ну, и пускай на здоровье тешится, пусть хоть чуточку выплеснется за пределы зыбкого однообразия своего бытия. Почему бы и не подыграть ему? Не бог весть какая, но все же плата за гостеприимство. Слишком эмоциональной встрече я тоже не придал как-то значения: в темноте да еще в праздник с кем только не обнимешься.
Оторвавшись, наконец, от чашки, изображаю: недоумение на лице:
– Вспомните, Каныш, ведь сколько раз за одним столом сидели, о чем только не толковали! Вас я признал сразу, вы почти не изменились, тот же взгляд, движения, вот только руки малость погрубели. В следующий приезд захвачу польский глицерин, очень помогает.
Каныш вздохнула, потом вдруг придвинулась ко мне и заговорщически подмигнула, как ученик, ждущий у классной доски подсказки. Но что я мог ей подсказать? Благо, мое замешательство осталось незамеченным. Терпение у Джумы лопнуло, и он воскликнул:
– Это ведь Вовка, понимаешь, Вовка!
У Каныш дрогнули и приподнялись плечи, и все существо, казалось, просияло той взрывной вдохновенной радостью, которое делает просто синее небо весенним, а людей, как бы стары они ни были, превращает в молодых. Она смотрела на меня, и в глазах, на самой заискрившейся поверхности, плескалась благодарность, за что то необычное, глубокое и чистое, как лежащие за окном снега.
Я ощутил неловкость: как будто, перепутав с кем-то другим, меня гладит преданная нежная рука. Но вместо того, чтобы открыться, сказать, что произошло недоразумение, ошибка, я продолжал, правда, с каким-то скользящим, знобким беспокойством, испытывать удовольствие от этой ласкающей признательности, заслуженно предназначенной другому человеку.
Меж тем Джума, чувствуя себя на седьмом небе от привалившего счастья, рассказывал:
– Ты, Вовка, можешь и не все помнить, знать: на исходе этой истории тебе лет пять-шесть набежало. А отец с матерью у тебя такие, что не очень-то будут распространяться о своих добрых делах. И причина не в скромности. Не только в скромности. Я думал об этом. Для них помочь постороннему столь же просто и естественно, как позаботиться о самих себе. Или для них вообще нет посторонних? Как, по-твоему?
Я выдавил вежливую улыбку. Ну и положеньице! Как в детской игре в фанты: да и нет, не говорите, черное с белым не берите… Неужто благодарность настолько ослепляет человека, что он начисто теряет проницательность, путает реальные и мнимые взаимосвязи между людьми? Игра зашла слишком далеко, чтобы давать задний ход. И я продолжал выступать в чужой роли, то кивая, то улыбаясь, то бросая расплывчатые реплики – в зависимости от обстоятельств.
Постепенно, со слов Джумы, обращенных или ко мне, или к Каныш, я узнал историю, которую должен был узнать в этот вечер.
Еще совсем мальцом Джума лишился родителей и попал детский дом. Хилый, с непросыхающим носом и тяжким, рвущим нутро кашлем он вызывал у многих смешанное чувство жалости и отвращения, и его сторонились. Маленькому человечку не хватало ни еды, ни ласки. Он рос медленно, рос болезненным и вялым, а вместе с ним росла отчужденность, заставлявшая забиваться в угол, подальше от сверстников, которые если и обращали на него внимание, то лишь для того, чтобы обидеть. Как капли смолы, дни были злы и черны. И вряд ли судьба его сложилась бы нормально, не появись в детском доме Скворцовы. Без долгих расспросов, в один присест они изменили течение мальчишеской жизни. Переселившись к ним, Джума ощутил такое обилие душевного тепла, чуткости, заботы о себе, что всего этого вполне хватило бы и на его прошлые годы. Иван Ефимович работал главным зоотехником колхоза, Мария Федоровна – учителем русского языка и литературы. Были они тогда еще молоды, своих детей не завели. Джума воспитывался на правах сына. Летом Иван Ефимович частенько возил его на джайлоо, поил кумысом, заставлял прогреваться на сухом высокогорном солнце. Джума окреп, через несколько лет его было не узнать. Когда родился Вовка, Джума закончил сельскую школу и уехал в город. Скворцовы не забывали о нем, каждое воскресенье наведывались в техникумовское общежитие, после чего его тумбочка ломилась от всевозможных продуктов. Приглянулась ему Каныш, привез ее к Скворцовым, там и свадьбу справили.
Что же случилось потом, как потерялся их след? Джума до сих пор толком не знает. Направили его с, Каныш работать как раз на тот участок, где и по сей день живут. Начало работы, особенно на новом месте, словно начало жизни. Пока пообвыкнешь, пока то да се… Короче, когда собрались, наконец, в гости, Скворцовых уже не оказалось в селе. Причина их внезапного отъезда осталась загадкой. Никому точно не было известно, в какие края пролег их путь. Одни говорили, будто бы в Подмосковье, другие – в Сибирь. А вот совсем недавно Джума натолкнулся на газетную заметку, в которой сообщалось, что студент политехнического института Владимир Скворцов занял первое место в каких-то горнолыжных соревнованиях.
– Я сразу смекнул, что это ты. – Джума восхищается своим пророческим даром и не скрывает этого. Полулежа на подушке, отхлебывает чай и самодовольно поглаживает седеющую коротко остриженную голову. – Для Ивана Ефимовича лыжи были, что конь для, джигита. Обещал: вырастет сын, сделаю из него настоящего горнолыжника. Вот и сделал. А раз так, подумал, я после заметки, не миновать тебе наших мест. Лучших склонов нигде не сыщешь.
Теперь поведение Джумы для меня прояснилось. Он много лет прожил в Чонкурчаке, этом крохотном кишлаке в несколько дворов, где не очень-то размахнешься в своей щедрости и доброте. И он изнывал, мучился, почему-то мнил себя должником, который никак не может расплатиться сполна. Причем, с годами ему казалось, будто долг все растет, увеличивается, начинает давить неистраченностью чувств, и он лишался покоя, старался хоть как-то использовать заложенные в нем душевные силы, и потому порой помогал даже тому, кто не особенно и нуждался в помощи, беспричинно расплывался в благодушной и долгой улыбке даже тогда, когда следовало бы кого-то одернуть, на кого-то накричать. Было бы заблуждением думать, что улыбка получалась у Джумы подневольная, натужная, отнюдь. Она смягчала и осветляла его изношенное лицо, обдавая собеседника доверием, участливостью. Вполне возможно, он и во сне мигал улыбкой, как светофор на просторном ночном перекрестке, беспрепятственно пропускающий случайное движение.
У Джумы сохранились фотографии, на которых он был снят вместе со Скворцовыми. Прямо идиллия: сидят развеселые, прижавшиеся друг к другу – семья, да и только. А худенький мальчишка посредине, мало чем похожий на теперешнего Джуму, заворожено уставился в объектив черными глазами-точечками, словно боясь неосторожным жестом спугнуть счастливое мгновенье. С любопытством и вместе с тем оценивающе я разглядывал своих мнимых родителей. Что и говорить, симпатичные люди. Но – ничего общего со мной. Вот только у Ивана Ефимовича, как и у меня, очки на носу. Но этого вроде бы мало, чтобы объявлять его моим отцом.
Воспоминания – словно воздушные путешествия, после которых мы непременно устремляемся к земле, вновь погружаемся в земные дела и хлопоты. Сложив фотографии, в деревянную шкатулку с резной, крышкой, Джума и Каныш стали ухаживать за мной в четыре руки. Меня опять поили и кормили, будто я, двугорбый верблюд и могу распоряжаться проглоченным в течение полумесяца.
Джума спрашивал:
– На кого учишься? На инженера?
– На инженера, – отвечал я, хотя сам, уже имел диплом врача и работал в городской больнице.
– Холостяк, конечно, – озорно щурился Джума. – А на примете кто-нибудь есть?
– Есть, – в тон ему отвечал я, а у самого остались дома жена и маленький сынишка.
– Адрес-то отца оставь. Буду письма писать.
Я стал лепетать о якобы предстоящем у родителей обмене квартиры, после чего, разумеется, я сразу же сообщу их координаты.
Хорошо, что Каныш, милая чуткая женщина, прекратила эту пытку.
– Чего пристал? Человек с дороги, глаза слипается, отдыхать надо.
Я забрался на гору расстеленных одеял и, обложенный со всех сторон подушками, мгновенно уснул. Сон был тревожный, зыбкий, словно гонимая ветром пелена тумана. Разорванные клочья видений уносились вдаль, в забытье, а следом подступали новые, еще более нелепые, сумасбродные, кошмарные. Вот сижу я один в узенькой комнате. Передо мной черное окно. Вдруг оно с треском распахивается и в комнату впрыгивает волосатое длиннорукое существо с оскаленной пастью. Я в ужасе отшатываюсь, замираю, а страшилище скачет вокруг меня, дышит в лицо водочным перегаром и орет: «Я твой сын! С тебя причитается! Гони монету!» Длинные волосатые руки впиваются мне в плечи, трясут, а в ушах гуд: «Я твой сын! Сын!» Наконец оцепенение проходит, я сильно бью по отвратительной щетинистой роже, но кулак вязнет в чем-то мягком, податливом. Раздается дикий издевательский хохот. И я просыпаюсь. Мой кулак, все еще плотно сжатый, лежит, уткнувшись в подушку. Сердце колотится, будто я бегом поднимался в гору.
О, какая тонкая грань между искренностью и фальшью, как легко и незаметно можно перейти ее, думалось мне. Пустенький фарс, случайный перегиб, неуместная шутка – и ты, глядишь, уже забился в паутине, как рыба в неводе. Попасть в нее просто, а вот выпутаться… Как быть, что предпринять, чтобы снять тяжесть с души своей? Своей? Если б только так, то достаточно извиниться, покаяться, выразить сожаление, что с самого начала ошибся, посчитав все это веселым розыгрышем, не более. Но поймут ли меня Джума и Каныш? Не ляжет ли на их души сумрачная обила? Ведь они столько ждали встречи со Скворцовым, надеялись, верили, что это вот-вот произойдет… А может, мое появление, успокаивал я себя, избавило их от лишних томлений, явилось разрядкой, неким исцелением? Ведь нельзя же бесконечно ждать. Газетный Вовка Скворцов, на которого уповает Джума, вполне может оказаться таким же настоящим Скворцовым, как и я.
Сумятица мыслей и чувств не позволяла больше заснуть. За свои грехи мы расплачиваемся вдвойне, наверное, потому, что из-за них обычно страдают другие.
Чуть свет я стал собираться в обратный путь. Джума и Каныш просили задержаться, погостить у них, но я сослался на неотложные дела и наотрез отказался. Оставил им свой городской адрес, подхватил сильно потяжелевший рюкзак и шагнул за порог. Джума провожал меня.
Утро выдалось звонкое, ясное и чистое, с пепельными следами отгоревших звезд на небе и резкими контурами окрестных гор. Понизу, шевеля стебли сухой колючки, прошелся ветерок – предвестник скорого солнца.
Джума остановился. Глаза его смотрели широко и заворожено, как на той давней фотографии, где он, казалось, боялся спугнуть счастье. И я не решился потревожить этот момент, открыться ему, сказать все, что, вероятно, следовало бы сказать. Рывком притянул к себе, коснулся губами обветренной шершавой щеки и, столь же резко отстранившись, сглотнув подступивший к горлу ком, потопал вверх по тропе.
Знакомый шофер, видно, отдыхал. Его сменщик, спокойный кряжистый дядя, плотно запеленатый во все добротное и теплое, делал свое дело безучастно, не тратя попусту ни слова, ни движения. Сто лет проживет, с усмешкой подумал я.
Дома жена ахнула, разбирая рюкзак. Чего только не натолкали туда Каныш и Джума! Сын уплетал облепиховое варенье, жмурился и чмокал от наслаждения, а смешной рыжеватый хохолок на его макушке то вздрагивал, то замирал. В меня ошеломляюще просто, как открытие, входила мысль: «Сумею ли я своей работой, жизнью своей сохраниться в чьей-нибудь памяти, смогу ли оставить в чьем-нибудь сердце такой след, чтобы не только меня, но и моего сына встречали, словно родного человека, чтобы в далеком доме ждал, не угасая, радостный и ясный огонек».
Друзьям я предложил для катанья на лыжах другие склоны, хотя они значительно уступали тем, в Чонкурчаке. Про долину, окаймленную горами, я даже не обмолвился. То место для меня стало теперь запретным.
Зато с тех пор я с трепетом прислушиваюсь к шагам на лестничной площадке, спешу открывать дверь на робкий звонок, полагая, что Джума обязательно приедет ко мне. Но то ли он понял свое заблуждение, то ли еще что-нибудь стряслось, во всяком случае, так пока я его и не видел.