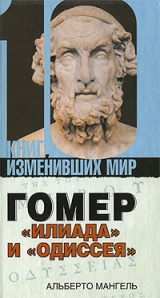
Текст книги "Гомер: «Илиада» и «Одиссея»"
Автор книги: Альберто Мангель
Жанр:
Литературоведение
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 13 страниц)
Слабый душой Менелай, ко троянцам ли ныне ты столь
Жалостлив? Дело прекрасное сделали эти троянцы
В доме твоём! Чтоб никто не избег от погибели чёрной
И от нашей руки; ни младенец, которого матерь
Носит в утробе своей, чтоб и он не избег! Да погибнут
В Трое живущие все и лишённые гроба исчезнут[432]432
Илиада, VI:55-60.
[Закрыть].
Побуждаемый своим братом, Менелай отталкивает Адраста, и Агамемнон пронзает троянца пикой «в утробу». Адраст падает мёртвым, опрокидывается, и Агамемнон «ставши ногою на перси, вонзённую пику исторгнул»[433]433
Илиада, VI:65.
[Закрыть]. Это действительно похоже на образец для прозы Фенимора Купера.
Но вот второй пример. Почти в самом конце «Илиады» Ахиллес в гневе преследует Гектора за стенами Трои. Оба они воины, оба умылись кровью в боях, оба любили тех, кто был убит, оба верили в справедливость того, что совершали. Один – грек, другой – троянец, но в этот момент их принадлежность полису не имеет значения. В этот момент они – только двое мужчин, которые хотят убить друг друга. Они выбегают за стены города и приближаются к ключам реки Скамандер. И в этот момент Гомер прерывает описание схватки и останавливается, чтобы напомнить нам:
Сцены войны, говорит Гомер, никогда не описывают только войну: никогда не говорится о том, что люди живут только событиями страшных дней настоящего. Это всегда также и сцена прошлого, отражение того, какими были эти люди в спокойное, мирное время, и полный смысл радостей этой простой жизни раскрывается лишь в такие экстремальные моменты. Представ перед неизбежностью смерти, мы осознаём счастье жизни, какой она могла бы быть и должна быть. Война переплетает в себе обе вещи: опыт ужасного настоящего и призрак милого сердцу прошлого.
А ещё нет войны без мысли об искупительном будущем. Приам обращает мольбу к Ахиллесу, не только следуя традиции или сентиментально проникнувшись траурными чувствами. Это происходит так, чтобы цикл войны мог быть завершён, и те, кто страдал, могли бы утешиться. В царстве мёртвых, когда Улисс встречает несчастного Ельпенора, убитого прямо перед отплытием от острова Цирцеи и оставшегося поэтому непогребённым, призрак обращается к своему прежнему капитану с такими словами:
Ныне молю (мне известно, что, область Аида покинув.
Ты в корабле возвратишься на остров Цирцеи) – о! вспомни,
Вспомни тогда обо мне, Одиссей благородный, чтоб не был
Там не оплаканный я и безгробный оставлен, чтоб гнева
Мстящих богов на себя не навлёк ты моею бедою.
Бросивши труп мой со всеми моими доспехами в пламень,
Холм гробовой надо мною насыпьте близ моря седого;
В памятный знак же о гибели мужа для поздних потомков
В землю на холме моём то весло водрузите, которым
Некогда в жизни, ваш верный товарищ, я волны тревожил.
Вот, в сущности, то, что наделяет войну искупительным смыслом: знание, что память о её жертвах есть также память о страшных последствиях несправедливости. Это чувство долга и памяти всегда руководит нами: от мольбы Приама о возвращении тела его сына и просьбы Ельпенора о погребении его тела до сегодняшних требований открытия военных захоронений в Латинской Америке, Боснии, Испании и многих других местах. Гомер знал о том же, о чём знаем мы: сохраняя мемориалы погибших, мы можем сожалеть о их потере, но в то же время преданно помнить и почитать жертву, принесённую ими во имя будущей жизни.
Незадолго до смерти, в 1955 году, американский поэт Уоллес Стивенс в кратком поэтическом фрагменте запечатлел то определение войны, которое можно было бы назвать и гомеровским:
Гомер, ставший всеми людьми
Они говорят, что Улисс, устав удивляться,
Снова затосковал по любви, по своей Итаке,
Простой, скромной, покрытой зеленью.
Искусство – как та Итака:
Вечнозелёный сад, в котором, казалось бы, нечему дивиться.
Хорхе Луис Борхес, «Искусство поэзии»
В 1949 году, в Буэнос-Айресе, Хорхе Луис Борхес опубликовал небольшой рассказ под названием «Бессмертный», включённый впоследствии в сборник «Алеф»[436]436
Jorge Luis Borges, El Aleph (Losada: Buenos Aires, 1949).
[Закрыть]. Возможно, этот рассказ был написан под впечатлением от прочтения «Кима» Редьярда Киплинга и «Страны слепых» Герберта Уэллса. Он начинается с эпиграфа, взятого из Фрэнсиса Бэкона: «Соломон рёк: Ничто не ново на земле. А Платон домыслил: Всякое знание есть не что иное, как воспоминание; так что Соломону принадлежит мудрая мысль о том, что всякое новое есть забытое старое».
В Лондоне, в начале июня 1929 года, княгиня Люсенж получила от антиквара Жозефа Картафила из Смирны шесть томов «Илиады» Александра Поупа. Этот Жозеф, по её словам, обладал на редкость невзрачным, незапоминающимся лицом, и с лёгкостью, но совершенно неправильно, говорил на нескольких языках. Позднее до неё дошёл слух, что он погиб в море, на борту судна «Зевс», и был похоронен на острове Иос. В последнем томе «Илиады» она нашла рукопись на английском, изобиловавшем латинскими выражениями.
В рукописи рассказывается история римского трибуна, который, неся службу в Фивах, на рассвете одной бессонной ночи увидел всадника, приближающегося с востока. Человек, изнурённый и истекающий кровью, упал с коня и спросил, как называется река, омывающая город; трибун ответил ему, что эта река – Египет. Всадник объяснил, что он ищет другую реку, тайную реку на краю земли, воды которой смывают с людей смерть, и на её берегу возвышается город бессмертных. Загадочный странник умирает, и трибуна посещает желание найти этот город. Возглавив двухсотенный отряд, он отправляется на поиски. На своём пути они пересекают дикие и странные земли; солдаты поднимают бунт, и трибун, раненый стрелой, совершает побег. Охваченный лихорадкой, он в полузабытьи скитается по пустыне; однажды, очнувшись, он обнаруживает себя лежащим со связанными руками в каменной нише, выбитой в склоне горы. У подножия горы был мутный поток; за ним возвышался город – тот самый город бессмертных. Вдоль горы и в долине он обнаружил ещё множество подобных своей ниш и неглубоких колодцев, вырытых в песке. Из этих дыр высовывались на солнце серые, грязные, голые люди. Трибун подумал, что это – троглодиты, племя, не знающее речи и питающееся змеями. Мучимый жаждой, трибун бросается вниз к источнику и жадно пьёт из потока. Прежде чем снова забыться в бреду, он почему-то произносит несколько слов по-гречески:
В Зелий, живших мужей, при подножье холмистая Иды,
Граждан богатых, пьющих Эзеповы чёрные воды.
После многих дней и ночей ему удаётся разорвать свои путы и постыдно выклянчить или украсть его первый кусок змеиного мяса. Но желание проникнуть в город бессмертных не покидает его. Однажды он решает сбежать от троглодитов, улучшив момент, когда большинство из них покидают свои норы и смотрят невидящими глазами на запад, на заходящее солнце. В полночь он достигает города и видит с облегчением («потому что пустыня так чужда человеку»), что один из троглодитов последовал за ним.
Но в город бессмертных, построенный на каменном плато, не вёл ни один вход, не было ни ворот, ни лестниц. Палящее солнце заставляет его укрыться в пещере. Там он обнаруживает колодец и лестницу, ведущую вниз, в темноту; он спускается и теряется в лабиринте одинаковых коридоров и комнат. После бессчётных попыток найти выход он всё же попадает в сам город и видит нависшую над ним громаду дворца. Это было здание неправильной формы и разной высоты в различных его частях. Он смутно чувствует, что этот дворец древнее человеческого рода, древнее самой земли, и он подумал, что такая старина может быть только делом рук бессмертных. Он думает: «Этот дворец – творение богов». Потом он осматривает его, и поправляется: «Боги, создавшие его, мертвы». Он присматривается к деталям и добавляет: «Боги, создавшие его, были безумны». Трибун осознаёт, что город не похож на лабиринт, в котором он блуждал под землёй. «Лабиринт был сделан для того, чтобы запутать человека; его архитектура, перенасыщенная симметрией, подчинена этой цели». Архитектура дворца абсолютно бессмысленна: его коридоры ведут в никуда, до окон не дотянуться, за дверями – колодцы, ступени и перила лестниц невероятным образом вывернуты наружу. Этот дворец поверг его в ужас, и трибун убегает прочь из города.
Когда он выходит обратно в пустыню, он видит троглодита, который лежит у входа и чертит неразличимые знаки на песке. Трибуна посещает чувство, что это существо ждало его; той же ночью, на обратном пути в селение троглодитов, он решает научить его хотя бы паре слов человеческой речи. Этот дикарь напоминает ему пса Аргоса из «Одиссеи», и он называет его Аргусом. День за днём трибун пытается научить Аргоса говорить. В безуспешных попытках прошли месяцы и даже годы. Но вот в один прекрасный вечер случилось чудо: над пустыней полился дождь. Всё племя в восторге, в исступлении встречало живительные потоки воды. Трибун позвал Аргоса, который, казалось, расплакался под струями дождя. Вдруг, как будто открывая что-то утраченное и давно позабытое, троглодит пробормотал такие слова: «Аргос, пёс Улисса». И потом, по-прежнему не глядя на трибуна: «Собака на мусорной куче». Трибун спросил его, знает ли он что-нибудь ещё из «Одиссеи». Говорить по-гречески дикарю было трудно, и трибун был вынужден повторить вопрос. «Очень мало, – ответил тот. – Меньше самого захудалого рапсода. Тысяча сто лет прошло, должно быть, с тех пор, как я её сложил».
В ту ночь всё разъяснилось. Троглодиты оказались бессмертными, мутный поток – той самой рекой, которую искал всадник. А знаменитый город бессмертные разрушили девять веков назад и воздвигли из его обломков бессмысленное сооружение: «не город, а пародия, нечто перевёрнутое с ног на голову, и одновременно храм неразумным богам, которые правят миром, но о которых мы знаем только одно: они не похожи на людей». Это было последним физическим деянием бессмертных. Они пришли к выводу, что всякое действие напрасно, и решили жить только мыслью, ограничиться чистым созерцанием. Они построили город и забыли о нём, уйдя жить в пещеры.
Гомер рассказывает трибуну историю о своей старости, о путешествии, которое он предпринял, как Улисс, чтобы достичь невиданных земель, где люди не знают моря и не едят соль. Он прожил столетие в городе бессмертных, а когда город разрушили, именно он дал совет построить другой: подобно тому, как сначала он воспел Троянскую войну, а потом войну мышей и лягушек. Или «подобно богу, который сотворил сперва Вселенную, а потом Хаос».
Трибун осознаёт, что вода из потока сделала его тоже бессмертным, и с грустью размышляет, что в бессмертии нет ничего особенного: кроме человека, все живые существа бессмертны, потому что они не знают о смерти. Божественно, ужасно, непостижимо чувствовать себя бессмертным. Самая мимолётная мысль может быть началом или венцом невидимого замысла или рисунка; злодеяние может обернуться добром в будущем или проистекать из доброго поступка, совершённого в прошлом. В бесконечном времени любое действие – справедливо, и в то же время безразлично и бессмысленно, а значит, нет и добродетелей, ни нравственных, ни интеллектуальных. Гомер сочинил «Одиссею», но в бескрайних просторах времени, где бесчисленны и безграничны комбинации обстоятельств, не может быть, чтобы ещё хоть однажды не сочинили её. Для бессмертных – ничто не случается однажды, ничто не уникально, всё повторяется снова и снова. Трибун и Гомер расстались у ворот Танжера; они даже не попрощались.
Трибун вспоминает некоторые из своих последующих приключений: как он сражался на Стэмфордском мосту в 1066 году, правда, он не помнит, на чьей стороне; как однажды в Булаке он записал историю путешествий Синбада; как играл в шахматы в тюрьме Самарканда и изучал астрологию в Биканере и Богемии. В 1714 году, в Абердине, он выписал «Илиаду» Поупа, которую читал с наслаждением; в 1729 году он обсуждал поэму с неким профессором риторики по имени Джамбаттиста. Четвёртого октября 1921 года корабль, который вёз его в Бомбей, остановился на эритрейском побережье; он сошёл в порту и неподалёку от города увидел чистый ручей. Он попил из этого ручья и, когда выбирался на берег, поцарапал веткой ладонь. Он увидел каплю крови, почувствовал боль – и понял, что снова стал смертным. В ту ночь он спал до самого рассвета.
У этой истории двойной финал. В постскриптуме говорится о комментарии к опубликованной рукописи, написанном неким доктором Кордоверо в 1950 году, утверждающим, что данный текст весь состоит из заимствований ранних авторов, а в действительности сочинён антикваром Йозефом Картафилом. В завершение самой истории трибун объясняет, что его рассказ кажется нереальным оттого, что в нём перемешаны события, происходившие на самом деле с двумя разными людьми. Римский трибун не стал бы называть, как об этом говорится в повествовании, фиванскую реку Египтом. Так её называл лишь Гомер: в «Одиссее» он неизменно именует Нил Египтом. Слова, произнесённые трибуном, когда он испил воды из источника бессмертия – это строки из второй песни «Илиады». Упоминания о записи приключений Синбада и прочтении «Илиады» Поупа – трогательные детали, но только если они описаны не римским трибуном. По-настоящему необыкновенно они звучали бы только из уст Гомера; как странно и волнующе это могло бы быть – осознать, что он переписывал историю другого Улисса, что он читал на варварском языке собственную «Илиаду»! Когда близится конец, говорит рассказчик, в сознании не остаётся образов, только слова, и неудивительно, что время путает слова одних людей со словами, принадлежащими другим. Рукопись заканчивается признанием: «Я был Гомером; скоро стану Никем, как Улисс; скоро стану всеми людьми – умру».
Гомер – это тайнопись. Раз невозможно установить, кем он был на самом деле, и в его книгах мы не находим ясного ответа о том, как они были сложены, его фигура, как «Илиада» и «Одиссея», истинна в бессчётных множествах прочтений. Гомера можно идентифицировать со всей культурой античности, в нашем самом широком понимании, и это будет, в сущности, порочным кругом, когда определение замыкается на самом себе; или с поэзией, или со всем человечеством. Гомер может предстать нам как рассказчик о древних веках нашей истории, от которых остались только несколько прекрасных артефактов, чей подлинный смысл мы не можем понять. Невозможно догадаться, как Гомер и его современники понимали, ощущали, переживали идею бессмертия, представление о том, что каждый человек исполняет своей жизнью один из эпизодов бесконечной легенды, повторяющейся в бесконечном множестве вариаций, уже созданной кем-то другим – но вечно новой, вечно юной.
Созданная нами историческая наука побуждает нас полагать, что наше понимание мира становится более глубоким, что мы ближе к истине, что наша душа и воображение становятся более совершенными, так же как развиваются и усложняются технологии. Мы склонны думать, что мы лучше, чем наши далёкие предки, – эти дикари бронзового века, которые, хоть и создавали прекрасные кубки и браслеты, и пели прекрасные песни, всё же затевали беспощадные кровавые войны, держали рабов и насиловали женщин, ели без вилок и выдумывали богов, разящих молниями. Нам сложно представить, что в те далёкие и тёмные времена мы уже знали слова, именующие наши самые спутанные и сложные переживания, наши самые глубоко скрытые и самые сильные страсти. Тот, кого мы знаем под именем Гомер, обитает где-то в неразличимой, сумеречной дали, как руины здания, бывший облик и предназначение которого остаются для нас загадкой. И возможно, что здесь и сейчас, в его книгах мы можем отыскать ключи к разгадке.
Гектор, пытаясь объяснить Андромахе, почему он должен сражаться, признаёт, как бы то ни было:
Эти слова будто невольно вторят речи Ахиллеса, произнесённой ранее по ту сторону троянских стен:
Одну судьбу разделят оба – тот, кто отступает
И тот, кто рвётся в бой. Одна и та же почесть ожидает
И храбреца и труса: обоим кануть в Смерть,
Тому, кто от сражения бежит, равно тому, кто бьётся до последней крови[438]438
Iliad, IX:385-388 (цит. по англоязычной версии Р. Фаглза, перевод на русский Лидии Кисляковой].
[Закрыть].
Смерть и произвол деяний судьбы – то общее, что объединяет всех нас, всё человечество, везде и во все времена. Но и не только это: удивительным образом многие детали и «мелочи жизни», описанные у Гомера, могут показаться нам, смотрящим с расстояния больше двух с половиной тысячелетий, до боли знакомыми, интимными, почти родными. Афина, зная, что Улисс перенёс бессчётные страдания за десять долгих лет, бессердечно говорит его сыну, что «Богу легко защитить нас и издали, если захочет»[439]439
Одиссея, III:231.
[Закрыть]. Ахиллес, прирождённый воин, проклинает войну после смерти Патрокла[440]440
Илиада, XVIII:107.
[Закрыть]. Чудовищные циклопы доят коз и овец и нежно укладывают каждую новорождённую овечку под матку[441]441
Одиссея, IX:341-343.
[Закрыть]. Пёс Аргос умирает от радости при виде своего возвратившегося хозяина[442]442
Одиссея, XXIII:326-327.
[Закрыть]. Улисс и Пенелопа отправляются в постель и рассказывают до утра свои истории – муж и жена, не могущие уснуть, пока не наговорятся[443]443
Одиссея, XXIII:395-343.
[Закрыть]. Андромаха, провожая Гектора в бой, оглядывается вслед мужу снова и снова[444]444
Илиада, VI:495-496.
[Закрыть]. Приам и Ахиллес, деля трапезу, восхищаются друг другом – один красотой и доблестью юноши, другой – благородством и мудростью старца[445]445
Илиада, XXIV:629-633.
[Закрыть]. Как удивительно то, что на языке, о звучании которого мы не знаем в точности, поэты, чьи лица и характеры мы не можем себе представить, жившие в обществе, о традициях и верованиях которого мы знаем не так уж много, рассказали нам так много о нашей жизни в настоящем, подметив каждую тайную радость и тайный грех.
Греческий автор, называвший себя Гераклит, по имени знаменитого философа-стоика, сочинил в первом веке нашей эры серию комментариев к Гомеру под названием «Аллегории Гомера». В первом из них говорится: «С самых ранних лет дети воспитываются и учатся у Гомера; обёрнутые пеленами его строк, мы питаем ими свою душу, как материнским молоком. Он подле каждого из нас, когда мы взрослеем и мужаем, он расцветает вместе с нами, и, дожив до старости, мы не можем насытиться им или устать от него, ибо если мы откладываем его в сторону, то вскоре снова жаждем его. Можно сказать, что это равно справедливо для Гомера и для самой жизни»[446]446
Цит. по F. Buffière, Les mythes d'Homère et la pensée grecque (Les belles letters: Paris, 1973).
[Закрыть].








