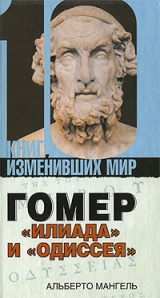
Текст книги "Гомер: «Илиада» и «Одиссея»"
Автор книги: Альберто Мангель
Жанр:
Литературоведение
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 13 страниц)
Гомер в отражениях
Ни одна из античных поэм не посвящена мыльным пузырям.
Льюис Кэрролл, «Символическая логика»
Каждая эпоха воссоздаёт античные тексты в присущей ей манере выражения. В 1954 году итальянский писатель Альберто Моравиа отметил, что в послевоенном мире сюжеты Гомера перевоплотили в «чисто популярное зрелище», то есть – фильмы. В его романе «Презрение» рассказчик ассоциирует различные сцены из «Одиссеи» с кинематографическими эпизодами, которые он видел: подглядывание Улисса за Навсикаей у воды становится шоу «Красотки в купальне», Циклопы – это Кинг-Конг, Цирцея – это Антинея в фильме «Атлантида» 1932 года Вильгельма Пабста.
За три года до начала Второй мировой войны, «чисто популярным зрелищем» был театр, и античные сюжеты зачастую служили основой для современных постановок. Жан Жироду – писатель, официальный представитель от мира культуры во французском министерстве иностранных дел, фаворит фашистского периодического издания «Патриот» и поклонник немецкого языка и литературы часто использовал гомеровские истории в своих драмах. Несмотря на то, что в военное время его политические взгляды были неоднозначны, после войны его почитали как патриота, и его работа была включена, например, в антологию литературы Сопротивления 1947 года[392]392
Jean Paulhan and Dominique Aury, ed. La partie se fait tous jours (Editions de Miniut: Paris, 1947).
[Закрыть]. Его двухактная пьеса «Троянская война не начнётся», иногда в переводах также называемая «Тигр и Ворота» – одна из самых известных французских драм XX века. Она была написана в 1935 году, когда Гитлер обнародовал антисемитские законы в Нюрнберге, и во Франции была основана фашистская организация «Огненные кресты». Сам Жироду не считал эту пьесу чем-то выдающимся, воспринимал её просто как прелюдию к полной постановке «Илиады», действие которой разворачивается во времена «когда её герои ещё не стали легендой»[393]393
Jean Giraudoux, La guerre de Troie n'aura pas lieu in Théatre complet, ed. Jacques Body (Gallimard: Paris, 1982).
[Закрыть] и адресованной особой публике (Афинского театра Луиса Жувета в Париже), предположительно знакомой с античными произведениями.
«Троянская война не начнётся», – говорит Андромаха Кассандре при поднятии занавеса. Гектор убедил Париса, что Елена должна быть возвращена законному мужу. Но царь Приам и старый поэт Демок настаивают, что это «воплощение красоты» надо оставить в Трое. Прибывают греческие послы, под предводительством Улисса и Аякса, и Гектор пытается выторговать возвращение Елены. Но оскорбительное замечание Аякса в адрес Демока провоцирует троянский народ атаковать греческих посланников. В ярости Гектор убивает старого поэта, который перед смертью обвиняет Аякса в случившемся. Аякса затем убивает толпа. Последние слова Кассандры – «Троянский поэт мёртв… Теперь греческий поэт может начать свои песни»[394]394
Ibid.
[Закрыть]. Вместо Демока на сцене появляется Гомер. Жироду останавливается там, где начинается «Илиада».
«Я хотел написать трагедию, – говорит Жироду. – Мы знаем, большинству из героев суждено быть убитыми, – если не в моей пьесе, то в ходе истории, поэтому над ними будто бы нависает некая тень»[395]395
Цит. по Colette Weil in «Preface» in Jean Giraudoux, La guerre de Troie n'aura pas lieu.
[Закрыть]. Зловещая тень воплощена в постоянном присутствии на сцене Кассандры, предвидящей неизбежность катастрофы. Герои Жироду – не такие, как у Гомера. Приам и Гекуба – отнюдь не образец семейного согласия, как в «Илиаде», они бранятся между собой: Гекуба, хладнокровная и острая на язык, намертво стоит против войны; Приам, дряхлый, но непомерно гордый, ослеплён Еленой, царской добычей своего сына, и подстрекает народ к войне. Елена – сложная фигура, в которой некоторые критики[396]396
Cf. Marie-Jeanne Durry, L'Universde Giraudoux (Mercure de France: Paris, 1961).
[Закрыть] видели образ абсурдной, слепой судьбы; её неописуемая, не подлежащая никаким определениям красота вызывает вожделение даже у совета старейшин, толпы высокомерных, жадных стариков, включающей и Демока. Парис – молодой щеголь, Аякс – задиристый глупец. Улисс, по замыслу Жироду, был этаким злонамеренным дипломатом, сладкоречивым, и более опасным, чем напыщенный Демок, но публика на удивление воспринимала его как воина-философа, человека крепкого слова и доброй воли. Гектор ближе по характеру к простым людям, он сторонник грубой силы, но в то же время ненавидит войну и не может определиться в своей позиции; Гектор смутно осознаёт, что его собственная судьба – часть великого замысла, который он неспособен постичь.
Несмотря на целостность и последовательность композиции, пьесе недоставало драматической силы, и даже её замечательный вариант, поставленный во время Фолклендской войны 1982 года Гарольдом Пинтером для Лондонского Национального Театра, остаётся неубедительным. У Жироду был замысел – написать трагедию, которая «раскрывает весь ужас судьбы – правящей не только жизнью каждого конкретного человека, но и всего человечества»[397]397
Jean Giradoux, «Bellac et la tragedie» quoted in Colette Weil in «Preface» in Jean Giradoux, La guerre de Troie n'aura pas lieu.
[Закрыть]. Однако Жироду не воплотил эту идею, возможно потому, что «его персонажи больше похожи не на мифологических героев, а на их карикатуры»[398]398
Marguerite Yourcenar, Lesyeux ouverts: entretiens avec Mathieu Galey (Editions du Centurion: Paris, 1980).
[Закрыть], – как выразилась писательница Маргарет Юрсенар. А как отметила Дорис Лессинг, «миф не есть нечто неистинное, напротив, миф – это концентрация истины»[399]399
Doris Lessing, African laughter: Four Visits to Zimbabwe (Harper Collins: London, 1992).
[Закрыть]. Возможно, в этом и заключался недостаток Жироду: его мифы были слишком слабо концентрированы, слишком упрощены.
В 1990 году карибский поэт Дерек Уолкотт попытался совершить противоположные манипуляции над мифологическими материями. Он переложил «Одиссею» на карибский лад, создав концентрацию бесконечных прочтений гомеровского «Улисса». За эту работу Уолкотт удостоился Нобелевской премии по литературе. В своей нобелевской речи Уолкотт отрицал, что его «Омерос» был эпическим в строгом смысле слова, но называл его скорее собранием эпических фрагментов в форме трёхстрочных стансов, напоминающих знаменитые терцины в «Божественной комедии» Данте[400]400
Derek Walcott, The Antilles: Fragments of Epic Memory: The Nobel Lecture (Farrar, Straus and Giroux: New York, 1993).
[Закрыть]. Язык Уолкотта – это своеобразная смесь современного английского и креольского; его герои носят имена гомеровских героев, но ирония состоит в том, что эти имена часто давали рабовладельцы чёрному населению островов: Филоктет, Елена, Ахилл, Гектор. «Одиссея» Гомера начинается in media res – с середины, когда Улисс находился уже на полпути своих странствий; также и «Омерос» начинается на полпути прочтения «Одиссеи», с первой строки песни одиннадцатой («К морю и к ждавшему нас на песке кораблю собралися…»[401]401
Одиссея, XI:1.
[Закрыть]), которая в стихах Уолкотта звучит так: «Вот так, на восходе, мы забрались в каноэ…»[402]402
Derek Walcott, Omeros, I:1 (Faber and Faber: London, 1990).
[Закрыть] (Этим же приёмом воспользовался Эзра Паунд[403]403
Эзра Лумис Паунд – американский поэт XX века, один из основоположников англоязычной модернистской литературы, издатель и редактор (прим. пер.).
[Закрыть]: первая из его «Cantos» начинается: «И тогда мы сошли к кораблю…»)[404]404
Ezra Pound, The Cantos, I:1, revised edition (Faber and Faber: London, 1975).
[Закрыть]
Путешествие в царство мёртвых становится в «Омеросе» воображаемым путешествием в Африку, откуда родом предки главного героя, и где его посещает видение горестных событий прошлого, когда его сородичи были схвачены работорговцами. Однако гость подземного царства – не Улисс, а чернокожий Ахилл, потерявший сознание от солнечного удара; став свидетелем жестокого порабощения своих предков, он пришёл в ярость, сравнимую с яростью, терзавшей его прототипа Ахиллеса после гибели Патрокла, смешанной с ненавистью к убийце. В отношении работорговцев он чувствует «ту же / одержимость ненавистью, что под градом стрел, тот питал к Гектору»[405]405
Derek Walcott, Omeros, III:27.
[Закрыть], а рабам сострадает горькой скорбью.
…Остывший пепел побелил его череп, покрыл тлеющие раны глаз, обугленную кожу, лёг в глубину беззубого рта, раскрытого к пепелищу.
Как срубленный кедр, чья печаль проступает смолой на стволе.
Одна рука – в куче золы, кулак другой упал
на барабан его груди, а рёбра были как резное каноэ,
годами гниющее под сменяющейся листвой миндального дерева,
в то время как мальчишки, игравшие в нём в войну, становятся мужчинами,
работают, женятся, и умирают, и уже их дети, в свой черёд,
раскачивают его прогнивший корпус, понарошку соревнуются в гребле, —
как любил играть сам Ахилл когда-то, мальчишкой[406]406
Пер. Лидии Кисляковой (Derek Walcott, Omeros, III).
[Закрыть].
Ахилл Уолкотта – это смесь нескольких героев Гомера, его образ поэта – сочетание многих характеров: конечно, это и сам Гомер, но также и Джойс. Бард «Омероса» – слепой старик из Вест-Индии, который проводит дни, напевая самому себе в тени аптеки около пляжа, с собакой-поводырём на поводке.
Слепой сидел на обломках пирог,
бормоча на невнятном наречьи слепых, сложив
узловатые руки на палке, чуткий на слух, как собака.
Иногда он пел, и обрывки слов разлетались по ветру,
когда звонкие нити её бус звучали в их саду. Старый Омер.
Он утверждал, что совершил кругосветное плавание. «Месье Семь Морей» —
так они называли его, взяв это имя с обёртки от масла печени трески,
с извивающейся меч-рыбой. Но слов его было не разобрать.
Для неё это было похоже на греческий.
Или на древнее африканское щебетание[407]407
Пер. Лидии Кисляковой (Omeros, I).
[Закрыть].
Для гомеровских персонажей «Омероса» греческий язык – иностранный, как и наречия Африки, а Африка для Уолкотта – это Итака, в которую Улисс никогда не вернётся. После романа Джойса «Одиссея» Гомера читается как поэма не только о возвращении домой, но и о вечном изгнании. Хотя, конечно, тень ожидаемого в тоске возвращения домой постоянно присутствует в «Омеросе», как и в «Улиссе», и в «Одиссее». На самом деле, «Одиссея» может быть прочитана как бесконечная история возвращения, которое может совершиться только через повторение рассказа о нём и в каком-то смысле уже совершилось, даже до начала приключений. За пятнадцать лет до того как «Омерос» был опубликован, итальянский писатель Итало Кальвино подметил, что «Одиссея» – это собрание многочисленных Одиссей, сложенных одна в другую, как китайские коробочки[408]408
Italo Calvino, Perche leggere I classici (Arnoldo Mondadory: Milano, 1991).
[Закрыть]. Вначале Телемах отправляется в путь в поисках истории, которая ещё не существует и только по завершению поэмы станет целой «Одиссеей». Потом Менелай передаёт Телемаху, что он слышал от морского старца, начавшего свой рассказ с того самого момента, когда сам Улисс начинает его на острове Калипсо. Когда он останавливается, Гомер возобновляет историю и следует за своим героем, пока тот не достигнет фокейского двора. Здесь слепой бард Демодок поёт своей публике (в которой присутствует и Улисс) о приключениях Улисса; Улисс плачет и, подхватывая песнь, рассказывает, как он достиг царства мёртвых, и как призрак Тиресия открыл ему будущее. Как отмечает Кальвино, подлинная история «Одиссеи» – это возвращение, и Улисс не должен о нём позабыть, несмотря на все свои приключения.
Александрийский поэт Константин Кавафис, умерший в 1933 году, также понимал, что возвращение Улисса – это ключевой мотив, предпосылка всех историй «Одиссеи». Кавафис писал на новогреческом, как прямой наследник эллинистической традиции, как тот, кто был способен проникнуть в сам источник – читать Гомера, отбросив бесчисленные переложения и истолкования. Улисс и Ахиллес произведений Кавафиса, – не современные, но и не вымышленные или собирательные фигуры. Когда, например, он говорит: «Наши усилия похожи на усилия троянцев», – он способен убедить читателя, что его опыт в самом деле добыт из первых рук, что он сам пережил испытания, выпавшие на долю троянцев. Ясно, что это один из поэтических приёмов автора, но при прочтении эти строки вовсе не кажутся метафорой:
Кавафис напоминает нам, что Итака – не только пункт назначения, но также отправная точка путешествия, о чём мы зачастую забываем; Итака, как причина и цель, создала дистанцию между изгнанием и возвращением. Чем продолжительнее и труднее путешествие, тем более ценна далёкая конечная цель.
Ты знай: ни лестригонов, ни циклопов,
ни Посейдона буйного не встретишь,
пока душа твоя не примет их в себя,
пока душа сама их пред тобою не поставит.
Итака отдала тебе так много.
Не будь её, ты не отправился бы в путь.
Чего ж ещё ты хочешь? Больше нечего дарить.
Ты бедною Итакой не обманут.
Такой мудрец, с таким глубоким знанием, теперь
понять ты сможешь, что все эти Итаки значат[410]410
Пер. Лидии Кисляковой (C. P. Cavafy, «Ithaca»).
[Закрыть].
Итака, дом, который Улисс лелеет в своей памяти, позволил «Одиссее» совершиться. Итака оставлена потому, что жизнь на ней не обещала ни достижений, ни наград и не могла предложить Улиссу ни приключений, ни опыта, ничего, кроме препятствий без путешествия. В стихотворении «Город» Кавафис намекает, что исходный пункт, откуда хочется бежать в поисках лучшего, не так-то легко оставить позади.
Но не бывает новых мест, других морей не знаешь ты приметы.
Твой город за тобой пойдёт.
По тем же улицам кругом ты побредёшь.
В кварталах тех же станешь стариком.
В домах таких же спрячешь голову седую.
Прибудешь только в город свой.
К другому же – не жди впустую – ни корабля ты не получишь, ни пути.
И если жизнь свою не смог ты обрести здесь, в этом уголке – её проспал на всей земле ты[411]411
Пер. В. Некляева (C. P. Cavafy, «The City»).
[Закрыть].
Как Итака в «Одиссее», так и Троя в «Илиаде» стали символами историй, строгая хронология которых, начало и конец, не записаны. Меньше семи недель, всего лишь сорок два дня засчитаны из кажущейся бесконечной войны, но и эта фактически краткая, фрагментированная летопись, как мы уже убедились, может отчётливо отразить конфликты нашей многострадальной эпохи.
Действие романа канадского писателя Тимоти Финдли «Знаменитые последние слова» разворачивается в этой вечной битве[412]412
Timothy Findley, Famous Last Words (Clarke, Irwin & Co.: Toronto and Vancouver, 1981).
[Закрыть]. Он рассказывает историю группы мужчин и женщин, затерянных в кошмарном месте, напоминающем безымянный город Кавафиса. Все они послушно и безысходно подчинены какой-то движущей силе и не понимают цели или назначения их движений. Время действия – Вторая мировая война, главный герой и рассказчик – Хью Сельвин Маберли, фигура поэта, изначально вымышленная Эзрой Паундом для его собрания полуавтобиографических стихов, опубликованных в 1920 году[413]413
Ezra Pound. Hugh Selwyn Mauberley (Faber and Faber: London, 1920).
[Закрыть]. «Я не знал, как мне следует изложить этот сюжет, – признавался Финдли. – Но вдруг осознал, что если бы я был Гомером, то понял бы, что это была не просто история мужчин и женщин – но история мужчин и женщин и богов, которым они повинуются, – и рассказал её как нельзя лучше через обращение к мифологическим образам. Я пересказал этот сюжет, который есть сама история, в другом ключе – который есть мифология»[414]414
Timothy Findley, «Famous Last Words» in Inside Memory: Pages From a Writer's Workbook (Harper Collins: Toronto, 1990).
[Закрыть].
Финдли избрал мифологическую модель «Илиады». В интерпретации Финдли каждый из наших конфликтов, будь то противостояние между Англией и Германией, демократией и фашизмом, или элитой и низшим классами, – это та же война между греками и троянцами, символическая битва, которая в воображении её летописца Гомера-Маберли растворяется в частных историях мужчин и женщин, борющихся под давлением прихотей и страстей безумных богов. В этом сложном романе Маберли – это Гомер, уполномоченный превратить исторических персонажей из объектов газетных сплетен в мифологические образы. Миссис Симпсон – это подневольная Елена, идущая на поводу у нерешительного Париса (его прообраз – Эдуард VII), которую будут спасать многие, жестокие или справедливые Менелаи и Агамемноны. Гера и Зевс – это Черчилль и Гитлер, Афина – это Эзра Паунд, кровожадный Ахиллес – это нацист Гарри Рейнхардт, кто вместо того, чтобы обнажить предательскую пятку, щеголяет туфлями из крокодиловой кожи и (задав новый виток в истории) убьёт своего создателя, засадив мотыгу прямо в глаз Маберли, тем самым сделав его таким же слепым, как традиционно изображаемый Гомер.
Но остальное в характере этого Гомера далеко от традиции: он вовсе не мудр и не справедлив. Он поклонник абсолютной власти и готов сотрудничать при установлении фиктивного правительства, в котором Герцог и Герцогиня Винздорские должны играть роль короля и королевы, участвует в интриге под кодовым названием «Пенелопа», злом плане, выжидающем подходящий для запуска момент; способен с лёгкостью отказаться от своих художественных замыслов ради дешёвого сюжета с пародийными персонажами. Маберли – универсальный трансгрессор, нарушитель всех мыслимых границ в политике, сексе и литературе. Он вступает в союз с фашистами, не может определиться в сексуальной ориентации, его литературные амбиции «описать сущность прекрасного» прямо противоречат тому «помпезному рёву», который извергается из-под его пера. Маберли – жадное, преследуемое, прячущееся существо, живущее в разногласии с миром и самим собой.
«То, что делают алчные до власти люди, – сказал однажды Финдли, – может быть объединено словом «фашизм», как я его понимаю: все люди, жадные до власти, могут касаться жизни и дел своих конкурентов, таких же властолюбивых, как они, но это ещё далеко не всё. Они никогда не смогут достичь власти без могущественных кумиров и прикрывают свои злодеяния, говоря что совершают поступки для них и во имя их. Другими словами, жадные до власти герои Трои не могут достичь могущества без богов, играющих по их нотам»[415]415
David Ingham, «Bashing the Facists: The Moral Dimensions of Findley's Fiction» in Studies in Canadian Fiction 15, 2 (1990).
[Закрыть].
На стенах одной из комнат отеля «Гранд элизиум» (имя, которое в современной мифологии прославленный фильм с Гретой Гарбо даёт осаждаемой Трое[416]416
Эдмунд Гулдинг, «Гранд отель» (Edmund Goulding «Grand Hotel», MGM, 1932).
[Закрыть]) Маберли записывает историю своей жизни. В своём признании он утверждает: «Всё, что я написал здесь, это правда, за исключением лжи». Историю Маберли (как гомеровскую) будут читать и судить другие, кто придёт после него, но его письмена вскоре будут обращены в пыль, вместе с разрушенными стенами отеля. «Вот так и кончится мир, – написал Т. С. Элиот в стихотворении «Полые люди», – не взрывом, а всхлипом»[417]417
T. S. Eliot «The Hollow Men».
[Закрыть], – строчка, которую Паунд повторил в «Canto 74»[418]418
Ezra Pound, The Cantos, 74.
[Закрыть] и потом добавил: «Чтоб построить город Диоса, где террасы цвета звёзд». Диос был царём Медеса и после того, как народ избрал его правителем за справедливые суждения, построил фантастический город, призванный быть раем на земле. Паунд, поклонник Муссолини, воображал, что итальянский диктатор способен создать, как Диос, идеальное государство после апокалипсиса войны, ввергшей мир в хаос. Мир будущего, воображаемый Маберли – как Троя Диоса, сначала разрушенная греками, а потом воскресшая в Риме Энея, Августа, эпохи Возрождения, и наконец (согласно фашистской идеологии) в Риме Муссолини, чьего триумфа Паунд-Маберли страстно желал, и чья угрожающая тень всё ещё не покинула мир. Об этом последние слова Маберли:
«Представьте себе, как что-то таинственное появляется вдруг в летний полдень – показывается и исчезает, до того как вы смогли распознать, что это было… К концу дня этот образ – чем бы он ни был – едва различимым следом остаётся в памяти. Никто не сможет абсолютно точно утверждать что это «что-то» было таким-то и действовало так-то. Ничего нельзя сказать о его размере. В конце концов видение забывается, становится только смутным ощущением, пугающим, но нереальным… Так, чем бы ни была странная тень, она теряется, безымянная, в волнах памяти; неясный образ, промелькнувший во сне. Всё, что мы помним, проснувшись, – это приводящее в трепет присутствие… В то время как эта тень, затаившаяся в сумерках, шепчет: я здесь, я жду».
Бесконечная война
Рамсфелд: Мне понравилось то, что вы сказали ранее, сэр. Война, основанная на терроре. Это хорошо. Это расплывчато.
Чейни: Хорошо.
Рамсфелд: Так мы можем сделать всё что угодно.
Дэвид Хэар, «Всякое бывает»
По мнению Итало Кальвино, «Одиссея» состоит из нескольких переплетённых сюжетов, связанных подразумеваемым архетипическим мотивом возвращения. Но можно сказать, что такой мотив, или даже объединяющий первообраз, есть и в «Илиаде»: это, конечно же, война, но не только между греками и троянцами, а война как категория бытия, сама сущность войны, единое всех противостояний и конфликтов. В сентябре 2005 года, в течение трёх вечеров, почти три тысячи человек заполняли зал крупнейшего театра Рима «Rome Auditorium», чтобы послушать чтение «Илиады», поставленной по опубликованной годом ранее книге итальянского писателя и драматурга Алессандро Барикко, автора романа-бестселлера «Шёлк». Свою «Илиаду» Барикко замыслил, чтобы дать героям Гомера голос и предоставить сцену для рассказа об осаде Трои. В послесловии[419]419
Alessandro Baricco, Omero, Iliade (Feltrinelii: Milano, 2004).
[Закрыть] Барикко утверждал, что «Илиада» – книга не для мирного времени и развлекательного чтения, но всегда актуальна во времена войны, каждодневных противостояний и столкновений, больших и маленьких конфликтов, «Илиада» раскрывает суть всего, что связано с войной – от убийства и пыток до деклараций доброй воли и актов героизма. «В такие времена, – говорит Барикко, – читать «Илиаду» на публике – это, казалось бы, сущий пустяк, но я убеждён, что это отнюдь не пустое занятие: ведь «Илиада» – это история войны, беспощадной и всеохватывающей. Она была сложена, чтобы прославить человека воюющего, и этот грозный гимн незабываем. Кажется, он может пройти через вечность, а его звучание достигнет наших самых последних потомков, по-прежнему воспевая торжественную красоту и невыразимый ужас чувства, что война произошла однажды и будет длиться всегда. В школе, возможно, это произведение преподносят совсем иначе. Но мы чувствуем, что в сердце этой книги лежит одно: «Илиада» – это памятник войне».
Баррико комментирует некоторые моменты поэмы, поразившие его. Он отмечает то сострадание, с которым Гомер рассказывает о потерпевших поражение. В истории, написанной с точки зрения победителей, он помнит, что побеждённые – такие же люди, достойные понимания и сострадания. Все троянские герои очень человечны – Приам, Гектор, Парис, даже такие второстепенные персонажи, как Пандарий (убитый Диомедом) и Сарпедон (убитый Патроклом). Многие голоса принадлежат не воинам, а женщинам: Андромахе, Елене, Гекубе. Разве это не поразительно, говорит Барикко, что в мужском милитаристском обществе Гомер так стойко защищает позицию женщин, их стремление к миру? Барикко отмечает, что женщины в «Илиаде» подобны Шахерезадам: они знают, что, пока они продолжают говорить, война не начнётся. Мужчины осознают, что Ахиллес откладывает своё вступление в войну, оставаясь с женщинами, и что пока они спорят о том, как нужно сражаться, они не вступают в бой. Когда Ахиллес и другие мужчины, наконец, бросаются в битву, они делают это вслепую, фанатично преданные своему воинскому долгу. Но до этого – долгое, медленно текущее время находится во власти женщин. «Слова, – пишет Барикко, – это оружие, которое женщины используют, чтобы попытаться погасить огонь войны».
Размышляя над «Илиадой», Барикко предполагает, что наше безрассудное влечение к красоте войны ничуть не ослабло с тех пор: если война это ад, то, как бы ужасающе это ни звучало, – это прекрасный ад. В наше время войну ненавидят и проклинают, но всё-таки не считают абсолютным злом. Барикко же говорит о том, что есть единственная альтернатива этому злополучному влечению – созидание иной красоты, которая могла бы возобладать над нашей жаждой войны, то, что должно создаваться день за днём тысячами художников. Если мы будем преданы этому делу, мы сможем удержать Ахиллеса от кровавых битв: не внушая страх или отвращение к борьбе, но искушая другой красотой, более блистательной и величественной, чем та, что привлекает его сейчас. Такая прелюдия к «Илиаде» просто необходима, утверждает Барикко.
Однако у обнадёживающей идеи Барикко есть серьёзный контраргумент, основание которого восходит ко временам самого Гомера. Для философа Гераклита Эфесского война была не злополучным влечением, но созидательной энергией борьбы противоположных начал, содержащей мир в единстве, и он упрекал Гомера за то, что его поэмы недостаточно воодушевляли к войне. «Гомер заслуживает того, чтобы быть изгнанным из общественных мест и высеченным розгами! Он был неправ, говоря: «Чтоб раздор исчез меж богов и людей». Не видел он, что молился о гибели мира, ибо, если б молитвы его были услышаны, всё бы пошло прахом, всё бы исчезло и прекратилась жизнь»[420]420
Цит. по Диоген Лаэртский, «Жизнь и высказывания знаменитых философов», Книга IX.
[Закрыть]. Более того, Гераклит утверждал: «Следует знать, что война всеобща, правда есть борьба, всё происходит через борьбу и по необходимости»[421]421
Celso, El Discurso verdadero contra los cristianos, introduccion у notas de Serafin Bodelon (Alianza: Madrid, 1988).
[Закрыть]. Своя точка зрения на это решительное заявление была у Данте: он полагал, что раз целью закона является всеобщее благо, но это не может быть достигнуто справедливыми мерами, то любая война, предпринимаемая «для общего блага», оправданна. Данте считал, что завоевание мира Римом было обосновано стремлением к справедливости в будущем, ибо «целью было не насилие, а установление закона»[422]422
Dante Alighieri, De monarchia, II: 5:22 in Le Opere di Dante. Testo critico della Societa Dantesca Italiana, ed. M. Barci et al. (Societa dantesca Italiana: Milano, 1921—22).
[Закрыть]. В наши дни, те кто говорят о «необходимых потерях» и «сопутствующем ущербе» следуют тому же аргументу.
Барикко затрагивает страшный парадокс. Мы понимаем, что кровавая жестокость войны ужасна, но всё же что-то внутри нас стремится к ней как к захватывающему зрелищу состязания. Когда Улисс и Телемах атакуют вероломных женихов, Гомер сравнивает мстительного царя и его сына с соколами, атакующими маленьких птичек:
Люди тешатся травлей… В 1939 году Симон Вейль, в одном из своих текстов размышляя о скрытых силах, действующих в «Илиаде», отметил, что преобладающее чувство во всей поэме – это горечь, «единственно заслуживающая оправдания горечь, ибо её изначальный исток нельзя преодолеть: это подчинённость человеческого духа той силе, которую в терминах категорий именуют материей. Эта подчинённость – всеобщая судьба, несмотря на то, что каждая душа будет исполнять её по-разному, следуя собственным возможностям и обстоятельствам. Никто в «Илиаде» не избавлен от этой судьбы, как и никто на земле. Все подвластны этой силе, и никто не испытывает презрения к тем, кто поддаётся её действию. Тот, кто в собственной душе и в отношении к другим людям, пытается бежать от превосходства этой силы, превозмочь её, – тот любим, но любим горькой любовью, потому что над таким человеком всегда нависает угроза быть уничтоженным, как если бы он боролся со стихией[424]424
Simone Weil, The Iliad, or the Poem of Force, translated by Mary McCarthy (Pendle Hill Pamphet: Wellingford, Pennsylvania, 1956).
[Закрыть]. Только тот, кто прошёл через страдания войны, несправедливость, несчастье, тот, кто познал, насколько сильна может быть власть стихии, «и знает, как не признавать её власть», способен, по словам Вейля, «к любви и справедливости». Возможно, то же самое имел ввиду и Данте?
Чтобы в первый год Второй мировой войны поставить солдат перед этим парадоксом, поэт и критик Герберт Рид собрал литературную антологию «Рюкзак», достаточно маленькую, чтоб упаковать эту книжку в снаряжение. На первых страницах книги он поместил три фрагмента из Гомера в переводе Чапмена: воззвание к Аресу из «Войны мышей и лягушек», сцену вооружения Агамемнона в песне одиннадцатой «Илиады» и историю ковки щита Ахиллеса в песне восемнадцатой. Рид пояснил, что в своём выборе он руководствовался как желанием избежать «морализаторского серьёзного тона и некой абстрактности», присущих, по его мнению, другим военным антологиям, так и стремлением показать «диалектику жизни, противоречия которой мы должны осознать; философию, которая действительно работает». Рид утверждал, что на войне и в мелких конфликтах повседневной жизни каждому человеку необходимо осмыслить и принять диалектические истины, если он намерен сохранить здравый рассудок[425]425
Herbert Read, editor, The Knapsack (George Routledge & Sons: London, 1939).
[Закрыть]. Мольба сохранить «здравый рассудок» звучит и в воззвании к Аресу в «Войне мышей и лягушек».
С одной стороны, мы не можем отказаться от идеалов, защита которых оборачивается войной, от героизма и альтруизма, с которыми их порой защищают, отречься от свободы, которую зачастую можно достичь только борьбой. Эти лучшие побуждения оправдывают Гомера, когда он любовно описывает меч, пронзающий плоть, хлестнувшую кровь, выбитые зубы, вытекающий из костей мозг. Аякса, говорящего об «отраде войны»[426]426
Илиада, XV.
[Закрыть]. Париса, который вступает в бой «ликующий, громко смеющийся»[427]427
Илиада, VI.
[Закрыть]. Но с другой стороны, кровавую резню, разрушение – всевозможные страдания причинённые войной – невозможно «извинить» благими намерениями[428]428
Впрочем, некоторые считают это возможным. В лондонском периодическом издании The Spectator, от 30 июля 2005 года, в статье «Спасибо Хиросиме» Эндрю Кенни (Andrew Kenny) опубликовал скандальную защиту бомбардировки Хиросимы, утверждая что в перспективе это спасло больше жизней, чем погубило.
[Закрыть], и, несомненно, Гомер ненавидел войну. «Внушающая ужас», «бич людской», «двуликая, лживая» – так он называет войну. И даже устами самого Зевса говорит об «ужасном деле войны»[429]429
Илиада, VIII.
[Закрыть]. Жалость, скорбь, мольба о сострадании всегда недалеки от поля боя, где правят ненависть и ярость. Неслучайно именно мольба (первая, жреца Аполлона, Хрисея, за его дочь, взятую Агамемноном, и последняя, царя Приама за тело его сына Гектора) начинает и заканчивает «Илиаду».
Строки «Илиады» обладают такой необыкновенной силой воздействия именно потому, что держат напряжение между этими двумя истинами. Хотя, например, Эмиль Золя, образцовый представитель реализма девятнадцатого века, отказывал Гомеру в таких тонкостях: «Герои его книг – просто-напросто бандитские главари. Там женщин насилуют, людей одурачивают, они ругаются годами напролёт, режут друг другу глотки, издеваются над трупами своих врагов. Почитайте романы Фенимора Купера об индейцах, и вы обнаружите сходство»[430]430
Emile Zola, Ouevre critique, II (Francois Bernouard: Paris, 1929).
[Закрыть]. Золя ошибался: поэмы Гомера отнюдь не пустые описания стычек и уж точно не рассказывают о чём-то заурядном и привычном. Современному читателю легко перепутать традиционные эпитеты с однообразными описаниями, но на самом деле то, что сами эпитеты общеприняты и в чём-то схожи, не значит, что они являются синонимами: Гомер знал больше шестидесяти способов сказать «он умер так-то и так-то», и все эти описания обладают существенными различиями.
Гомер откровенно рассказывает нам, что война заключена в самом устройстве Вселенной: это изображено на щите, который бог-кузнец Гефест выковал для Ахиллеса[431]431
Илиада, XVIII:478.
[Закрыть]. Этот щит разделён на пять кругов. В центре – земля, небо и море. Потом следуют два города: один мирный, в нём справляют свадьбу и ведут судебную тяжбу, другой город держит осаду врага, в нём мужчины готовят засаду, в то время как старики, женщины и дети прячутся, вжавшись в городские стены. Третий круг изображает четыре времени года, четвёртый круг – ритуальный танец, и, наконец, пятый и последний – образ Океана, который, как представляли во времена Гомера, был рекой, текущей по краю земли. Порядок космоса определяет и человеческий мир, в котором искусство войны уравновешено искусством созидания. Щит Ахиллеса показывает, как глубоко и полно Гомер понимал наше двойственное, амбивалентное отношение к войне, наше влечение и ненависть к ней, красоту, которую мы приписываем ей, и ужас, который она нам внушает; как, представ перед ней, мы осознаём двойственную, диалектическую природу мира. В дополнение этой мысли можно привести два фрагмента из «Илиады».
Песнь шестая начинается с того, что греческие и троянские силы сражаются под стенами Трои, между рек Симоис и Ксантус. Один из троянцев, по имени Адраст (вообще же персонажей с таким именем трое), был схвачен Менелаем, когда его лошади понесли и он рухнул на землю со своей колесницы. Менелай грозно возвышается над ним, «тень от копья всё длиннее и ближе», и Адраст обнимает колени своего палача и умоляет пощадить его за богатый выкуп. Мольбы Адраста трогают царя, и он уже готов оставить его в живых и отправить на корабль как пленного, но тут появляется Агамемнон и бранит его за слабость. Причём, как мы помним, Менелай является главным зачинщиком войны и оскорблённой стороной, он муж Елены; Агамемнон же, брат Менелая, только командует греческой армией. Но Агамемнон говорит:








