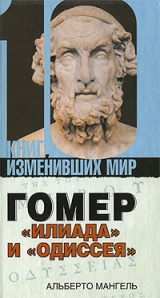
Текст книги "Гомер: «Илиада» и «Одиссея»"
Автор книги: Альберто Мангель
Жанр:
Литературоведение
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 13 страниц)
Мадам Гомер
Если (критик Десмонд Маккарти) искренне желает найти великую поэтессу, почему же он исключает такую возможность, что автором «Одиссеи» могла быть женщина? Насколько мне известно, Сапфо была женщиной, и, однако, Платон с Аристотелем ставили её в один ряд с величайшими поэтами Гомером и Архилохом.
Вирджиния Вульф, «Интеллектуальный статус женщины»
Через двадцать пять лет после раскопок Шлимана, в 1897 году, Сэмюэль Батлер опубликовал в Лондоне брошюру под названием «Женщина, автор «Одиссеи»: кто она, когда и где она писала»[347]347
Samuel Butler, The Authoress of the Odyssey: Who and What She Was, When and Where She Wrote [1897], Second Edition With a New Preface by Henry Festing Jones (Jonathan Cape: London, 1922).
[Закрыть]. Сын священника и внук епископа, Батлер пробовал свои силы в разных областях деятельности, и по большей части успешно, от фермера-овцевода в Новой Зеландии (кстати, этот опыт дал ему возможность написать фантастическое произведение-утопию «Иерихон») до художника, теолога, поэта, учёного, музыканта, антиковеда и писателя. Лучшая из его литературных работ «Путь всего сущего» была опубликована посмертно, в 1903 году. Батлер полагал, что если внимательно читать «Одиссею», то можно прийти к догадке, что её автором является не слепой умудрённый муж, а юная девица, к тому же, уроженка Сицилии. По его предположениям, она жила приблизительно между 1050 и 1000 годами до н. э. и до создания «Одиссеи» или во время работы над ней читала «Илиаду» Гомера, поэтому могла время от времени приводить из неё «вольные цитаты». Батлер отверг теорию Вирджинии Вулф о том, что над этими произведениями работал целый коллектив соавторов, и насмехался, называя её идеи «экстравагантным гомерическим кошмаром, который немецкие профессоры вытащили на свет из глубин подсознания». Но всё же признавал, что та «Одиссея», которую мы знаем сегодня, была составлена из двух разных поэм с разными сюжетами. На вопрос об основаниях его теории Батлер беспечно отвечал, что главным её источником является комментарий, прочитанный им при беглом осмотре одного из трудов филолога-классика Ричарда Бентли (который, кстати, в пух и прах раскритиковал и отверг перевод Поупа), где отмечалось, что «Илиада» была написана для мужчин, а «Одиссея» – для женщин. Батлер упорно отрицал единогласное мнение учёной общественности, что «Одиссея», несомненно, «была написана для любого, готового слушать», и приводил другие аргументы. Например, «если анонимная книга вызывает у критиков предположения, что она была написана для женщин, то невольно закрадывается мысль, и как правило, справедливая, что эта книга и написана была тоже женщиной».
Эта идея возникла у Батлера в 1886 году, в то время, когда он писал либретто (и частично музыку) для светской оратории, основанной на историях странствий Улисса. Для этой цели Батлер решил перечитать поэму «Одиссея» в оригинале, чего уже не делал много лет. «Как и в первый раз, я был восхищён лёгкостью слога и небывалой, зачаровывающей прелестью сюжета, но у меня появилось смутное чувство: что-то было не так, что-то ускользало от меня, оставалось загадкой, которую я никак не мог разгадать. Чем больше я размышлял над словами, на первый взгляд такими понятными и простыми, тем больше я чувствовал скрытую за ними тайну, которую я должен был раскрыть, чтобы познать, что было на сердце у автора; я стремился к этому, ибо самое интересное в искусстве – то, как в нём раскрывается личность творца».
Следуя своим интуициям, Батлер обнаружил в тексте «Одиссеи» факты, подтверждающие его догадки. Например, он нашёл в поэме неточности, которые, по его мнению, «легко могла допустить молодая девушка, но вряд ли мужчина». Вот некоторые примеры из составленного им списка таких ошибок: уверенность в том, что у корабля два руля, спереди и сзади (в песне девятой), что добротный строевой материал для судна можно получить из растущих деревьев (песнь пятая), что ястреб расправляется со своей жертвой на лету (песнь пятнадцатая). Кроме того, опираясь на текст, он составил подробную схему дворца Улисса и доказал тем самым, что только женщина могла бы так точно описать расположение комнат и их интерьер, а некоторые другие описания были явно составлены с трудом. Также только женщина без колебания может «слегка переместить ворота», чтобы приукрасить свой рассказ. И наконец, «Когда Улисс и Пенелопа отправляются в постель и рассказывают друг другу свои истории, Пенелопа рассказывает первой. Я же полагаю, что если бы эту поэму писал мужчина, то он бы сначала дал слово Улиссу, а потом Пенелопе»[348]348
Ibid.
[Закрыть].
Ещё Батлер задумывался о проблеме, над которой с самых ранних времён бились все учёные комментаторы Гомера: что описанная Улиссом Итака не соответствует в точности ни одному из известных островов Греции.
В солнечносветлой Итаке живу я; там Нерион, всюду
Видимый с моря, подъемлет вершину лесистую; много
Там и других островов, недалёких один от другого:
Зам, и Дулихий, и лесом богатый Закинф; и на самом
Западе плоско лежит окружённая морем Итака,
Прочие ж ближе к пределу, где Эос и Гелиос всходят[349]349
Одиссея, IX:21-26.
[Закрыть].
Эти топографические ссылки точно и красочно описывают Итаку, но они нисколько не соотносятся с тем островом Итака, который знаем сегодня. Существует довольно распространённое предположение, что, сочиняя свою поэму где-то в Малой Азии, автор никогда не видел дворец Улисса и просто придумал его или же был введён кем-то в заблуждение. Недавно была выдвинута теория, что на самом деле Итака когда-то была островом, но впоследствии стала частью материка, и сейчас это место известно как Палики – самая западная точка Кефалонии[350]350
Robert Bittlestone, Odysseus Unbond: The Search for Homer's Ithaca (Cambridge, Massachusetts and London, 2006).
[Закрыть]. Батлер предположил, что во времена Гомера Итакой назывался совсем другой остров, расположенный вблизи Сицилии, скорее всего, неподалёку от Трапани. Батлер решил, что «недалёкий и покрытый горами остров Мареттимо»[351]351
Samuel Butler, The Authoress of the Odyssey.
[Закрыть]является наиболее подходящим по описанию.
Историки отвечали на книжку Батлера презрительным молчанием или только крутили у виска. В 1956 году американский историк Мозес Финли упрекал Батлера в том, что тот пытался судить об античном произведении, как если бы «создатель (или создательница) «Одиссеи» жил в его время – Викторианскую эпоху, и характеры героев в поэме были схожи с душевной организацией его современников»[352]352
Moses Finley, The World of Odysseus [1956] {Pelican Books: Harmondsworth, Middlesex and New York, 1962).
[Закрыть]. Эта критика была вполне справедливой. Но несмотря на то, что теория Батлера была странной и неубедительной, она определённым образом повлияла на отношение многих писателей двадцатого века к античной литературе. Вместо того чтобы смотреть на тексты как на священную вершину, которую читатели никогда не смогут по-настоящему достичь, но живут у её склонов, в её тени (как видел это, например, Гёте)[353]353
J.W. von Goethe, Dichtung and Wahrheit.
[Закрыть], Батлер предоставляет нам равнину, на просторах которой текст и читатель тоже равны; где читатель может свободно войти в пространство текста и оказывать влияние на него, давая героям и предметам новые имена и формы, изменяя его в бесконечном процессе обновления. Конечно, Батлер не был изобретателем такого подхода, но без зазрения совести, даже с удовольствием присвоил его. Впрочем, Батлер никогда не страдал от неуверенности в себе. Однажды в разговоре со своим другом Уильямом Баллардом он упомянул в качестве примера, что в тот момент, когда Персей пришёл освободить Андромеду, дракон чувствовал себя как нельзя лучше, пребывая в отличном здравии и боевом духе, и выглядел просто замечательно. Баллард ответил, что хотел бы, чтоб этот факт был упомянут поэтами. Батлер с укором посмотрел на него и произнёс: «Баллард, я ведь тоже “поэт”»[354]354
Samuel Butler, The Notebooks, Selections arranged and edited by Henry Festing Jones (Jonathan Cape: London, 1912).
[Закрыть].
В 1932 году Т. Э. Лоуренс в той же ироничной манере воображал Гомера (Гомера как автора «Одиссеи», потому что, как и Батлер, считал, что у «Илиады» был совсем другой автор) не прекрасной молодой сицилийской леди, а старым английским джентльменом. «Книжный червь, не молод, живёт на средства от доходного дома, замкнут, коренной житель города и домосед. Женат, но уже не впервые, любит собак, часто голоден и испытывает жажду, темноволос. Увлекается поэзией, большой ценитель «Илиады», в суждениях полагается не на чувственные интуиции, но на точный строгий взгляд. Ценитель всяческого антикварного барахла, хотя в этом он, как Вальтер Скотт, разбирается мало… Он любит деревенские пейзажи, как их может любить только горожанин. Он, конечно, не фермер, но знает, каким должно быть хорошее оливковое дерево. Когда жизнь бросает вызов, он отдаётся воле случая; но никогда не видел умирающих на поле боя. Плывя по морю, он всматривается в морскую даль с благоговением и трепетом, ведь мореплавание – не его стихия. Слегка увлекается охотой, видел диких кабанов в прерии и слышал дикий пронзительный львиный рёв… Он очень начитан, этот домосед. Его работы предназначены узкому кругу тонких ценителей литературы. Его записи изобилуют витиеватыми замечаниями, и он вставляет их в свои истории при любом мало-мальски удобном случае. Его, как Уильяма Морриса, эпоха привела к легенде, в которой люди беззаботно жили под небесами божьей благодати. Только, несмотря на то, что у него больше витиеватых слов, чем у Морриса, у него было меньше поэзии»[355]355
T. E. Lawrence «Translator's Note» in The Odyssey of Homer.
[Закрыть].
Вслед за Батлером и Лоуренсом появились другие писатели, которые попытались завязать с миром Гомера близкие дружеские отношения. Современная писательница Маргарет Этвуд, возможно, под влиянием Батлера попыталась взглянуть на повествование о возвращении Улисса с точки зрения Пенелопы и её служанок[356]356
Margaret Atwood, The Penelopiad: The Myth of Penelope and Odysseus (Canongate: Edinburgh and New York, 2005).
[Закрыть]. В двадцать второй песне «Одиссеи», после того как Улисс убивает Антония, одного из двух главных поклонников Пенелопы, он разоблачает себя перед изумлённой публикой и начинает убивать непрошенных гостей одного за другим; в этом ему помогают Телемах, свинопас Евмей и пастух Филойтий. Козопас Меланфий пытается вооружить оставшихся в живых женихов, но его план вскоре раскрывают, а потом пытают до смерти.
Увернувшись от стрел, сам Улисс облачается в доспехи и расправляется с остальными соперниками копьём и мечом, а потом казнит двенадцать служанок, ставших их любовницами. После этой резни Улисс очищает дворец, особенно столовую и двор, окуривая их серой. Однако Этвуд нашла эту историю неудовлетворительной. По её словам, «остаются, по крайней мере, два вопроса, которые возникают после внимательного прочтения «Одиссеи»: почему повесили служанок и что было на уме у самой Пенелопы? Этой истории явно не хватает подробностей, и в ней слишком много противоречий»[357]357
Ibid.
[Закрыть].
По мнению Батлера все эти «противоречия» были прямым доказательством того, что Гомер был женщиной. «Читатели оказали бы огромную услугу поэтам и писателям, воспринимая на ура все плоды их творчества, но мы всегда склонны к подозрениям и критике, так как хотим быть уверены, что автор не водит нас за нос». А сцена убийства женихов и повешения служанок, по мнению Батлера, раскрывает, что автор идентифицирует себя с Пенелопой (как, впрочем, и с Навсикаей – в другом эпизоде). «Её не волнует, насколько тяжело будет для читателя пытаться верить ей: единственное, о чём она думает – это месть. Ей нужно, чтобы все ухажёры были зверски убиты, и все провинившиеся женщины повешены, и чтоб Меланфия жестоко пытали, разрезая на куски! Всё, месть достигнута, и читателя вовсе не нужно посвящать в тонкости причинно-следственных связей этой истории»[358]358
Samuel Butler, The Authoress of the Odyssey.
[Закрыть].
Этвуд не находит разворот событий непонятным или непоследовательным, но её не удовлетворяет сама история. По её мнению, Пенелопа допустила убийство служанок в результате ужасной ошибки. Когда Улисс просит няню Евриклею выбрать для казни двенадцать из пятидесяти домашних прислужниц, она, не зная замысла Пенелопы, выбирает двенадцать тех верных, поведение которых было продиктовано приказом Пенелопы войти в доверие к мужчинам и шпионить за ними. А что если няня знала о плане Пенелопы и всё равно указала на невинных девушек, только чтобы уверить Улисса в своей любви и преданности?[359]359
Margaret Atwood, The Penelopiad.
[Закрыть]
Какой бы ни была причина, двенадцать девушек убиты как «дрозды длиннокрылые или как голуби, в сети / Целою стаей – летя на ночлег свой – попавшие»[360]360
Одиссея, XXII:468-469.
[Закрыть] (по трогательному описанию Гомера), и эта сцена не может не взывать читателей к различным ассоциациям с историческими событиями, говорит Этвуд. Она сама связывает с этой сценой современные явления массового насилия в отношении женщин, гонимых собственным народом – как это случилось в Боснии, Руанде, Дарфуре и при многих других конфликтах. Если, как предполагает Батлер, автором «Одиссеи» была женщина, то она несомненно остро осознавала бы то, что насилие над женщинами сопутствует любой войне, так же как ярость, месть, грабежи. По видению Этвуд, вина за убийство девушек лежит на Улиссе как вечное проклятие, Улисс гоним им и готов отправиться куда угодно и стать кем угодно, лишь бы получить избавление. И, между прочим, этот образ проклятого Улисса перекликается с Данте и Теннисоном.
Читатели, видимо, так никогда и не поймут до конца, – на самом ли деле Батлер верил в свою теорию или просто разыгрывал их. Если это был розыгрыш – значит, Батлер явно недооценивал проницательность своих читателей. Однажды он рассказал о своём открытии леди Ритчи, старшей дочери Уильяма Теккерея, – и она ответила ему, что и у неё в запасе есть парочка сенсационных теорий: например, что сонеты Шекспира написала Анна Хезевей. Батлер не понял шутки. Он только качал головой и бормотал: «Бедная леди, ну как же можно было сказать такую глупость…»[361]361
Mary Josefa MacCarthy, A Nineteenth-Century Childhood (William Heinemann: London, 1924).
[Закрыть]
Конечно же, и после выхода книжки Батлера гомеровский вопрос остался открытым для академической науки – был ли у «Илиады» и «Одиссеи» один автор или разные, или их было несколько, и т. д. Но нужно сказать, что в литературных кругах отношение к Гомеру стало меняться: его стали воспринимать как живого автора, с которым можно вступить в общение, а не как венценосного и недосягаемого жителя Олимпа, да и к античному наследию в целом стали относиться с большей степенью свободы, запросто присваивая или приписывая идеи. И если Батлер тоже был «поэтом», то его идентификация была обоюдосторонней, и Гомер стал (по крайней мере, в глазах Батлера) этаким античным Сэмюэлем Батлером. Редьярд Киплинг, для которого наше понимание настоящего было отражением наших знаний о прошлом, полагал, что такие отдалённые ассоциации не лишены смысла. Например, знание достоинств и недостатков Римской империи может открыть нам новый взгляд на империю королевы Виктории; чтение средневековых историй позволяет нам лучше понять современную эпоху и собственную жизнь в ней; у Горация и Шекспира писатели нового времени могут найти модели для собственных оригинальных творений.
Гомер все на свете легенды знал,
И всё подходящее из старья
Он, не церемонясь, перенимал,
Но с блеском, – и так же делаю я.
А девки с базара да люд простой
И все знатоки из морской братвы
Смекали: новинки-то с бородой, —
Но слушали тихо – так же, как вы.
Гомер был уверен: не попрекнут
За это при встрече возле корчмы,
А разве что дружески подмигнут,
И он подмигнёт – ну, так же, как мы[362]362
Пер. А. Щербакова (Rudyard Kipling, «When ‘Omer Smote ‘Is Bloomin’ Lyre» in The Seven Seas).
[Закрыть].
Странствия Улисса
Мистер Гладстон читал Гомера для удовольствия, и, я думаю, это пошло ему на пользу.
Уинстон Черчилль, «Мои ранние годы»
Если пристальному взгляду Гомер предстаёт персоной с тысячью лиц – необразованным бродягой, учёным джентльменом или молодой сицилийской женщиной, – то почему бы ему не быть ирландским эмигрантом? Его герои могли бы вести повседневные битвы обычного жителя Дублина; они могли бы путешествовать в лабиринте города от приключения к приключению, как воин, возвращающийся домой, или как сын в поисках отца. Они могли бы быть нашими современниками – ведь говорят, что Гомер предвидел всё, как сказал однажды немецкий поэт Дюрс Грюнбейн: «Настоящее – лишь виток для Гомера»[363]363
Durs Grunbein, Galilei vermisst Dante Holle und bleibt an den Massen Hangen (Suhrkamp Verlag: Frankfurt am-Main, 1996).
[Закрыть]. Они могли бы чувствовать себя окружёнными вечным морем, дарящим вдохновению их поэтов свой цвет – тёмного вина или нефритовой зелени… Они могли бы пытаться быть если не хорошими (Джеймс Джойс использовал немецкое слово «gut»), то хотя бы «gutmütig» – пристойными[364]364
Цит. по Richard Ellman, James Joyce, new and revised edition (Oxford University Press: Oxford and New York, 1982).
[Закрыть].
Как и Батлер, Джойс причислял себя к этим «поэтам», и между прочим, в юности был не уверен, стоит ли принимать Гомера в их компанию. Писателю Патрику Колуму двадцатилетний ирландец заявил, что Гомер ему совершенно неинтересен, потому что у него сложилось впечатление, что его эпос был «вне традиции европейской культуры»[365]365
Ibid.
[Закрыть]. По мнению Джойса, единственным европейским эпическим произведением была «Божественная комедия» Данте. Возможно, такой радикальный взгляд был результатом католического воспитания: большинство католических стран были подвержены сильному влиянию контрреформационной идеологии, с её глубоким недоверием ко всему греческому, о чём уже говорилось выше. В школе Джойс изучал латынь, позднее, когда он жил в Триесте, выучил несколько слов из современного греческого, но глубоко сожалел о своём незнании языка Гомера. Своему другу Фрэнку Баджену, государственному служащему из Цюриха, он сказал однажды: «Ну только подумай, разве это не тот самый мир, в который я бы в точности вписался?»[366]366
Ibid.
[Закрыть]
Но Джойс хотел сделать больше, чем «вписаться» в него: он желал построить его заново на ирландской земле, воссоздать до последней черточки из ирландских материй. Когда Джойс жил в Триесте, он хранил у себя эссе Уильяма Батлера Йейтса, датированное 1905 годом: в нём Йейтс предположил, что пора уже кому-то из новых писателей снова посетить древний мир «Одиссеи». «Я думаю, что мы научимся снова, – писал он с провидческой мудростью, – описывать с величайшей пространностью скитания старого воина среди заколдованных островов, его возвращение домой, его медленно зреющую месть, мелькнувший силуэт богини и полёт стрел, и сделать так, чтоб все эти разнообразные вещи стали подписью или символом божественной игры воображения»[367]367
W.B. Yeats, «The Autumn of the Body» in Ideas of Good and evil, quoted by Richard Ellmann, The Consciousness of Joyce (Oxford University Press: Oxford and New York, 1977).
[Закрыть]. Во вдохновляющем вызове Йейтса, как и в теории Вико, Джойс нашёл подтверждение своим мыслям. Его намерения подкрепил и один интересный топографический факт: «Одиссея» начинается с пребывания Улисса у Калипсо – на острове Огигия. Джойс обнаружил, что Огигия – это название, которым Плутарх в давние времена именовал Ирландию[368]368
Cf. Richard Ellmann, James Joyce.
[Закрыть]. В 1937 году Джойс говорил Владимиру Набокову, что желание сделать поэму Гомера основой «Улисса» было всего лишь «прихотью». Своё сотрудничество со Стюартом Гилбертом в подборке аналогий с гомеровским текстом писатель назвал «ужасной ошибкой»[369]369
Ibid.
[Закрыть] (Джойс удалил гомеровские названия глав до того, как книга была издана). Но присутствие Гомера в романе всё же было очевидным. Набоков предположил, что загадочный и не поддающийся однозначной идентификации «Человек в коричневом макинтоше», который время от времени появляется на страницах «Улисса», мог быть самим Джойсом, затаившимся среди собственных строк[370]370
Vladimir Nabokov, «Ulisses» in Lectures on Literature, edited by Fredson Bowers, introduction by John Updike (Harcourt Brace Jovanovich: New York and London, 1980).
[Закрыть], или… Гомером, прибывшим посмотреть на невиданную реставрацию его миров.
Джойс не стал комментировать эти догадки, да и сам Набоков говорил, что вопрос о соотношении «Одиссеи» и «Улисса» был просто кормом для критиков. Невозможно не распознать продуманные параллели и знаки почтения, цитаты и заимствования непосредственно из Гомера или же обращённые к интерпретациям Данте и Вергилия. Но все эти ассоциации завуалированы своеобразием стиля, они «типично джойсовские», как, например, в блестящей игре с гомеровскими эпитетами в описании городских циклопов:
«Фигура, сидевшая на гигантском валуне у подножия круглой башни, являла собою широкоплечего крутогрудого мощночленного смеловзорого рыжеволосого густовеснушчатого косматобородого большеротого широконосого длинноголового низкоголосого голоколенного стальнопалого власоногого багроволицего мускулисторукого героя»[371]371
Пер. С. Хоружий, В.А. Хинкис, эпизод 12.
[Закрыть].
(Здесь Джойс старается быть смешным и уважительным одновременно, не впадая в пародическое подражание, которым, например, забавлялся А. Е. Хаусман:
Джойс рассказывал Баджену о том, что он пишет книгу, основанную на «Одиссее», и она будет повествовать о восемнадцати часах из жизни некой «многогранной личности»[373]373
Цит. по Richard Ellmann, James Joyce.
[Закрыть]. Он утверждал, что такого рода личность никогда никто ещё не описывал. Всем великим персонажам – как Христос, Гамлет, Фауст – недоставало полноты опыта жизни. Он вычеркнул Христа как холостяка, который никогда не жил с женщиной, Гамлета, который был лишь сыном и никогда – мужем или отцом, и Фауста, который вовсе и не стар и не молод, без дома и без семьи, только «постоянно путался под ногами» у Мефистофеля.
Однако всё же отыскался тот, кто идеально соответствовал замыслам Джойса. Улисс был «сыном Лаэртия, отцом Телемаха, мужем Пенелопы, любовником Калипсо, собратом по оружию греческим воинам под Троей и царём Итаки. Он подвергся многим испытаниям, и во всех проявил мудрость и храбрость[374]374
Ibid.
[Закрыть]. Кроме того, хотя Улисс проявил воинскую доблесть на поле боя, был момент, когда он также пытался улизнуть от участия в войне, притворяясь сумасшедшим. Улисс вспахивал своё поле на осле и быке в одной упряжке, но его обман был раскрыт военачальником, положившим младенца Телемаха перед плугом. Интересно, что этот эпизод как бы зеркально отражает историю, в которой мать Ахиллеса, стремясь защитить сына от опасности быть убитым на войне, прячет его среди женщин. Его распознаёт Улисс, когда переодетый женщиной герой выбирает в подарок щит и копьё вместо украшений[375]375
Neither story is in Homer: Ulisses' is told by Hyginus, Fabulae 95, Achiles' in Apollodurus (attr.) The Library. Cf. Robert Graves, The Greek Myths, revised edition (Penguin Books: Harmondsworth, Middlesex and New York, 1960).
[Закрыть].
Улисс и в самом деле один из самых сложных персонажей в поэмах Гомера. В «Илиаде» он – осторожный, рассудительный воин, талантливый дипломат, способный уговорить Ахиллеса принять предложение Агамемнона примириться, и мастер риторики, применяющий действенный трюк – прикидываться простаком, чтоб потом удивить своих слушателей. Старый советник Приама Антенор рассказывает, как Улисс говорил перед публикой, вначале холодно потупив глаза к земле, а потом вдруг разразившись речью:
Могли б вы подумать, что угрюм он, иль просто неумён,
Но когда из груди испускал он могучий свой голос,
И слова громогласные рушились, как лавины в снежную бурю,
То из смертных никто б не осмелился соперником быть Одиссею![376]376
Odyssey, III:265-268 [цит. по англоязычной версии Р. Фаглза, перевод на русский Лидии Кисляковой].
[Закрыть]
Цитируя это описание, мексиканский критик Альфонсо Рейес предположил, что незаурядный интеллект, ловкий и быстрый ум Улисса делали его опасным в глазах власть имущих. Один южноамериканский дипломат рассказал Рейесу, что когда бы он ни возвращался в свою страну, ему казалось, что диктатор думает про него: «Этому человеку нельзя доверять, он слишком правильно говорит»[377]377
Alfonso Reyes, «Odiseo» en Algunos ensayos, prologo у seleccion Emmanuel Carballo (Universidad Nacional Autonoma de Mexico: Mexico, 2002).
[Закрыть].
В «Одиссее» образ Улисса подобен фигуре трикстера в фольклорных рассказах: хитроумный и изворотливый, он остаётся в живых только благодаря незаурядной сообразительности. Но он никогда не обманывает злонамеренно: например, когда в песне одиннадцатой Улисс говорит циклопам, что его зовут Никто, он лжёт – но это лишь необходимая предосторожность от опасных существ. Он также и не изменяет умышленно: он на самом деле любит Пенелопу и становится любовником Цирцеи и Калипсо вовсе не по своей воле, но потому что чары богинь сильнее воли смертного (когда царевна Навсикая намекает о своём влечении, он вежливо отклоняет её притязания).
Однако когда история Улисса стала известна в Риме, восприятие его характера претерпело значительные изменения. Он стал беспринципным, тщеславным персонажем, ассоциировавшимся в римском сознании с хитроумными и проворными левантийскими греками, против которых у римлян, конечно же, были глубокие предубеждения[378]378
Michael Grant, History of Rome (Weidenfeld and Nicholson: London, 1978).
[Закрыть]. Вергилий изобразил Улисса бессердечным разбойником, типа греческого Мориарти, «этакого мастера искусных преступлений»[379]379
Virgil, Aeneid, II.
[Закрыть]. Но в европейскую литературу Улисс вошёл как личность третьего толка. Данте приговаривает Улисса вместе с его соратником Диомедом к восьмому кругу Ада, в котором лукавые советчики (те кто советовал другим воровать и обманывать, то есть духовные воры) корчатся, окружённые вечным пламенем: алчное вожделение, которое пожирало их изнутри, теперь пожирает их снаружи, и если в жизни они использовали язык, чтобы другие горели от жадности, то теперь языки пламени сжигают их. И здесь Данте интуитивно заставляет Улисса исполнить пророчество, поведанное ему Тиресием в царстве мёртвых, о котором Данте не знал, потому что не был знаком с греческим текстом. Предсказатель Тиресий возвещает не о том, что случится неизбежно, но о том, что может случиться: даже в предвиденном будущем всегда есть несколько возможностей, и исход зависит от выбора героя. Тиресий говорит Улиссу, что если тот выполнит определённые условия, то достигнет Итаки и покончит с женихами Пенелопы, но вот остаться дома ему не суждено. Улисс будет чувствовать непреодолимое стремление «странствовать снова»[380]380
Одиссея XI:122
[Закрыть] и предпринять последнее, роковое путешествие. Описание последнего странствия Улисса – один из самых красивых поэтических фрагментов, когда-либо написанных Данте, и этим строкам на итальянском не может уподобиться ни один английский перевод[381]381
Dante Alighieri, Commedia, Inferno, XXVI:90-142.
[Закрыть].
По прошествии более чем шести веков Альфред Теннисон написал решительные, вдохновляющие строки, которые в чём-то перекликаются с описанием Данте. Это стихотворение заканчивается так:
У старости остались честь и долг.
Смерть скроет всё: но до конца успеем
Мы подвиг благородный совершить,
Людей, с богами бившихся, достойный.
На скалах понемногу меркнет отблеск: день
Уходит: медлительно ползёт луна: многоголосые
Глубины стонут. В путь, друзья,
Ещё не поздно новый мир искать.
Садитесь и отталкивайтесь смело
От волн бушующих: цель – на закат
И далее, туда, где тонут звёзды
На западе, покуда не умру.
Быть может, нас течения утопят:
Быть может, доплывём до Островов
Счастливых, где вновь встретим Ахиллеса.
Уходит многое, но многое пребудет:
Хоть нет у нас той силы, что играла
В былые дни и небом и землёю,
Собой остались мы: сердца героев
Изношены годами и судьбой,
Но воля непреклонно нас зовёт
Бороться и искать, найти и не сдаваться[382]382
Пер. Илья Мандель (Alfred, Lord Tennyson, «Ulisses»).
[Закрыть].
Теннисон, увлекавшийся изучением античной литературы в Кембридже, возвращает приговорённого Данте Улисса к истоку, к образам гомеровской поэмы. В этом фрагменте «неустанный странник» Улисс уже не воспринимается в роли бродяги-авантюриста, но снова почитаем как герой. «Я обрёл имя» – говорит он, подводя итоги своего долгого пути-становления от едва оставшегося в живых солдата, который называл себя «Никто», до возвратившегося царя, вновь жаждущего морских походов.
Современный греческий писатель Никос Казандзакис создал свою поэтическую версию «Одиссеи», в которой характер Улисса напоминает героический образ, созданный Теннисоном. Улисс Казандзакиса – странник, ищущий самопознания, примеряющий себя ко всему, что встречается на его пути, но так и не обретающий себя окончательно. Он царь, воин, любовник, злополучный первооткрыватель утопической страны в Африке, – но в своих предприятиях он никогда не достигает успеха. Для этого Улисса поражения важны как приобретённый опыт, познание. Обстоятельства его гибели напоминают смерть другого известного литературе персонажа, тоже «составленного из частей» – это монстр Франкенштейна, который заканчивает свои дни в ледяной пустыне Арктики. Улисс Казандзакиса выброшен на ледяной берег Антарктиды, и его последние слова звучат эхом строк из «Божественной комедии»:
И растаяла плоть, замёрзло сияние взгляда, биение сердца застыло;
миг – и разум на пике свободы святой,
на волнах невесомых крыл взметнулся сквозь воздух ввысь,
парил высоко и вольно. И свобода – не последний предел, и её он оставил.
Рассеялись вещи, как лёгкая дымка поблекли,
последний крик пронёсся дерзко над ночной водой:
«Братья, вперёд, продолжайте же плыть, ибо
ветер доносит дыхание смерти!»[383]383
Пер. Лидии Кисляковой (Nikos Kazantzakis, The Odyssey: A Modern Sequel).
[Закрыть]
Южно-американский современник Теннисона, аргентинец Хосе Эрнандес, сочинил в 1872 году эпическую поэму, герой которой, бродячий пастух по имени Мартин Фьерро, уклоняющийся от военной службы, как пытался в своё время и Улисс. Компаньон Фьерро в его приключениях – сержант Круз. Он, подобно Диомеду, столкнувшемуся с храбрым Главком в «Илиаде», отказывается сражаться с Фьерро и становится его близким другом[384]384
Илиада, VI.
[Закрыть]. Моральные качества Фьерро, конечно, далеки от доблести гомеровского царя, и ближе скорее к прохиндею Вергилия или грешнику Данте. Миром Фьерро правит хитрость и грубая сила. Вот чему поучает циничный старый гаучо (Эрнандес называет его «старый вымогатель»):
Тому, кто в дружбу втёрся к самому судье,
Уж нет причин не радым быть судьбе,
И если тип такой надумает шалить —
Другим придётся присмиреть, и голову склонить.
Благое дело – завсегда иметь
Такую печь, чтоб голый тыл пригреть[385]385
Пер. Лидии Кисляковой (José Hernández, Martin Fierro, «La vuelta de Martin Fierro» 15:2319-2324).
[Закрыть]ю
Джойсовская версия царя Итаки – дублинский еврей Леопольд Блум. Он не похож ни на славного героя Теннисона, ни на искателя приключений Данте, но в его характере есть что-то и от того, и от другого. Так как Блум – еврей, его можно назвать эмигрантом по отношению к коренным ирландцам, он пребывает как бы и внутри, и снаружи ирландских реалий. Но подобное мироощущение присуще всем художественным натурам, и эти переживания были знакомы самому Джойсу. Еврейство Блума приближает его к другому Улиссу – Вечному Жиду средневековых легенд. В 1902—1903 годах Виктор Берар, один из самых оригинальных французских знатоков античности, опубликовал в двух массивных томах свой академический труд «Финикийцы и Одиссей»[386]386
Victor Bérard, Les Pheniciens et I'Odysee 2 volumes, (Armand Colin: Paris, 1902—1903).
[Закрыть]. В нём Берар разработал теорию, что поэма Гомера имела семитские корни, а все географические названия в ней принадлежали реальным местам, которые можно идентифицировать, найдя эквивалентное слово на иврите. Например, Гомер называет остров Цирцеи либо просто «Несос Киркес» либо «Айайа». Слово «Айайа» не имеет значения в греческом, но на иврите это означает «остров Ше-Хаук» – что обратно на греческий переводится как раз «Несос Киркес» – «Остров Цирцеи»![387]387
Richard Ellmann, The Consciousness of Joyce.
[Закрыть] Берар полагал, что сам Гомер был эллином, но так как лучшими мореплавателями в античном мире считались финикийцы, он сделал своего морехода Улисса финикийцем, то есть, по сути, приписал ему семитское происхождение. Без исследования тонкостей различия между семитскими народами Джойс оправдал теорию Берара своим Улиссом-Блумом как смягчённой версией средневекового Вечного Жида (Бык Маллиган так и называет Блума в романе[388]388
James Joyce, Ulysses.
[Закрыть]), по легенде именуемого Картафил или Агасфер. Джойсу была хорошо знакома эта история: она была пересказана в романе Эжена Сю, и Джойс прочёл его ещё до того как покинул Ирландию в 1904 году. По легенде, когда Христос нёс крест на Голгофу, он приостановился, проходя мимо дома Агасфера, и тот крикнул ему «Иди, что ты медлишь?» На что Христос ответил: «Я пойду, но и ты будешь бродить до моего возвращения»[389]389
George K. Anderson, The Legend of the Wandering Jew, third printing (Brown University Press: Hanover and London, 1991). По мнению Андерсона, ассоциировать Блума с Вечным Жидом – это чрезмерное упрощение.
[Закрыть]. С этим пророчеством перекликается проклятие Посейдона, который предрекает Улиссу участь скитаться «по морю вечно гоняя»[390]390
Одиссея, I:73-74.
[Закрыть].
«Улисс» Джеймса Джойса – не интерпретация Гомера, не пересказ и уж точно не пародийная стилизация. Как писал ещё в 1765 году Сэмюэль Джонсон, «пифагорейские числа были открыты в своём совершенстве раз и навсегда; но поэмы Гомера не исчерпывают возможности человеческого разума. Мы способны на большее, чем просто передавать из поколения в поколение его истории, лишь давая новые имена его героям и перифразируя выражения. Обращение к возникшим в древности текстам – это не следствие простодушной уверенности в превосходящей мудрости прошлых веков или мрачных убеждений в деградации человечества, но результат сознательной и непоколебимой веры в то, что темы, дольше всего существующие и остающиеся актуальными, должны быть и обдуманы лучше всего»[391]391
Samuel Johnson, A Preface to Shakespeare [1765] in The Major Works, edited by Donald Greene (Oxford University Press: Oxford and New York, 2000).
[Закрыть]. Джойс сделал больше, чем понял Гомера: он вообразил заново историю изначального путешествия, как если бы его заново предпринимал каждый человек в каждой эпохе. И по сути то, что объединяет Улисса и Блума, – это отражение связующей силы между Гомером и самим Джойсом, и в близости произведений отражается близость их создателей. Другие познавали Гомера через пристальное изучение, переводы, переложения, истолкования. Джойс же начал творить вместе ним, с самого начала.








