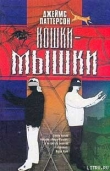Текст книги "В ожидании зимы (СИ)"
Автор книги: Алана Инош
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 41 страниц)
– У меня к тебе только один вопрос, – сказала княгиня. – Эта Серебрица говорила что-нибудь о Калиновом мосте? Что он из себя представляет и как до него добраться? А может, ты видела его своими глазами?
– А что мне будет, коли я отвечу? – насупилась Цветанка. – Мне позволят увидеться с Дарёной?
От глаз Лесияры невозможно было ничего скрыть: они всеведущим солнцем проникали в душу и заставляли светлые ростки правды подниматься и проклёвываться наружу. Вся история отношений с Дарёной немой сутью толкнулась из сердца воровки, а раскрытая ладонь Лесияры чутко уловила этот толчок.
– Ты торгуешься, но предложить тебе взамен нечего, – промолвила княгиня. – Ежели ты любишь Дарёну, не береди ей сердце… Пусть в её памяти останется твой прежний образ, а не нынешний. Она обручена с одной из дочерей Белогорской земли и скоро станет её женой, а вашим с нею путям суждено разойтись, увы.
Эти слова вонзились под сердце воровки жгучей небесной стрелой-молнией и спалили его дотла вместе с сочащейся кровью трещинкой. «Одной из дочерей Белогорской земли», без сомнения, была черноволосая женщина-кошка, Млада. Чем же она очаровала Дарёну в столь короткое время? А может, подругу отдавали за неё силой? Рык сам собой вырвался из-за оскаленных клыков Цветанки, рождаясь в стиснутом от горечи горле…
– Ни про какой мост я не знаю, – огрызнулась она. – А ежели б и знала – ничего бы вам не сказала…
– Да я и так вижу, что не знаешь: мне достаточно тебе в глаза заглянуть, – сказала Лесияра, опуская руку на плечо Цветанки.
Солнечно-яркая тяжесть этой руки придавила воровку, и вся её ершистость сникла, как трава под дождём. Зверь внутри бесился и страдал от прикосновения светлой Лаладиной силы – до судорожного оскала зубов, до крови из лопнувших от натуги дёсен. Он хрипел, раздувал ноздри и бился в телесной оболочке, как в каменном гробу, но его злоба бурлила чужеродно, минуя сознание Цветанки. Это было нечто отдельное и самостоятельное, зверь не сливался с «я» Цветанки, ощущаясь чужаком.
– Не принуждайте Дарёну к браку, – только и смогла прохрипеть Цветанка, не зная, то ли ей плакать, то ли выть волком, то ли рвать зубами всё, что попадётся под руку. Вишнёво-карие глаза Нежаны, полные тоски, умоляли не допускать того, что случилось с ней…
– Никто не неволит её, успокойся, – ответила княгиня. – Она просто нашла здесь свою избранницу, предназначенную ей судьбой.
А холодное коварство северной зелёной зари шепнуло, договорив: «…И если этой избранницей оказалась не ты, это не твоя вина». Коготь Серебрицы провёл эту черту, за которой остались все их с Дарёной дни и ночи.
– Судьба? – прохрипела Цветанка, силясь вырваться из-под руки, укротившей её волю. – Кто из вас читает её, кто смотрит ей в глаза, кому она являет своё настоящее лицо? А может, вы умеете подчинять её и поворачивать туда, куда вам угодно? А? Что молчите?
Это говорила не она – это бессилие стонало и исходило болью в ней. Зверь не мог вырваться, лишь измученно кашлял кровью. Настало облегчение: рука Лесияры поднялась с её плеча.
– Ты свободна, – объявила княгиня, властно приподняв подбородок. – Помочь мы тебе не можем; иди по тому пути, который лежит перед тобой – это всё, что тебе остаётся.
И, кивнув Радимире, Лесияра вышла. А начальница пограничной дружины сказала мягко:
– Ступай за мной.
Цветанке почудилось, что глаза кошки-воительницы затуманились грустью и сочувствием.
Скоро она подставила лицо под холодные поцелуи снежинок. Вокруг молчаливо слушали тишину сосны, а тонкое пушистое покрывало первого снега поскрипывало под ногами. Холод не беспокоил, напротив – замораживал душу, а вместе с ней и тоску, и боль, и растерянность.
– Мы у границы, – показала Радимира рукой в сосново-снегопадную даль. – Там, дальше – перевал, а за ним лежат земли Воронецкого княжества. Тропа отмечена верстовыми камнями со знаком солнца, их ни с чем не спутаешь… Не заблудишься, в общем.
Дыхание вырывалось из её кошачье-чутких ноздрей седым туманом, снежинки цеплялись за пряди волос и ресницы. Покой горных склонов, покрытых сосновым лесом, звучал горделиво и серебристо, как прочная струна меж небом и землёй, натянутая белогорской кудесницей от оружейного дела…
– Постарайся оставаться человеком так долго, как только возможно, – напутствовала Радимира. – Я чувствую: ты крепкий орешек, Маруше придётся попотеть, чтоб тебя разгрызть… Но многое будет зависеть от твоих усилий и знаний, как сберечь человеческое в себе. Первое – имя. Сохрани его, ни при каких обстоятельствах не принимай другого. А позволишь себя переименовать – часть твоей души уйдёт вместе со старым именем. А второе… – Радимира отвязала от пояса баклажку вместимостью с кружку и протянула Цветанке. – Это отвар яснень-травы. Принимай его хотя бы по глотку раз в пару седмиц: он поможет тебе продержаться дольше и отгонит хмарь от твоего разума и души. Это всё, чем мы можем тебе помочь.
Баклажка была обтянута кожаным чехлом с ремешками. Цветанка вынула пробку и втянула ноздрями знакомый горьковато-медовый запах чудесной травы, которой бабуля спасла целый город от морового поветрия… Вот только подействовал этот запах на неё странно, не так, как раньше: если прежде он вливал бодрость в тело и ум, пробуждал силы, то сейчас горло будто сдавила невидимая беспощадная рука – ни охнуть, ни вздохнуть. Спящая под снегом земля качнулась под ногами.
– Осторожно, – сказала Радимира, возвращая пробку на место. – Теперь этот отвар для тебя – яд, но коли станешь принимать его изредка по маленькому глотку, он поддержит в тебе твою человеческую суть… Несколько дней после каждого приёма отвара ты будешь хворать, как и от любого другого яда, но с этим придётся смириться, коль не желаешь всецело отдать свою душу под власть Маруши слишком скоро. Будь осторожна: ежели выпьешь сразу много – это тебя сгубит. Когда отвар кончится, отыщи яснень-траву и сделай новый. Мало этой травы ныне осталось… Рви её в рукавицах, чтоб руки не обжечь, а отвар настаивай семь дней…
– Благодарю, госпожа, я умею его делать, – прохрипела Цветанка, приходя в себя и хватая ртом звонкий от зимней свежести воздух. – Моя бабушка была травницей… Я даже знаю одну полянку, где яснень-трава растёт. Благодарствую на добром совете.
– Вот и хорошо, – молвила начальница пограничной дружины, привязывая баклажку к поясу Цветанки. – Скажи ещё только одно: как же так вышло, что ты своё янтарное ожерелье, с которым никогда не расставалась, вдруг ни с того ни с сего отдала Серебрице?
Цветанка присела на корточки, всем телом и душой ловя обезболивающий холод зимнего покрова, и умылась горстью чистого, девственно-пушистого снега.
– Это не было ни с того ни с сего, – глухо проговорила она. – Оно было нужно ей… Быть может, она нуждалась в нём даже больше меня.
*
Зелёная тревога северных небес вспыхивала, отражаясь в глазах Серебрицы. Обхватив колени руками, она сидела на крылечке своей лачуги, а Цветанка пыталась пробудить её от задумчивости – то теребила её острое, поросшее серебристой шёрсткой ухо, то перебирала позвонки её проступавшего под рубашкой хребта.
«Ну… прости, волчонок, – виновато тычась носом девушке в плечо, мурлыкнула воровка. – Не могу я так обходиться с Дарёнкой… Совесть зазревает. Она и без того многое мне прощает, нельзя так испытывать её терпение. Да и не задерживаемся мы с ней в одном месте надолго… Скитаемся по земле – сегодня здесь, завтра там. Настала нам пора покинуть Марушину Косу. Дарёнке тут пришлось не по нраву».
«Холодом дышит наше небо, – проговорила Серебрица, пронзая жутковато пустым взглядом полыхающую зорниками бездну. – И море неприветливое. Не остаются здесь приезжие надолго… Я и сама не всегда здесь жила, тоже поначалу не нравилось, а потом даже полюбила наше захолустье. А прощения не проси. Ты много мне дала, и я тебе благодарна».
«Пойдём-ка в дом, зябко тут», – сказала Цветанка. Не это она хотела сказать, но слова застревали холодным комом в горле, а сердце дрожало, замерзая от бесплотной ночной тоски.
Печь дышала жаром, в духоте рубашка липла к взмокшему телу, просившему бани. Серебрица жадно обнюхивала Цветанку, щекоча её носом и волосами; вдруг она замерла, уставившись на плечо воровки. Её глаза стали пугающе светлыми, точно их озарила мертвенная вспышка молнии.
«Это что? Откуда эта царапина? Свежая…»
Цветанка уж и позабыла об этом, но тревога Серебрицы заразила и её. Беспокойство царапнуло сердце волчьим когтем.
«Дык… вроде ты меня и оцарапала, когда мы… ну… Не помнишь, что ль?»
Леденящий сполох безумия блеснул в глазах Серебрицы. Фыркая и морщась, как будто ей хотелось чихнуть, она принюхивалась к царапине снова и снова, временами вскидывая на Цветанку совершенно дикий, ошалелый взгляд.
«Ты чего?» – усмехнулась воровка.
Та вместо ответа соскочила с постели, со странной ужимкой отпрыгнув к столу и вцепившись в него удлинившимися когтями. Её верхняя губа дрожала, обнажая клыки, а в глазах зажёгся жёлтый огонь.
«Ты знаешь, кто твой злейший враг? – прорычала она. – Ты! Ты сама! Тени будут прыгать на тебя из-за деревьев, и у всех будет твоё лицо! И ты потеряешь себя среди них… Не отличишь, где ты, а где они! Чтобы их победить, тебе надо стать себе ДРУГОМ! Принять себя… И тогда морок упадёт с твоих глаз, и ты найдёшь дорогу».
Цветанка вжалась в угол постели, чувствуя, как волосы на теле поднимаются дыбом. Серебрица, нагая, окутанная растрёпанным плащом волос, шевелящимся, словно бы живым, опустилась на четвереньки и по-волчьи скалилась. Её шея напряглась, жилы на ней взбухли под кожей, и из горла прорвался летящий на чёрных упыриных крыльях вой…
«Навь умирает, – продолжала бредить Серебрица. – Ночные псы придут наверх… И кто тогда будет поклоняться Лаладиному солнцу? Кто станет рисовать его знаки и вышивать на одежде? Всё поглотит Макша – холодное солнце Нави…»
Эти непонятные слова причудливыми уродцами падали в охваченную испугом душу Цветанки, но зацепиться им было не за что. Так, без понимания и осмысления, они и проваливались сквозь сознание, а Серебрица представала в глазах Цветанки попросту безумной. Рука воровки потянулась за чудесным ожерельем в порыве прогнать это помешательство, смыть его светлым чудом Любви, которая всегда берегла её саму.
Тёплый янтарь, коснувшись лба Серебрицы, собранного в напряжённые складки, заставил её сперва содрогнуться, как от ожога. С шипением девушка-оборотень отпрянула, но Цветанка настойчиво приложила ожерелье к её лбу вновь. И не зря: в глазах Серебрицы забрезжил свет человеческого разума, а сама она измученно сникла в объятия Цветанки.
«Что это было? Что с тобой?» – спрашивала воровка, причёсывая пальцами пепельные пряди Серебрицы.
Та молчала, устало устремив мутный взор в невидимую даль, и лишь иногда щурилась, словно от головной боли. Ночь углублялась и вздрагивала за оконцем, пронзаемая зелёными столбами света в небе… Немало прошло времени, прежде чем раздался голос Серебрицы – слабоватый и утомлённый, но уже человеческий, без призвука звериного рыка.
«У меня был припадок?»
«Да, похоже на то, – ответила Цветанка, успокоительно поглаживая Серебрицу и укачивая в своих объятиях. – Ты стала скакать на четвереньках и выть, говорила что-то непонятное… И часто у тебя такое бывает?»
Серебрица поморщилась и села, потирая пальцами бледные виски.
«Что-то светлое коснулось меня, – пробормотала она, не отвечая на вопрос Цветанки. – Словно кто-то очень добрый погладил по голове, и всё прошло. О, если б этот кто-то всегда был со мной, чтобы унимать моё безумие!»
Она задумчиво смотрела на ожерелье, покачивавшееся на пальце Цветанки, потом прикоснулась к таинственно мерцающему янтарю, и её побледневшие губы тронула улыбка.
«Как же я сразу не догадалась…»
Цветанка опустила ожерелье ей на ладонь.
«Возьми его. Пусть любовь моей матушки оберегает тебя».
Отдать ожерелье оказалось просто. Так же просто и естественно, как сказать дорогому человеку «люблю», как подать воду страдающему от жажды, как накормить голодных беспризорных детишек. Как они там сейчас, её выкормыши? Все ли встали на ноги, все ли имеют крышу над головой, кусок хлеба и заработок?
Брови Серебрицы дрогнули.
«А как же ты?»
«Тебе оно нужнее», – улыбнулась Цветанка, великодушно отстраняя её руку, готовую вернуть ожерелье.
В колдовской бездне глаз Серебрицы отразился мягкий янтарный отсвет. С грустной улыбкой любуясь ожерельем, она проговорила:
«Это самый дорогой подарок, который я когда-либо получала… Благодарю тебя, доброе дитя».
Самого припадка и того, что ему предшествовало, она, похоже, не помнила, а Цветанка не стала заводить об этом речь и расспрашивать о значении странных слов, которые Серебрица выкрикивала. К чему волновать её снова? Ещё не хватало повторения припадка… А Серебрица смотрела на ожерелье с ласковой и задумчиво-печальной улыбкой, как на старого друга, с которым она не виделась уже целую вечность.
На следующий день Цветанка с Дарёной тряслись на одной из повозок торгового обоза. Марушина Коса осталась позади, но руки Цветанки ещё долго пахли рыбой, а новёхонькая юбка отсвечивала прожжённой дырой – напоминанием об одной из ночей любви с Серебрицей. Торопливо раздеваясь, Цветанка в порыве страсти отшвырнула от себя юбку, и та упала близ затопленной печки. Заслонка была открыта, печной огонь выстрелил угольком, и юбка начала тлеть – хорошо, что Серебрица сразу учуяла запах горелой тряпки. Потушить ткань удалось быстро, но дырища осталась размером с ладонь – ветер-повеса так и норовил влететь в неё и обласкать ноги. Хорошо, что под юбкой на Цветанке были привычные и удобные портки.
Они сошли с обоза в Зимграде. Поездка была невесёлой: осенний холод, чавкающая под колёсами и копытами грязь, обиженная и молчаливая Дарёна – всё это повергало воровку в мерзкую хандру. Да ещё и царапина на плече никак не заживала – ныла, билась и горела воспалением. Цветанка постоянно чувствовала её, а стоило сосредоточиться на боли, как оживал призрачный волк. Он уже не предупреждал ни о чём, просто тоскливо выл, и от его плача воровка иногда пробуждалась в липком поту и с трепещущим где-то в горле сердцем.
Работалось бродячим певицам в Зимграде не слишком прибыльно, и если бы Цветанка не подворовывала по привычке, им пришлось бы голодать. Дарёна не ценила её стараний, напротив – укоряла и стыдила, а ночные пододеяльные дела у них пошли наперекосяк. Дарёна отдалилась и охладела, постоянно придумывала предлоги для отказа, и воровка поняла: подруга обиделась всерьёз. Впрочем, основания у неё для этого были более чем вескими, Цветанка и сама чувствовала всей кожей холодок вины. Перебирая в памяти все свои увлечения на стороне, она не могла припомнить ничего подобного… Серебрица стояла особняком в ряду её любовных побед, маня зелёной глубиной лесной печали в глазах; странная и страшная сказка смотрела на воровку из них – старая сказка родом из беспамятного младенчества, погребённая под пылью лет. Её когти оставили след не только на коже Цветанки, но и в её душе.
«Ну, хватит дуться, а? – пыталась Цветанка вновь наладить подход к Дарёне и растопить лёд отчуждения. – Ты же знаешь, моё сердце принадлежит тебе одной… Всё равно будет так, как ты скажешь. Я всегда поступаю по-твоему! Ты сказала прекратить это и расстаться с ней – я оставила её в тот же день».
Дарёна пресекала все поползновения подруги под плащом, которым они были укрыты вместо одеяла. Увы, не долгожданное тепло её тела чувствовала Цветанка, а только холодную пустоту.
«Ежели бы ты не заводила все эти делишки снова и снова, не было бы и надобности их прекращать, – сказала Дарёна. – Ты знаешь, что причиняешь мне этим боль, да только вспомни: тебя это хоть когда-нибудь останавливало? И когда после этого ты говоришь, что меня любишь – только меня одну! – мне раз от раза всё меньше хочется тебе верить. И ежели я молча прощаю тебя снова и снова, то не думай, что я считаю, будто так и надо жить дальше – смиряться, врать и друг другу, и себе, делая вид, что у нас всё хорошо. Нет! Не хорошо! Мы уже несколько лет вместе, но ты не меняешься и вряд ли когда-нибудь изменишься. Тебе нужны новые и новые девицы, новые и новые победы, а я должна это молча проглатывать и вечно оправдывать тебя в своих глазах: мол, такая уж ты, и надо принимать тебя такой, какова ты есть, а любви без боли не бывает. Знаешь, что? У всего есть свой край. И этот край настал. Я устала тебя прощать, закрывать на всё глаза и оправдывать тебя перед собою же за все твои «шалости»… Всё, Цветик, давай спать. – Дарёна отвернулась было, но вдруг встрепенулась: – А где, кстати, твоё ожерелье?»
«Устала тебя прощать», – эти слова отозвались в душе Цветанки холодным эхом разрушительного конца… Однако внезапная перемена предмета разговора заставила смолкнуть эту страшную струнку. Без сомнения, Дарёна не поверила бы в историю о том, что Цветанка просто потеряла свой оберег, с которым не расставалась ни на день и который берегла пуще глаза; пришлось сознаться, что ожерелье было подарено Серебрице. Но вышло только хуже. Глаза Дарёны наполнились слезами, она круто повернулась к Цветанке спиной и, сколько та ни тормошила её, не желала отвечать на вопросы.
«Дарёночек, да что же это?! – не выдержала Цветанка, садясь. – Когда я тебе вру – ты обижаешься. Сейчас я сказала правду – ты опять недовольна! Что ж мне делать-то?»
Дарёна шмыгала носом. Тесно придвинувшись к подруге и обняв её, Цветанка ласково зашептала ей на ухо:
«Я отдала его, потому что у неё это… как его? Припадки. А ожерелье помогает их снимать. Вот я и подарила ей его. Дело благое – почему бы нет?»
На сей раз Дарёна не оттолкнула Цветанку и не попыталась вырваться из её объятий. Утерев покрасневший от слёз носик пальцем, она проговорила:
«Это ожерелье было очень дорого тебе… Когда отрывают от сердца что-нибудь сокровенное, это значит, что и человек, которому дарят, дорог… Что, сильно она тебе полюбилась?»
Цветанка задумалась, осторожно подбирая слова так, чтобы подруга не расплакалась ещё пуще.
«Ну… как тебе сказать. Она необычная… Не такая, как все остальные мои девицы. Я не знаю, как это описать. Не будем о ней, а то тебя хлебом не корми – дай себя понакручивать… Не думай про неё больше, она осталась в Марушиной Косе, куда мы уже не вернёмся. Ну его, этот городишко, в баню… Ты права, там в самом деле промозгло и уныло. Море неласковое и холодное… И рыбой воняет».
Впрочем, и большой стольный город Зимград не радовал приветливостью. Дарёну волновала близость родного дома, но в Звениярское она не решалась наведаться. В прошлый раз, когда они пытались выяснить судьбу матери и братишек Дарёны, она чуть не попалась в лапы к княжеским слугам, а запрета на возвращение под страхом смертной казни воронецкий владыка не отменял. Небо было сейчас везде одинаковое – осеннее, затянутое непроглядными серыми тучами, холодное и глухое к мольбам об улыбке солнца и о свежем глотке удачи. И оно равнодушно смотрело сверху, как по мосту через речку Грязицу шли навстречу подругам изрядно подгулявшие мужики.
«О, красавицы! А пойдёмте с нами, мы вас медком угостим – хмельным, сладким!»
«Ребята, вы нас не за тех принимаете, – отрезала Цветанка. – Идите своей дорогой, а мы пойдём своей».
Этот ответ любителям уличных приставаний не понравился. От слов они перешли к делу, но не на тех напали: в драке Цветанка не давала спуску никому. Точно рассчитанным ударом двух пальцев она выбила одному из мужиков глаз и чуть напружинила ноги, подбирая край подола. Она готовилась метать свой верный нож-засапожник, целясь противнику не в туловище, а в бедро или плечо: смертоубийством марать рук больше не хотелось. Ох, как пригодилась бы сейчас ей помощь чудесного ожерелья! Можно было бы избежать боя вообще, сделав наглецам отвод глаз и смывшись у них прямо из-под носа. Увы, источник янтарного тепла остался далеко на севере, в Марушиной Косе, у Серебрицы… Удар в затылок прервал мысль, и Цветанку накрыло колпаком холодной угольно-чёрной тьмы.
Это было куда как потяжелее удара сковородкой от Серебрицы. Цветанку долго дёргало и крутило в радужной дурноте, мучительно выворачивало наизнанку, звон бубенцов и колоколов хохотал с издёвкой, а может, это бездна, в которую Цветанку засасывало, потешалась над ней. Воровка проваливалась в гогочущее, гудящее бездонное нутро огромного чудовища… Чудовища по имени Смерть.
Но то ли Цветанка пришлась Смерти не по нутру, то ли чудовище просто пресытилось – так или иначе, оно срыгнуло воровку непереваренной и выплюнуло на каменный пол какой-то пещеры. Впрочем, Цветанка даже не сразу поняла, что это пещера: слишком тепло было вокруг, как в хорошо протопленном доме. На сосулькообразных каменных выростах, свисавших с потолка, плясал рыжий отблеск костра, в котелке булькало какое-то варево… Пахло несъедобно.
«Это готовится отвар мыльнянки, – услышала Цветанка знакомый голос. – У тебя рана на голове, надо обработать… Кость вроде цела, а крови было порядочно. Под волосами сосудов много».
Цветанка рванулась на голос… Резкая головная боль, точно по черепу рубанули мечом, принудила её упасть назад – на лежанку из сухих листьев и хвороста. На белом полотенце, расстеленном на большом камне, поблёскивала брадобрейная снасть… Где-то Цветанка это уже видела. И полотенце, и передник с неотстирываемыми пятнами от крови, и пепельного цвета косу толщиной в руку. И глаза лесной чуди, зелёные, как сполохи в северном небе.
«Серебрица…»
«Тихо, – сказала девушка, помогая Цветанке сесть. – Сядь-ка на пол, прислонись спиной к лежанке. Держишься?»
В сидячем положении накатила жужжащая пелена слабости, но воровка всё же удержалась. Юбки больше не было, Цветанка осталась в портках и недавно купленных в Зимграде новых сапогах. Размыкать пересохшие губы даже не понадобилось: Серебрица прочитала вопрос в её глазах.
«На повязки ушла твоя юбочка. Кровищу ведь как-то надо было унять… – И, с усмешкой окинув воровку взглядом, девушка-оборотень добавила: – Ежели честно сказать, то так тебе лучше, в портках-то. Не идут тебе ни платья, ни девичья коса. Юбки у тебя больше нет, с волосами сейчас тоже разберёмся».
Принимая отблески огня, её глаза стали бесовски-шальными, золотого мерцания в них прибавилось, а зелени уменьшилось. У Цветанки, только что выплюнутой из бесконечного колодца смерти, не укладывалось в голове, как Серебрица тут оказалась. Где Марушина Коса, а где Зимград… Путь неблизкий.
«Я, Цветик, за тобой отправилась, – снова угадав невысказанный вопрос, объяснила Серебрица. – После припадка-то у меня память на время отшибло, а когда я вспомнила всё, вы с Дарёной уже десять дней как уехали из Марушиной Косы. Вот и побежала я по вашему следу…»
Она сняла котелок с варевом с огня, взболтала ложкой, сняла пену и собрала её в чашку. После этого, взяв ножницы и гребешок, она принялась расправлять распущенные по плечам волосы Цветанки и немного смачивать пряди.
«Гналась я за вами днём и ночью, не смыкая глаз, – продолжала она. – Уехали вы с торговым обозом, вот по его следу и бежала. Предупредить тебя хотела насчёт царапины той, да только опоздала – всё уж случилось».
Щёлк! Щёлк! Цветанка в немом оцепенении смотрела, как падали светлые пряди волос, и ей представлялся огромный волк с жёлтыми глазами, бегущий по дороге. А снасть, одежда? На мыслекартине добавился вещевой мешок в зубах у зверя. А может, Серебрица бежала в человечьем облике? Оборотни быстры, намного быстрее и выносливее коней… Щёлк-щёлк. Прядь упала, зацепившись за нос Цветанки. Воровка равнодушно смахнула её, а лезвия ножниц продолжали с хрустом и клацаньем резать ей волосы. Местоположение раны угадывалось по осторожности, с которой Серебрица начала стричь. Падали обрезки, слипшиеся от бурой засохшей крови, а боль вгрызалась в череп где-то за ухом, почти на затылке.
«Я прижгла тут малость, – сообщила Серебрица. – Иначе кровь не останавливалась… Рана длиною с палец, а глубокая такая, что ежели раздвинуть края, то кость увидеть можно. Ушить надобно, иначе рубец грубый останется. Эх, Зайчик-Цветик, зря ты со мною связалась… Царапинка от моего когтя всё и сделала. С одной стороны, коли б не она, не выжить бы тебе, а с другой… С другой – даже говорить не хочется об этом».
Царапина. Сквозь вязкое, как овсяный кисель, марево слабости и дурноты, наплывами норовившее смыть сознание, Цветанка всё же вспомнила. И тут же плечо отозвалось тоскливым биением, хотя сама царапина уже зажила. А Серебрица, оставив сверху шапочку довольно длинных прядей, виски и затылок стригла под гребёнку. Подцепив волосы у самых корней зубьями гребешка, она срезала всё, что выступало над ними.
«Оборотнем человек становится от увечья, нанесённого Марушиным псом, – струился над ухом голос Серебрицы, жаля душу Цветанки, как острые языки пламени. – А коли тебя оборотень лишь оцарапал, придётся всю жизнь беречься, потому что человеком ты останешься только до первой раны. Припадок этот окаянный, чтоб ему!.. Из-за него я не успела тебя предупредить, что эта царапинка с тобой может сделать, ежели ты поранишься. Хоть она тебе жизнь и спасла, впустив в тебя зародыш силы Марушиных псов, но цена у этого спасения высока: рана, которую ты схлопотала, запустила обращение».
Отложив ножницы, Серебрица покрыла коротко остриженные виски и затылок Цветанки пеной с отвара корня мыльнянки, взяла с полотенца бритву с костяной рукояткой. Власть её была велика: одним движением блестящего лезвия она превратила душу Цветанки в глыбу льда, которую не мог растопить даже тревожный костёр, метавшийся и нервно плясавший от каких-то внутренних потоков воздуха в пещере… А по другую сторону, устало опустив лобастую голову на лапы, лежал призрачный волк. В его глазах печально отражалось янтарное ожерелье дней, казавшихся теперь такими счастливыми, а все тогдашние беды и заботы выглядели чепухой перед черной ледяной бездной, разверзшейся во взгляде Серебрицы.
Бритва соскребала короткий ёжик с затылка Цветанки, использованная пена вперемешку со срезанными волосами лепёшечками шлёпалась на каменный пол, а воровка как зачарованная смотрела в глаза призрачному зверю.
Нет, она была волком и смотрела на себя со стороны – как Серебрица подбривала ей виски и затылок, ловко и умело накладывала на рану стежок за стежком. Её поражало собственное безволие и заторможенность, а глаза… Та же самая вереница янтарно-тёплого прошлого, которое Цветанка-человек только что читала в волчьих глазах, отражалась сейчас в глазах Зайца. Теперь, с мужской причёской и в портках, он стал жёстче, ему уже не шло нежное девичье имя «Цветанка»… В подглазьях залегла мертвенная тень, щёки ввалились, черты лица заострились и посуровели. Глупый Заяц не мог понять языка души, на котором говорил он, призрачный волк, и поэтому случилось то, что случилось.
А может быть, если бы волк не приходил, всего этого и не произошло бы?
Охваченное безумием пространство корчилось и шло волнами, поджариваясь на костре; прошлое, настоящее и будущее тремя пышнохвостыми жар-птицами смыкали крылья и сливались в один радужный клубок. Все времена существовали разом, и можно было сделать шаг в любую сторону: нырнуть в прошлое, под волчье одеяло к Дарёнке, подбросить в настоящем пучок хвороста в костёр посреди пещеры или… Или, перемазавшись разбитыми яйцами, упасть к ногам богато одетой и величавой незнакомки с печальными глазами, до дрожи похожими на Дарёнкины. Эта одновременность разрывала остриженную голову Цветанки, уставившейся сухими, горящими бесслёзной солью глазами в пустое место по ту сторону огня, где только что лежал зверь-призрак. Кнут безумия щёлкнул её за ухом, и прорезалась боль – до крупной дрожи по телу.
«Ш-ш, – ласково прошипела Серебрица. И хмыкнула: – Всё, теперь заживёт как на собаке».
Под пальцами шероховато ощущался плотный и тугой, опрятный шов. Серебрица, подбросив хвороста в костёр, взъерошила шапочку волос на макушке Цветанки.
«По-моему, так тебе гораздо лучше».
Бесслёзная соль разъедала Цветанке глаза, от сумасшедшей пляски птиц-времён гудела колоколом голова, а кожу на лице стянуло – то ли от жара костра, то ли от запёкшейся крови. Лишь сердце осталось в своём уме и стонало: «Дарёнка, Дарёнка…» Губы воровки разомкнулись, и с них слетело с сухим шелестом:
«Что с Дарёнкой? Где она?»
«Когда я тебя подобрала, её уже не было поблизости, – ответила пепельноволосая девушка-оборотень. – Может, убежала… Не знаю».
«Надо её найти», – простонала Цветанка, пытаясь подняться… Да где там! Пещера тут же поплыла вокруг неё, в ушах рассыпались бубенцы, а дурнота извивалась в желудке змеёй, толкая его изнутри кольцами своего длинного чешуйчатого тела.
«Да куда ты сейчас пойдёшь? – хмыкнула Серебрица. – Ты и трёх шагов не ступишь, свалишься. Все силы уходят на изменения, которые в тебе сейчас происходят, это время лучше переждать, отлежаться. А как кушать захочешь – всё, можно выходить. Тогда всё само как по маслу пойдёт».
«Я должна… найти её…» – с хрипом выдохнула воровка, всё-таки поднимаясь на ноги.
Одна стена пещеры оказалась горячей, словно бок докрасна натопленной печи. Вот почему здесь так тепло, почти жарко! Обжигая ладони, Цветанка добралась до выхода и втянула в грудь холодный ночной воздух. Лес вздыхал, шептался, многоязыко переговаривался, а между стволами блуждали светящиеся огоньки – такие же, какие воровка видела при встрече с оборотнем Невзорой недалеко от Озёрного капища.
На плечо ей легла удивительно тяжёлая для своего размера рука Серебрицы. С виду – девичья, а воровке показалось, будто на неё опустился вес целого мира или лапа огромного зверя. А может, это ей чудилось просто от слабости. Глаза девушки-оборотня мерцали тёмным лесным колдовством.
«Сиди тут. Я сбегаю, попробую её найти или узнать, что с нею стало. Но найду я её или нет, знай одно: вместе вам уже не быть. Марушин пёс и человек – это никогда не было и не будет возможно. Ты её или убьёшь и сожрёшь, или она от тебя сама убежит… ежели сможет, конечно. Вот так-то, дорогуша».
На глазах у сомлевшей почти до обморока Цветанки она принялась скидывать одежду. Оставшись одетой только в рыжие отблески костра, она закрыла глаза и втянула воздух подвижными, нервными ноздрями. Всё её тело забугрилось мускулами, под кожей выпукло разветвились шнуры жил, спина напряжённо прогнулась, грудь с вызывающе торчащими коричневатыми сосками расширилась от вдоха, а рот острозубо оскалился. Коса сама расплелась, как живая. Перекувырнувшись через голову, девушка огромным серебристым волком выскочила из пещеры в живую и дышащую лесную ночь.