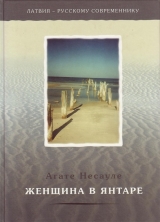
Текст книги "Женщина в янтаре"
Автор книги: Агате Несауле
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 21 страниц)
9. ИЗБАВЛЕНИЕ
Каждую среду и каждое воскресенье мы с мамой и сестрой ходили хоронить людей в общей могиле. Из семисот пациентов Лобеталя четыреста умерли от голода, тифа или дизентерии. Мама обычно говорила, что и нас здесь похоронят, и хотя мне не нравилось, что она так говорит, причин сомневаться в этом не было. Мы находились в глубине занятой русскими территории, чувства наши притупились от пережитого, и мы голодали. Вокруг голодали все. Единственное, что оставалось, это ждать.
Лобеталь находился примерно в пятидесяти милях от Берлина, но с таким же успехом он мог находиться на Луне. Машины и мотоциклы были конфискованы или ржавели, так как не было запасных частей. Бензин было не достать. Лошади были или реквизированы, или пущены на мясо. На дорогах патрули, мосты под охраной. В первые недели оккупации мы преодолевали немалые расстояния в поисках пищи, сейчас на это у нас уже не было сил. Мы ждали.
Закрытым городом Берлин стал не сразу после войны, на секторы его поделили позже. Берлинскую стену еще не построили, и из русского сектора можно было перейти в английский. И все-таки особого резона перебираться в Берлин мы не видели. Говорили, что город в развалинах, что там тысячи голодающих и оставшихся без крова. В Лобетале у нас была хотя бы крыша над головой. По дороге из Леерте в Лобеталь мы ехали через Берлин, и во время воздушной тревоги нас выгнали из убежища на улицу. Мы лежали прямо на земле, прижимаясь к фундаменту, прикрывая голову руками. Так что мы знали, что такое не иметь крыши над головой.
В Берлине недавно побывал Гук, мой четырнадцатилетний двоюродный брат. Он иногда подрабатывал в соседнем поселке у плотника. Каждый, кто умел что-то починить, исправить, был нарасхват, хотя с материалами было трудно. Деньги были не в ходу, и плотник расплачивался с Гуком, усаживая его обедать с ними за стол, иногда давал что-нибудь с собой. Плотник доставал и менял материалы, ремонтировал разрушенные и разграбленные дома.
В октябре, через полгода после прихода русских, плотник прослышал, что в Берлине можно достать гвозди. Договорился со знакомым владельцем гаража, у которого грузовик был более или менее на ходу, захватил из своих запасов сигареты и ценные вещи, чтобы давать взятки и расплачиваться, взял с собой Гука, чтобы тот помог грузить, если удастся чем-нибудь разжиться, и отправился в Берлин.
В Берлине плотник отпустил Гука погулять – до темноты. Сам он собирался провести день с женщиной, бывшей писательницей. Русские солдаты держали эту женщину и двух ее дочерей в подвале, не один раз изнасиловали. Плотник сказал, что спесь из нее всю вышибли и теперь, лишь бы не трезветь, она на все готова. Для женщины у него была припасена бутылка водки и мясные консервы.
Гук провел день, болтаясь по городу, осматривая развалины, прячась от солдат. Усталый, он устроился на скамейке в каком-то парке и заснул. Проснулся от женских голосов, говорили по-латышски. Голоса показались очень знакомыми, вначале он даже подумал, не мама ли это с сестрой, потому что говорили они, как говорят в Алуксне, где когда-то жила их семья.
Рядом на скамейке сидели две молодые женщины, ослепительные создания, нарядно одетые, сытые. Лица ярко накрашены, веселые. Обе прыскали от смеха и говорили по-латышски не понижая голоса, словно не боялись, что их могут отправить в Латвию.
Гук, вероятно, не вмешался бы в разговор, если бы женщины не повели себя так, как обычно ведут себя латыши. Поскольку в мире латышей так мало, мы считаем, что никто не поймет, о чем мы говорим. И сестры принялись вслух обсуждать его. Подумай, такой милый мальчик и так ужасно одет. Не отвести ли его к нам и не одеть ли как следует? Как думаешь, он не будет возражать, если мы посадим его в ванну и намылим, вымоем ему лицо, шею, уши? А если и грудь? А если и остальное?
– Буду, – произнес Гук. Ему девушки понравились, но он не хотел, чтобы девушки ушли, думая, что он не понял их.
– Ах, какой ужас! – вскочили и заохали девушки, хотя на самом деле были рады. Сестры давно не видели ни одного латыша.
Они отвели Гука к себе домой, где посуды из тонкого фарфора, красивой одежды и еды было больше, чем на всем белом свете. Так во всяком случае показалось Гуку. Сестры его накормили и уговорили надеть новую рубашку, взять галстук из шкафа, где было полным-полно мужской одежды. Они подразнили его ванной, но тут же успокоили, сказав, что на сей раз мыть не собираются, уже темнеет, скоро придут клиенты, так что и ему пора собираться. Зато в следующий раз они его отмоют до блеска, и уже никогда больше он не будет таким, как раньше. Гук краснел и смеялся, и чувствовал себя польщенным.
Они кое-что рассказали ему о себе и расспросили про его семью. Гук верно предположил, что сестры из Алуксне, до самого конца войны они работали там на фабрике. Потом рассудив, что солдаты их наверняка изнасилуют, они предпочли, говоря их же словами, охрану из офицеров. И теперь у них таких охранников выше крыши; лучше уж так, чем если тебя изнасилует целый полк солдат, и живут они теперь пороскошнее, чем кое-кто в Берлине.
Когда Гук назвал свою фамилию, они от восторга завизжали. Они знали тетю Гермину, маму Гука; когда-то она жила по соседству с их матерью. Но перестали видеться, когда та вышла замуж за этого пуританина, лютеранского пастора. Сами бы они от скуки умерли, если б с таким пришлось жить. Ну, Гермина и сама была верующая, тихая, она предпочитала ходить в церковь и слушать проповеди, а не веселиться. Однажды они видели отца Гука на церковной кафедре, такой серьезный, такой серьезный, это были похороны, может быть поэтому. А вообще-то они в церковь не часто ходят. Так что получается, что они старые друзья. И они бросились целовать Гука, ерошить его волосы.
Сестры были потрясены рассказом Гука о голоде и беспросветной жизни в Лобетале. Это ужасно, вам немедля надо оттуда уехать, наперебой говорили они и гладили его по щекам. Вы должны перебраться в Берлин, здесь будет лучше, настаивали сестры.
И тут Марта, старшая из сестер, вспомнила, что слышала об этом, латыши действительно приезжают в Берлин. Один из офицеров рассказывал ей, что на другом конце города есть лагерь для беженцев и оставшихся без крова. Он сказал, что среди желающих туда попасть слишком много таких, кого принять невозможно, в лагерь не пускают тех, у кого документы не в порядке или не те политические убеждения, а всех проверить не так просто. Но в том лагере уже немало латышей, лагерь дает приют и еду. Марта объяснила Гуку, как туда добираться.
Они вручили ему пакет с мясными консервами и вареньем и проводили – сытого, счастливого, измазанного помадой. Сестры взяли с него обещание, что он придет их навестить, когда устроится в Берлине. Он тогда уже станет старше и они смогут искупать его в ванне, и никто не обвинит их в том, что они развратили ребенка. Видно же, что ему этого хочется.
Возвращение брата было шумным. Были вскрыты консервы, каждый в тот вечер получил по кусочку. И снова взрослые, правда, теперь их было меньше, сидели за столом и шепотом обсуждали, что же предпринять. Попытаться уехать? Что нам может грозить там? Каковы шансы, во-первых, добраться до Берлина, во-вторых, попасть в лагерь? Ровно год назад в Латвии они тоже строили планы, но ничего хорошего из этого не вышло. Гука тогда считали ребенком, он много времени проводил со мной и с сестрой. Мы смотрели на него снизу вверх, потому что он пил сырые яйца и раскачивался в сарае на балке под крышей. Теперь он считался взрослым, и его участие в разработке планов спасения было решающим.
Взрослые шептались. Какой смысл добираться до Берлина? Кого из латышей принимают в лагерь и каковы должны быть их политические убеждения? Может быть, принимают только тех, кто в сороковом году, во время оккупации Латвии, сотрудничал с русскими? Может быть, нас примут, а потом вышлют в Латвию, где расстреляют за то, что мы убежали, или ворота вообще окажутся закрытыми, и нам придется бродить по улицам, потому что в Лобеталь вернуться не сможем. Здесь, по крайней мере, есть пристанище, ведь приближается зима.
Да и как добраться до Берлина? Кто нас туда отвезет и как мы расплатимся с тем, кто возьмет на себя такой риск? Как избежать патрулей на дорогах? Есть ли смысл даже пытаться, если в конце концов кончится тем, что мы просто умрем раньше, чем в Лобетале? Возможно, именно этот, самый последний аргумент заставил их в конце концов решиться. Здесь мы так или иначе голодаем, но с таким же успехом можем попробовать спастись. По крайней мере, быстрее наступит конец. Никто, кроме Гука, не питал никакой надежды.
Вся семья объединила усилия. Когда-то папа и дядя Густав зарыли в Лобетале тяжелые серебряные кресты, которые во время богослужения надевали поверх пасторского облачения. Мама зарыла бабушкины золотые чайные ложки, сохранившиеся еще с первой войны. Если бы на черном рынке можно было купить продукты, все это давно бы уже на что-нибудь обменяли. Теперь кажется, что это был перст судьбы.
Каждая деталь плана таила в себе опасность. Риск был уже в том, что предстояло выбрать подходящий момент, чтобы пойти в лес с лопатой, отыскать то самое место и, если его никто еще не нашел, выкопать кресты и ложки и принести их в дом, да так, чтобы никто ничего не заметил. Потом надо было найти человека, который согласился бы взять все это в качестве оплаты, того, кто никому не проговорился бы о плане, даже если бы сам и не взялся его осуществить.
Необходимо было найти грузовик – чтоб он был на ходу, чтоб на дороге не сломался, шофера, который сумел бы достать бензин и знал бы систему патрулей, знал бы, кому дать взятку. Однако где гарантия, что такой предприимчивый человек, получив свое, не сдаст нас русским солдатам? Но даже если этого не произойдет и нам чудесным образом удастся проскочить мимо охраны, где гарантия, что в лагерь нас примут?
Такие планы осуществить было не просто, даже будь все здоровы и полны сил. Но родители были надломлены, подавлены, измучены. Оба детьми пережили войну, шрамы остались у обоих. Однако они со всем этим успешно справились. Спустя неделю после того, как Гуку были обещаны еще один обед и ванна, мы уже были готовы отправиться в путь.
* * *
Опять надо было готовиться к смерти. Мы попросили друг у друга прощения за прошлые прегрешения, неловко обнялись, так же как перед появлением русских солдат. Потом все вместе молились, склонив головы, все выглядело, будто мы единое целое. Я тоже притворилась, что читаю молитву, а сама ждала, когда закончат остальные. Я уже не просила маму улыбнуться. Но все же знала самое главное – я не должна разговаривать и не должна плакать. А то остальные рассердятся. Главное – слушаться и притворяться, что все в порядке.
После полуночи на цыпочках мы прошли коридором и через черный ход на улицу, чтобы нас никто не заметил. Была ясная, холодная лунная осенняя ночь. Мы поспешили к лесу. Поклажи с собой почти не было, только узелки с одеждой.
Мне еще раз наказали вести себя тихо. Если солдаты остановят нас, говорить будет только мама. А когда поедем в грузовике в Берлин, с охраной будет говорить только шофер. Если кто-то обратится ко мне, особенно если меня отделят от остальных, я должна оставаться спокойной, как бы солдаты меня ни обижали. Каждому охраннику шофер будет рассказывать совсем другую историю, и малейшее противоречие может оказаться роковым.
Мы добрались до леса, нас никто не остановил. Все облегченно вздохнули, когда свернули с залитой лунным светом дороги, где нас было хорошо видно, однако уходить далеко мы не могли, так как шофер поедет мимо условленного перекрестка с выключенными фарами. Мы устроились у самой кромки леса, свесив ноги в канаву. При виде приближающегося человека надо было прятаться в лесу.
Ждали мы довольно долго. И хотя я знала, что нам грозит опасность и тоже волновалась, я сгорала от желания поехать на грузовике и увидеть незнакомые места. Может быть, нам удастся оказаться там, где нет солдат.
Наконец послышался далекий, еле различимый шум, и мы бросились в лес. По песчаной дороге ехал грузовик с выключенными фарами. Приблизившись, он затормозил, остановился, подал назад.
– Это он, – прошептала мама.
Шофер о чем-то вполголоса посовещался с мужчинами, и мы быстро забрались в кузов. Задний борт подняли, брезент опустили, и мы отправились в путь.
Сидя на деревянных скамейках в кузове машины, мы ни на минуту не теряли бдительности. Как только грузовик притормаживал, мы напряженно ждали, что вот-вот поднимется брезент и всех нас стащат вниз. Однажды шофер тихо переговаривался с какими-то людьми, но о чем они говорили, слышно не было. Через минуту мы тронулись.
Потом машина еще раз остановилась. Под чьими-то ногами проскрипел гравий, кто-то шел к заднему борту. Солдат приподнял брезент и осветил лицо каждого карманным фонариком. Что-то сказал по-русски, потом по-немецки. Все мы сидели не шевельнувшись, притворились глухими и немыми. После тихих переговоров и долгого молчания шофер забрался в машину и запустил мотор. «Виллис», в котором сидели двое с винтовками, следовал за нами пару миль, потом повернул обратно.
На рассвете мы добрались до Берлина. Шофер выпустил нас на какой-то пустынной улице, которая, как он считал, находилась недалеко от центра по приему беженцев. Ближе он нас подвозить не стал, так как опасался, что англичане станут его допрашивать, не хотел он и возвращаться за нами, если нас не примут. Что обещал, сделал, а больше рисковать не намерен. Мы остались одни.
Мы сели прямо на тротуар рядом со своими пожитками, а папа отправился искать центр. Вскоре он вернулся и сказал, что добраться до него не составит труда. Пока все шло гладко.
Но когда мы, завернув за угол, вышли наконец на нужную улицу, то увидели длинную очередь, которая тянулась на целый квартал. Закрытые ворота вдруг показались нам в долгих-долгих милях отсюда. Нас опередили сотни беженцев, многие ждали со вчерашнего дня, некоторые – даже с позавчерашнего. Разочарованные, мы направились в конец очереди. А потом еще сотни других встали за нами.
Слухи ходили разные. Принимают только эстонцев и венгров, латыши могут и не становиться. Принимают только тех, кто из своей страны выехал до определенной даты, кто выехал хоть на день позже или раньше, получит отказ. Надежда есть только у тех, кто с оккупированной англичанами территории, у остальных шансов никаких, англичане не собираются злить русских, принимая людей с их территории, то есть по закону – их подданных. Внутрь не впускают никого без паспорта и свидетельства о рождении. Эти слухи похоронили нашу последнюю надежду – все наши документы пропали.
Перед обедом ворота все-таки открылись, но очередь двигалась гораздо медленнее, чем любая, в которой нам, привыкшим к очередям, когда-либо приходилось стоять. Люди вставали на цыпочки, чтобы хоть что-то увидеть, расспрашивали каждого выходившего, чтобы взвесить собственные шансы. На того, кто пытался пройти без очереди, сыпалась брань.
Выжить можно было только оказавшись в лагере.
Весь день мы простояли на улице, на холоде. Очередь еле-еле продвигалась вперед. Иногда с растерянным лицом проходил мимо кто-нибудь из отвергнутых. Мы пытались выяснить, разобраться, чем же этот человек отличается от нас. Ближе к вечеру молодая латышская пара с ребенком решили уйти, ожидание им показалось напрасным. Они стояли в очереди со вчерашнего дня, но у них была назначена встреча в другом конце Берлина, а тот человек не станет ждать ни минуты после пяти. А так у них по крайней мере зимой будет прибежище. Они успокаивали себя, говоря, что у латышей так или иначе надежды попасть в лагерь мало; они слышали, что редко кого принимают.
Поползли новые слухи, мол, англичане с минуты на минуту закроют ворота, вчера закрыли в это же время. Мы продолжали ждать, наблюдали за военными. Они время от времени вставали, потягивались, переговаривались между собой, кто-то из них даже уходил, но работу не прерывали. Они расспрашивали мужчин, записывали адреса, что-то обсуждали, решали. Критерии никому не были известны. Чистосердечные ответы могли обречь нас на бродяжничество, но могли и спасти.
В тот вечер, когда пошел мелкий холодный дождь, мы стали последней семьей, которую приняли в лагерь. Я удивлялась, как это папа и дядя Густав еще в состоянии разговаривать. Мы простояли весь день, не ели, не пили. Мы должны были сказать правду, и нас оценивали по каким-то непонятным таинственным критериям. Эти военные могли решить, что кормить нас не стоит. И если бы нам отказали, идти бы нам было некуда.
Офицер пригласил нас пройти дальше, мимо столов, за которыми расспрашивали других. Когда мы вошли, два солдата встали и закрыли железные ворота, набросив цепь и повернув в замке ключ.
Возгласы сотен стоявших за нами людей напоминали стон. «Пожалуйста, впустите нас». – «Пожалуйста, не закрывайте». – «Когда завтра утром откроется?» – «А завтра откроют?» – «Пожалуйста, впустите и нас». – «Пожалуйста».
Я спиной ощущала злость и отчаяние тех, кому не повезло. Я боялась обернуться и посмотреть на оставшихся. В очереди сразу за нами стоял семилетний эстонский мальчик со своей бабушкой, родителей у него не было. Когда нас пригласили войти, лицо мальчика прояснилось. И сейчас я не хотела их видеть. Казалось, что и все, кто голодает сейчас в Лобетале, стоят в этой очереди за воротами. Я оглушала разочарование сотен людей, оставшихся в кромешной тьме, их шепот преследовал меня, их ярость жгла спину, когда мы шли в столовую лагеря.
А дальше произошло то, о чем я больше всего люблю вспоминать. Нас ввели в столовую, которая когда-то была танцевальным или банкетным залом в частном особняке, напоминавшем замок, который реквизировали англичане. Паркетные полы блестели, хрустальные люстры сверкали. Вдоль противоположной от окна стороны, там, где было теплее, стояли длинные белые столы, которые были накрыты, как их хранит моя память, белыми камчатными скатертями, на самом-то деле столешницы были деревянные, из гладко оструганных досок. Мы постояли еще в одной очереди, но недолго. Наша обтрепанная одежда, наши гнойники и истощенные фигуры – все это не имело значения. Мы были голодны, и они нас накормили.
Нам дали крепкий горячий чай с сахаром и сгущенным молоком, свежий белый хлеб, твердые толстые куски маргарина и большие ложки для малинового варенья. Папа стал молиться. Бабушка ела и вытирала слезы. Мы хвалили все подряд, хотя на самом деле еда имела странный привкус. Чай, который я помнила по Латвии, был горячим и пах или ромашкой, или мятой, хлеб был тяжелым, грубым и черным, масло жирным и мягким. Но так или иначе, я вспоминаю этот ужин как самый прекрасный в своей жизни. Часто во сне я вижу эту комнату, особенно отблески люстры в окнах, которые отделяли нас от холодной, дождливой ночи; все мы сидели за столом в полной безопасности.
Позже я прочитала, что в Великобритании малиновое варенье готовили из сахарина, пищевых красителей и опилок вместо семечек, и я думаю, не его ли в тот вечер мы ели.
Англичане и сами до 1950 года получали продукты по карточкам, однако они поделились с нами теми крохами, которые были у них. Они приняли нас и накормили, предоставили нам кров и готовы были нести за нас ответственность. Их великодушие не было безупречным, как и наша радость, когда мы испытывали чувство вины перед теми, кто остался за воротами. Но оно было человечным, действенным и длительным, и это нас спасло.
ЧАСТЬ III
10. ОЖИДАНИЕ
Жить в лагере означало ждать. Трижды в день мы стояли в очереди за едой, которая была однообразной, но, к счастью, ее хватало. Зеленовато-серый безвкусный гороховый суп, которым нас кормили утром, днем и вечером, мы называли «Зеленый террор». Серый сухой хлеб пекли из зерна под названием corn,которое в Латвии называлось кукурузой,а для англичан, охранявших лагерь, оно означало вообще хлеб. Иногда давали омлет из яичного порошка и молоко из разведенного водой липкого белого порошка, хранившегося в больших синих банках с этикеткой KLIM (английское слово «молоко», написанное наоборот). Каждую неделю детям вручали кусок шоколада – ах, какого сладкого, вкусного, ароматного, – но потом перестали, не объяснив, почему. Ни фруктов, ни сыра, ни овощей, ни мяса и рыбы, ни печенья или конфет не давали. Все с вожделением перечисляли, чего бы они поели, если б могли.
Перед сном мы с сестрой шепотом вспоминали тонкие, жаренные на масле блинчики с мясом и грибами или щедро политые клубничным вареньем и сметаной, которые ели в Латвии. Мы вытянулись, превратились в худых костлявых подростков, ноги и руки у нас были такие тонкие, что мальчишки при нашем появлении кричали: «Спички идут, спички идут». Но нарывы прошли, лица чуть порозовели, волосы, кажется, уже не такие блеклые. Мы снова испытываем чувство голода, значит, жить будем.
За годы, проведенные в лагерях для перемешенных лиц, с моих семи до моих двенадцати, я тысячи часов простояла в очередях, пока чиновники решали, что мне полагается, куда могу ходить, чего достойна. Жаловаться или пытаться что-то изменить – все это было напрасно, только начальство гневить. Постыдно не испытывать чувства благодарности. Наставления, усвоенные еще во время террора русских солдат – нельзя плакать, нельзя разговаривать, только молчать и слушаться, только ждать, ничего не делать, – повторялись снова и снова.
Все мы жили в ожидании. Мы ждали еду, одежду, лекарства. Целыми днями ждали, когда нас выпустят за ворота на несколько часов погулять в близлежащий лес или по пыльной дороге до полупустых немецких поселков. Мы ждали перемен в нашей лагерной жизни, вернемся ли в Латвию или, если представится возможность, эмигрируем в другую страну. Когда же случай представился, мы опять ждали, что решат за нас другие, – заслуживаем ли мы того, чего хотим. Мы все ждали, когда начнем, наконец, жить по-настоящему.
В очередях мы разговаривали. Взрослые с тоской говорили о натуральном кофе, ведь даже водянистый отвар из жареного цикория доставался нам не всегда. Они говорили о сигаретах, которые курили когда-то, о временах, когда сигарет было столько, что их открыто держали в хрустальных сигаретницах на кофейном столике, носили в серебряных портсигарах и предлагали друзьям или знакомым. Они вспоминали французский коньяк, которым когда-то угощали друзей, винные бутылки в погребах на полках. Вспоминали яблоневые сады и созревающую малину, лесную землянику, форель, грибы, все это когда-то было у них дома, в Латвии.
Они говорили о торговле и махинациях. Кое у кого сохранились еще золотые кольца, часы, браслеты, ценные вещи, которые на черном рынке можно было обменять на еду или одежду. Торговля с немцами, жившими поблизости, была противозаконной и опасной, наших часто избивали и грабили, но люди все равно рисковали.
Все обрадовались, когда господин Янсон взялся быть посредником. Первых серьезных успехов он добился в лагере Монтгомери. Он достал дюжину поросят у какого-то немецкого крестьянина и вручил их счастливчикам, которые могли расплатиться за них драгоценностями.
Этот лагерь, в отличие от остальных, где нам доводилось жить, состоял не из бараков, а из сборных домов на фундаменте. В большинстве домов под полом находился погреб, где можно было кое-что хранить. Через люки в полу можно было попасть прямо в эти темные, узкие, словно пещеры, подполья, где и поместили свиней. Кормили их остатками еды, иногда доставали очистки и свекольную ботву, и все это благодаря растущей изворотливости господина Янсона; словом, поросята росли, прибавляли в весе. Мы и так и сяк рассуждали, не поделятся ли владельцы своим сокровищем с другими, но и просто с удовольствием наблюдали, как растут поросята – символ наших надежд.
Но вот однажды утром в лагере появились вооруженные английские солдаты с веревками и палками. Они ходили из дома в дом, всех опрашивали, обыскивали все закутки, в которые вели люки. Пригласили нескольких переводчиков, чтобы можно было разговаривать не меньше чем с дюжиной людей разных национальностей. Среди них была и мама, она переводила на латышский переведенное уже на русский какой-то венгерской актрисой, владевшей английским. Военные утверждали, что свиньи – причина антисанитарных условий в лагере, что от них вонь и грязь и что это может повлечь за собой болезни и даже смерть детей.
Это никого не убедило. Каждая свинья уже имела кличку, привычки ее подробно обсуждались, она считалась членом семьи ее владельца. Поросята были не только будущее жаркое и шкворчащее сало, они были домашними любимцами, к которым все очень привязались.
Солдаты, сопровождаемые женской руганью и насмешками мужчин, стали спускаться в тесные подполья. В темноте они пытались поймать юрких гладких поросят, за которыми многие ухаживали, как за детьми. С усилием сохраняя приветливое выражение лица, отдавая приказы друг другу, солдаты пытались поймать вырывающихся из рук, визжащих хрюшек. В конце концов они выработали единый прием: взмыленный солдат держал поросенка вверх тормашками, а другие пытались связать короткие ноги, которыми тот дрыгал в воздухе. И бросали связанного поросенка в грузовик.
Вначале я боялась военных, которые, казалось, имели полное право действовать по своему усмотрению, но постепенно чувство это слабело и стало нарастать чувство солидарности. Те, кто не был вовлечен в спасение очередного поросенка – такого хорошего, такого чистого, такого спокойного и умного, – стояли тут же, смотрели и зубоскалили.
Молодой, красный от натуги англичанин тащил Снежинку, свинку госпожи Саулите. Она шла следом, корила солдат, мол, на настоящей войне воевать надо, кричала Снежинке, чтоб убегала, солдат с трудом удерживал поросенка в вытянутых руках. Рыжий усатый сержант, потеряв равновесие, так сильно толкнул молодого солдата, что тот выпустил свинку из рук, и она упала на пол, перепугавшись до такой степени, что даже не хрюкнула. И тут же вскочила и бросилась к госпоже Саулите, которая прижала ее к груди. Госпожа Саулите гладила Снежинку по голове, что-то нежно нашептывала ей и держала чрезвычайно крепко.
Началась неравная борьба. Солдаты пытались ухватить Снежинку за гладкий розовый зад – воспитание не позволяло им хватать поросенка за брюшко или за плечи, поскольку свинка прижималась к пышной теплой груди госпожи Саулите. Мы, кто как умел, подбадривали Снежинку и госпожу Саулите и отпускали шуточки в адрес англичан. Когда рыжий сержант дернул Снежинку за хвост, мы заулюлюкали, а Снежинка завизжала. Госпожа Саулите бросила на него взгляд, исполненный презрения, и продолжала гладить Снежинку, успокаивая ее.
Я была просто потрясена! До чего же госпожа Саулите смелая! Как Снежинке повезло, что у нее есть такой защитник! Даже во время нападения Снежинка чувствовала, как ее любят.
Солдаты принялись урезонивать госпожу Саулите.
– Переведите ей, что она заразится от свиньи какой-нибудь болезнью.
– Нет, – отрезала госпожа Саулите, – Снежинка здорова, у нее нет никаких микробов. Я тоже здорова, как сами они убедились. Если хотят, пусть меня обследуют.
Молодые люди из наблюдателей хохотали, свистели, аплодировали и топали ногами, госпожа Саулите осуждающе на них посмотрела.
Потом пригласили капитана Вилциньша, президента административного совета, избираемого в помощь англичанам, папа тоже был членом этого совета. Прибыл господин Вилциньш, на нем было длинное привлекавшее внимание кожаное пальто, которое сохранилось еще с тех времен, когда он одерживал победы на европейских чемпионатах по верховой езде. Капитан Вилциньш пришел прямо с собрания, на котором решали вопросы о распределении помещений, очередности дежурств по кухне, улаживали споры и обсуждали предстоящие общественные мероприятия. Пока господин Вилциньш доказывал госпоже Саулите необходимость подчиниться приказу, за его спиной переминались с ноги на ногу еще два члена совета. Госпожа Саулите упорствовала.
В конце концов пригласили самого коменданта лагеря.
– Скажите этой женщине, что она нарушает общественный порядок. Если она не отпустит свинью, я прикажу ее арестовать и отвезти обратно в Берлин в русский сектор. Если она не подчинится, ее отправят в Латвию, – отчеканил лейтенант Сазерленд.
И госпожа Саулите наконец сдалась. Она поцеловала Снежинку и бережно передала ее в руки рыжеусого сержанта; тот с виноватым видом понес поросенка в машину. Солдаты с облегчением захлопнули дверцы грузовика и джипа. И уехали, подняв за собой облако пыли.
Вскоре после этого разнеслись слухи о том, что какой-то литовке удалось припрятать своего поросенка, одев его в платье и повязав голову платком. Она плакала, что доченька, мол, умирает от непонятной сыпи и лихорадки, солдаты ее не тронули, поверив, что женщина и в самом деле склонилась над больным ребенком, а не над поросенком, которого зажарят ко Дню независимости Литвы. Эти литовцы, говорили латыши, такие смелые, они знают, что делать, хоть большинство и католики. А эстонцы, в свою очередь, утверждали, что латыши, такие хитроумные и хозяйственные, сумели спрятать несколько поросят в лесу, так как администрация лагеря заранее их предупредила. Но как бы там ни было, после этого случая ни одного поросенка – выскобленного щеткой, вымытого, с ленточкой на шее или гуляющего на поводке – в лагере Монтгомери не видели.
Я покинула компанию продолжавших обсуждать, не осталось ли в лагере поросят, и пошла следом за госпожой Саулите в ее комнату, где она жила вместе с двумя семьями. Я боялась приблизиться к ней, чтобы не увидеть на ее лице ту неизбывную печаль, которую привыкла видеть на мамином лице, но все равно мне хотелось идти за ней. Мне хотелось выразить сочувствие госпоже Саулите, потерявшей Снежинку.
Госпожа Саулите шла все медленнее и медленнее, и мне пришлось остановиться, чтобы она меня не заметила. Я услышала тихие звуки, какое-то бормотание, неужто она плачет? Помочь ей я не могла. Нет-нет, это не были всхлипывания. Госпожа Саулите прочистила горло и принялась что-то тихо мурлыкать себе под нос, пела она для своего удовольствия, направляясь в унылый барак. Меня поразила радость в голосе женщины. В маминых песнях о Латвии были только тоска и грусть. Сейчас мама вообще перестала петь. А госпожа Саулите пела, при этом даже слегка пританцовывая.
Я девчонка, словно роза,
Земляничка алая,
Молоко пила и ела,
Молоком лицо умыла.
Она допела и, довольная, погладила себя по бедрам. От удивления я даже дышать перестала. Госпожа Саулите медленно оглянулась, заметила меня, остановилась.








