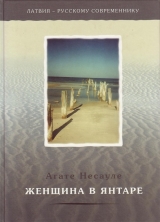
Текст книги "Женщина в янтаре"
Автор книги: Агате Несауле
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 21 страниц)
Я знала Улдиса больше тридцати лет, я видела, как он выпивал и мило улыбался на бесконечных торжествах, однако не знаю, что пережил он во время войны. Не тогда ли начался его путь к самоуничтожению? Но теперь выяснять поздно.
На самом дне ящика старые регистрационные листы для иностранцев. Спустя два года после прибытия в Соединенные Штаты Улдис получил сообщение о призыве в Корею. Родители упрашивали своего единственного сына не идти в армию – они знали, что происходит с сотнями других молодых мужчин. Долго мучили его сомнения, но в конце концов он нехотя согласился с ними и решил отказаться. Поэтому он никогда не смог стать гражданином страны; он навсегда остался иностранцем, каждый год после Рождества вместе со вновь прибывшими он отправлялся на почту подписывать необходимые документы. Не будучи гражданином, он не мог претендовать на большинство мест, куда отправлял запросы.
Другие молодые ребята с Парк-авеню отправились в Корею; двое там и остались. У следующего поколения был Вьетнам; они тоже принесли домой свою боль.
Я закрыла ящик и открыла следующий. Здесь незаконченная диссертация о движении независимости в странах Балтии в девятнадцатом столетии. Ящик заплесневел, сюда же он бросал и случайные наброски, и прекрасные поэтические строки, тысячи карточек классифицированы и расположены в уже никому не понятной последовательности. Улдис все никак не мог закончить работу. Не дожил и до того, чтобы стать свидетелем вновь начавшегося движения за обретение Латвией независимости после почти пятидесяти лет оккупации ее Советским Союзом.
– Бедный Улдис, – говорю я, – какая бессмысленная жизнь.
– Да, бедный Улдис, – соглашается Беата, – ему многое было не под силу.
– Но ведь он такой хороший, правда? Он мог быть таким милым. Но твою жизнь он искалечил.
– Было не так уж страшно.
– Бедный Улдис, – говорю я. Но он уже получил свою долю моей любви и жалости. Теперь мне предстоит помочь сестре спасти то, что еще можно спасти.
Мы с Беатой стоим в полупустой квартире. На улицу мы вынесли кучи мусора, мешки с когда-то тщательно хранимыми, а теперь никому не нужными вещами. Все три контейнера перед домом полны доверху; в ряд аккуратно составлены черные пластиковые мешки. Самые красивые горшки из-под цветов – на крышках контейнеров. Вдруг да кому-нибудь понадобится, но пока что никто не появлялся.
Грузчики приезжали и уже уехали. Чемодан Беаты и несколько небольших ящиков в моей машине. Вещей, которые обычно раздают друзьям или благотворительным организациям после смерти владельца, нет. Карманные часы Улдиса, когда-то принадлежавшие его отцу, а еще раньше – деду, у Беаты в сумочке. Они не серебряные, не золотые, они просто старые, просто из Латвии. Это память Борису об Улдисе. Я несу ящик с отказами, подержу у себя, пока Беата не попросит. Предстоит еще сдать в библиотеку несколько книг по истории Балтии.
– А мне сказал, что отнес, – произносит Беата с тем же разочарованием в голосе, с которым говорит о тысяче других мелочей.
– Он наверняка хотел это сделать, – отвечаю.
Мы еще раз обходим пустую квартиру. Запах тлена еще ощутим, правда, едва заметный, но он не исчез и после того, как три дня мы здесь все мыли и чистили. Нас он больше не пугает. Это часть Улдиса, часть его мук, его слабостей, этот запах, словно дурной хозяин, отвергая все прочее, схватил, присвоил, уничтожил его, причинил боль и страдания и Беате. Я забеспокоилась, что запах будет преследовать нас и за порогом квартиры, впрочем, с этим придется разбираться потом.
Беата закрывает крышкой коробочку из-под маргарина, в которую мы кидали мелочь. Ее совсем немного. Она кладет ее в сумочку.
Единственное, что мы не смогли вынести вниз, – диван, на котором когда-то спала мама. Это портит нам настроение, но ненадолго. Мы обе испытываем чувство удовлетворения от сделанного, как и после похорон.
Только трое из пришедших на похороны латышей были в состоянии нести гроб, поэтому не они опускали его в могилу, как мужчины делали это раньше, когда я была моложе. Тогда могильщики из американцев сидели в своей машине, курили, перешучивались, смотрели, как другие выполняют их работу.
Могила Улдиса находится за мемориальной статуей в той части кладбища, которая отдана «Всем изгнанникам, кто в годы второй мировой войны потерял любимую свободную Латвию».
Мы с Беатой держимся за руки, пока гроб опускают вниз. Песчаную латвийскую землю, которую привез Джим из Риги, мы высыпаем на гроб.
«Земля из дома, тебе, умершему на чужой земле».
Подходили люди, бросали горсть земли и цветок вслед ушедшему.
Задом подъехал грузовик и засыпал гроб щебенкой. Бывший партнер Беаты по кружку народных танцев выровнял землю и черенком лопаты прочертил крест над лицом и грудью Улдиса. Могилу украсили цветами, дорогими букетами из красных и белых цветов, символизирующих флаг Латвии.
Эти небольшие усилия неожиданно подбодрили провожавших. Вдруг все захотели есть. Мы остановились у могил мамы и бабушки.
– Теперь и Улдис вместе с ними, – сказала Беата.
– Жалко, что папа так рано уезжает. А то мог бы с тобой остаться, тебе было бы легче.
– Ничего. Я справлюсь. Он сказал, что «женушка» ждет его дома. Сердилась на него, что он поехал на похороны. Рождество скоро, а ее дети накупили столько подарков. Хорошо, что он вообще приехал.
– Все же мне бы хотелось, чтобы тебе кто-нибудь помог.
– Ничего. Пойдем выпьем, пусть Улдису земля будет пухом, – сказала Беата, напоминая о старинной традиции желать умершему спокойного отдыха под землей. – Бедный, бедный Улдис.
– Хорошо. Поспешим. Идем, идем, сестренка, «я женушка твоя, я дома жду тебя», – поддразнила я. Мы обе смеялись до слез, потом снова сделались серьезными.
– Ты и вправду героическая девочка, – сказала я, беря сестру за руку.
* * *
– Ты, знаешь, не нравится мне, что мы диван так оставили. Папа мне его отдал, когда женился второй раз. Его новой жене цвет не понравился. Найти бы кого-нибудь, кто смог бы им пользоваться. Мне не хочется, чтобы его просто выбросили.
– Может быть, управляющему удастся найти кого-нибудь, – говорю я, – но нам придется его передвинуть. А вдруг под ним деньги?
Денег не было. Нашлись лишь две пустые бутылки из-под водки «Dark Eye»и аккуратно сложенный пустой мешочек из магазина напитков, без чека. Диван отодвинули от стены, там что-то белело. Беата бросилась на колени и достала одну из маминых чашек, с цветками яблони по краю. Я помню, как мама каждый месяц покупала красивую чашку; эта почему-то мне особенно запомнилась. Изнутри чашка была темная от чая. Вероятно, Улдис пил из нее во время болезни, она и завалилась, а он о ней забыл.
Мы ставим чашку в раковину. Внизу порошки, мы их составили сюда в надежде, что они пригодятся будущим жильцам. Насыпаем в чашку порошка, трем, но это не помогает.
«Придется налить отбеливателя, – думаю я, – даже если пятна не исчезнут, хотя бы посветлеют». Наливаем, оставляем на минутку, потом выливаем. Приятный, чистый запах.
Я тру чашку, а перед глазами встают картины прошлого. Русские солдаты открывают бутылки, чтобы опустошить их. Пьяные, они еле переставляют ноги, топчут подснежники, грозят нам. Ходят по клумбам, где растут нарциссы, лилии, папоротники. Поворачиваются к двум голодным девочкам и мочатся.
На соседний дом упала бомба. Один угол все еще дымится, сильный огонь сбило прошедшим ночью дождем. Мы с сестрой карабкаемся на развалины, роемся, ищем что-нибудь уцелевшее. Вокруг одни обломки, кажется, разрушено все, но мы не прекращаем своих занятий. «Смотри», – зову я. Я нашла хрупкую фарфоровую чашку, чудным образом спасшуюся. Единственная краска в этом сером однообразии – фиолетовые цветочки вдоль золотого края. Но когда я взяла ее в руки, оказалось, что это только половинка. Пользоваться ею нельзя. «Ничего, – говорит Беата, – мы все равно найдем что-нибудь, давай копать дальше».
Солдаты хватают маму и, толкая прикладами, выводят на улицу. «Все будет хорошо, – говорит Беата и сжимает мою руку. – Я о тебе позабочусь. Ведь ты младшая». Она кутает меня в старое тяжелое пальто. И на секунду в этом теплом гнездышке я чувствую себя в безопасности.
Казалось, мы обе знали, что найдем там чашку. Как и многое вокруг, находка нас не удивляет. Мы привыкли спасать то, что осталось.
– А теперь, – говорю я, – идем в гостиницу. Примем душ, мыться будем долго, с удовольствием. Потом я отвезу тебя поужинать, закажем чего-нибудь горячего, сытного, может быть, суп из бычьих хвостов и курицу-гриль, и жареный картофель, и вино, а потом кофе и много, много сливок.
– Послушать, так просто замечательно.
– Разнообразия ради поговорим о тебе. Расскажешь, как твои дела. Ты пережила очередное бедствие, это как еще одна война, теперь тебе одной надо возвращаться в Луизиану, в чужие места, все равно, что уехать за границу.
– Все в порядке, сестричка, правда. Ты мне так помогла. Я справлюсь.
– Конечно, тебе было бы легче, если бы ты работала не так далеко от всех.
– Я справлюсь. Не так все плохо. Я только хочу как можно больше сделать для Улдиса.
– Ты и так много сделала. Ты его любила и поддерживала в нем жизнь гораздо дольше, чем он мог бы сделать это сам.
– Но он все равно умер.
– Улдису пришлось пройти через очень много испытаний – изгнание, война, безработица, унижения. Разве ты могла это изменить? Нет, как бы ни старалась.
– Неужели ты думаешь, что во всем виновата война? – задает вопрос Беата. За эту неделю, что мы провели вместе, – а это самый длительный срок нашего общения с тех пор, как обе мы вышли замуж, – мы много об этом говорили.
– Я верю, что для Улдиса это частично так. Ты думаешь, что пьяные солдаты для нас прошли бесследно? Мы со многим мирились в годы своего замужества, словно не верили, что достойны чего-то лучшего.
– Мама всегда о тебе это говорила, Агаточка. Она говорила, что ты слишком долго терпишь. Все время ждала, когда ты расстанешься с Джо.
От удивления я не могу сказать ни слова.
– Как только ты защитила докторскую, – продолжала Беата, – мама стала говорить о том, что ты должна взять сына и уйти. Она хотела, чтобы ты перебралась в Индиану, к ней поближе.
– К ней поближе? Если б я знала! Все могло сложиться иначе! Почему ты мне не сказала?
И хотя со смерти мамы прошло семь лет, я по-прежнему скорблю по ее смерти, и о нашем несостоявшемся примирении.
– Она запретила. В конце концов ведь ты была замужем за Джо, какое мы имели право вмешиваться?
– Ничего себе институт брака, – бросила я. – Бейся, как знаешь, никто ни полсловечка не скажет. А когда измученная до смерти ты разводишься, начинаешь строить новую жизнь, к тебе приходят и говорят: «Вот и хорошо, мы надеялись, что именно так ты поступишь».
– Это что, из курса по феминизму? – смеется Беата. – У мамы гордости было хоть отбавляй, как и у тебя…
– А ты? – говорю. И меняю тему разговора: – Ты должна позвонить матери Улдиса?
– Завтра позвоню. И папе тоже.
– Ясно, что тебя ждет. Они оба считают, что ты должна их утешать, а не наоборот.
– Обойдется, – говорит Беата. – Я к ним привыкла. Ничего страшного. Другим приходилось еще хуже.
Если бы мне было отпущено одно-единственное желание, что бы я пожелала сестре? Пусть она будет так же счастлива, как я. Но, судя по всему, для Беаты все это пока в далеком будущем.
Даже при поддержке Ингеборг, после развода с Джо должно было пройти немало времени, прежде чем я произнесла: «Все не так уж плохо», прежде чем я попыталась что-то в своей жизни изменить, если было возможно, действовать, а не ждать. Лишь спустя много дней после знакомства с Джоном я позвонила ему.
– Вряд ли вы меня помните, но мы беседовали о… – начала я.
– Конечно, помню. О том, какую роль играют сны… о разных сортах лилий… «Черный дракон» и «Зеленые чары», не так ли?
– Да, у вас великолепная память. Я даже рада, что позвонила.
Джон засмеялся:
– Вообще-то я собирался сам вам звонить. И телефон ваш передо мной.
– Неужели? – я не поверила.
– Серьезно. Вот он, у меня, на столе, – и он назвал номер. Неплохое начало.
Потом уже, когда мы возвратились после долгой прогулки по осенним висконсинским лесам, Джон легко коснулся моей руки:
– Тебе наверняка трудно все время быть американкой. Латышское ведь для тебя много значит? Мне хотелось бы быть рядом, когда ты будешь готова об этом говорить.
Он был со мной, когда мы совершали сотни мелких, но героических шагов, необходимых для того, чтобы между двумя людьми со сложной судьбой сформировались отношения. Мы снова гуляли по осеннему лесу, когда Джон подарил мне кусок янтаря в золотой оправе, подтвердив таким образом наши чувства друг к другу. Овальный янтарь кажется живым, он согревает мою руку. Он гладкий, как камень, и все-таки намного легче. Янтарь – это смола древних сосен, затвердевшая и отполированная морскими ветрами и песком, он как слеза, превратившаяся в кристалл. По счастливой случайности, подаренный Джоном камень очень похож на камень в маминой брошке. После ее похорон брошь передал мне отец. Мои родители свой янтарь нашли на побережье Балтийского моря, в первый год супружества, когда оба они были счастливы, когда думали, что впереди спокойная жизнь. Камни темного, сочного медового цвета, у обоих в основании более темное вкрапление. Раньше я не замечала, до чего эти вкрапления по цвету и форме схожи. Когда я касаюсь янтарного камня, подаренного Джоном, я ощущаю, как в меня вливается энергия.
Древние латыши верили, что янтарь обладает сверхъестественной силой. Он оберегает от болезней, заживляет раны, он уводит после смерти в иной мир. В нем отражаются сегодняшнее солнце и любовь, и жизнь, но он хранит и минувшее – стебельки трав, насекомых, семена, хвою давно исчезнувших деревьев. Он не тонет в соленой воде, так может быть, он способен разгонять грусть и осушать слезы. Я хотела бы, чтобы и у моей сестры был такой камень.
Спустившись с лестницы, Беата останавливается.
– Я так устала, – произносит она, – иногда мне кажется, что силы мои иссякли.
И начинает тихо плакать.
Что-то в жесте Беаты кажется удивительно знакомым. Внезапно мне снова шесть лет, мы с мамой на железнодорожном вокзале. Я стою на перроне, мама ставит тяжелый чемодан на землю и произносит: «Я больше не могу».
Мама раскраснелась от усилий – она несла огромную сумку да еще держала меня за руку, чтобы меня не затоптала толпа и я бы не потерялась. Вдруг она начинает плакать. «Я больше не могу, – повторяет она, – я не могу». Вокруг нас сотни людей, они протискиваются в поезд, сердятся, что мы стоим у них на пути. Мамины слезы капают мне за воротник, я слишком испугана, чтобы ее утешать, я молча стою возле нее. Наконец она вытирает слезы, берет меня за руку, поднимает тяжелую сумку и идет дальше, шаг за шагом продвигаясь вперед.
Когда я возвращаюсь к действительности, Беата уже вытерла слезы. Она поднимает со ступенек чемодан, выпрямляется. Она устала, но делает то, что положено делать. Идет, шаг за шагом продвигаясь вперед. Идет дальше.
21. ПОЕЗДА
Я часто вижу во сне поезда. Чуть не каждую ночь я еду сквозь мрачную местность, вдали слышны выстрелы, я прячусь от солдат. Я должна успеть на какой-то поезд, и тогда я буду в безопасности. Постепенно в мои сны входит Джон. Иногда он помогает мне донести узел с теплой зимней одеждой, иногда ведет за руку голодного мальчика. Но в большинстве снов он просто рядом со мной, идет по песчаной тропке, у нас за спиной остается старый дуб и сиротский приют, он показывает, как перебраться через колючую проволоку на поезд, который отвезет нас в надежное место.
В следующий раз я вместе с мамой и сестрой, и тогда попасть на поезд гораздо труднее. Я вижу во сне, как укладываю в огромную плетеную корзину зимнюю одежду, продукты и кухонную утварь. Если я что-нибудь забуду, моей семье придется мерзнуть или голодать. Я в отчаянии ищу спички или книжку сказок, или флейту для Бориса, он маленький, и нужно взять что-то, чем в лагере его можно будет занять. Я слышу, как во дворе по камням грохочут черные солдатские сапоги, вижу, как танки давят лилии и папоротник. С тяжелой корзиной, задыхаясь, несусь я на железнодорожный вокзал. Толпа толкает, давит меня. Я должна добраться до своих, все мы должны успеть на поезд.
Это тот же вокзал, где плакала мама, та же толпа, та же спешка и тот же страх потерять друг друга. Я вижу, как мама настойчиво идет вперед. И бабушка там, Беата поддерживает ее и держит за руку Бориса. Папа чуть впереди, в толпе. Во мне просыпается надежда, в огромные окна над головами льется едва заметный свет, мы все спасемся. Прямо передо мной раскрываются двери поезда, я вскакиваю на верхнюю ступеньку и стараюсь помочь маме.
Но в то же мгновение поезд трогается, руки наши размыкаются, двери плотно закрываются. Я пытаюсь их открыть, колочу, давлю на них, пока не разбиваю пальцы в кровь, но двери не поддаются. Сквозь толстое стекло я вижу на сером перроне маму и сына, и сестру, и бабушку, папа еще дальше в толпе. Мама приникает к стеклу, пытается что-то сказать, но я ее не слышу. Я пытаюсь открыть окно, чтобы передать ей свои ключи, деньги, часы и кредитки, но и окно не поддается. Поезд мчится, я знаю, что мама меня не может услышать. На улице перед вокзалом стоят танки, они вот-вот двинутся на тех, кто остался. Терзаемую чувством вины, поезд одну меня увозит в безопасное место.
Иногда во сне железнодорожный вокзал выглядит больше, чем автовокзал «Greyhound» в Чикаго, где десять лет назад я ждала автобуса и очень торопилась. Я ехала к маме, которая была почти при смерти, она лежала в больнице, далеко от России и от Латвии, и от Германии, их она воспринимала более реально, чем Америку. В тот вечер я опоздала на последний самолет и поэтому, чтобы до нее добраться, вынуждена была воспользоваться этим черепашьим видом транспорта.
Серый, облачный день, на полу первого этажа соломинки и пустые стаканчики, растоптанные сотнями ног. Стены грязно-желтые, изрезанные сиденья обтянутых потертым дерматином кресел неумело стянуты скотчем, кондиционер не работает. Пластмасса липнет к мокрой, грязной одежде, и сама я вся в грязи. Автобус задерживается, и я знаю, что он будет медленно-медленно тащиться по полям Индианы.
Мы с матерью были так далеки друг от друга все двадцать два года, что я была замужем. Теперь я думаю о Джо точно так же, как мама, но это ничуть нас не сблизило. И хотя я часто желаю обратного, я все еще по-прежнему его жена. Но я знаю, что трещина в наших с мамой отношениях гораздо глубже; она берет начало в прошлом, на той песчаной тропинке, где я ее ослушалась; в тех временах, когда мамин взгляд так долго задерживался на цветущих яблонях вдали. Она из тех времен, когда во двор на всем скаку влетел Жанис, осадил коня так стремительно, что тот встал на дыбы, подняв облако пыли, нарушив полдневный покой, и сообщил о первой из ее многочисленных утрат и предстоящем изгнании.
Я нетерпеливо жду автобуса, потом – тороплю его, чтобы скорее попасть к маме, чтобы она успела мне что-нибудь сказать. Я исступленно мечтаю о перемирии накануне ее смерти, вычитанное из книг позволяет на это надеяться, я боюсь опоздать.
Прохладный белый холл больницы; белесый рассеянный свет, льющийся в окна, как будто что-то обещает. Утро уже началось: по коридорам везут тележки с подносами для еды, впереди меня идет чернокожая женщина, в руках у нее все, что нужно для уборки помещений, она мешает мне идти.
Когда я подхожу к маминой палате, двери приоткрыты, мама лежит спокойно, дышит неглубоко. Кожа у нее желтая и прозрачная, ладони смотрят вверх, руки стали еще тоньше, чем несколько недель назад, когда мы виделись в последний раз. Мама без сознания, уже не говорит, не слышит.
Я была готова к вежливому, осуждающему молчанию или к упрекам за опоздание. Я почему-то решила, что мама возьмет книгу, чтобы читать или сделать вид, что читает, пока я буду ждать, когда она взглянет на меня. Но даже воображая самое худшее, я не была готова к тому, что найду ее без сознания. Ее мужество, ее мудрость, ее слова продолжают жить.
Медсестра просит меня пройти в приемную, чтобы маму можно было вымыть, сменить постельное белье. Она предлагает мне чашку кофе и спешит по коридору к другим пациентам этого отведенного для умирающих крыла. Я споласкиваю лицо и руки, пью удивительно вкусный кофе из бумажного стаканчика и снова сажусь в пластиковое кресло, на сей раз оно прохладное, чистое, покойное. Но я испытываю непреодолимое желание услышать от мамы хоть слово, я жду чего-то необычного, очень важного; оно еще сильнее, чем на автостанции, ощущение крайней необходимости еще острее.
Медсестра предложила мне подождать чуть ли не четверть часа, но я встаю, подхожу к маминой палате и тихо стою возле приоткрытой двери. Возле нее хлопочут две полные пожилые черные женщины, движения их уверенные и спокойные. Одна сидит на постели, мамины плечи у нее на коленях, голова прижата к груди, она почти прильнула к ней щекой. Мягкой белой тканью женщина вытирает мамино лицо.
– Ну что, милая, что, голубушка, – наполовину говорит, наполовину баюкает она. Вторая женщина склонилась над мамиными худыми, белыми ногами, трет их сильными кругообразными движениями.
Женщины не замечают, что за ними кто-то наблюдает, поэтому движения их неспешные и ритмичные и, мне кажется, – очень нежные. Женщина, которая моет мамины ноги, на минуту замирает и рассматривает рану, в которой осталась земля России, потом осторожно моет и ее. На миг во мне вспыхивает гнев. Эта женщина понятия не имеет, кто моя мама, она ничего не знает о ее жизни, какой она была трудной, непростой, не знает, что мама пережила две войны, потеряла и Россию, и Латвию, не знает, сколько она приложила усилий, чтобы получить степень доктора филологии в Америке, как хранила в себе языки и слова, которые с ее смертью обречены на исчезновение. Эти женщины о ней ничего не знают. Никто не знает.
– Ну что, милая, что, голубушка, – причитает женщина, умелыми руками гладя ее стопы и голени. Вторая женщина напевает, то ли повторяет эти же слова, то ли произносит другие, так неясно, что я слышу только монотонный и нежный звук, напоминающий гуденье пчел. Ритмично раскачиваясь вперед и назад, она гладит мамины волосы. Движения их такие любящие, такие нежные, что весь мой гнев улетучивается. Похоже, они знают, что надо делать, знают, что ей надо, знают то, что другие – включая и меня – не смогли бы ей дать. Умывание длилось всего несколько минут, но, кажется, что гораздо дольше, кажется, в нем некий таинственный смысл, который невозможно облечь в слова.
Кто-то трогает меня за локоть, я оборачиваюсь – Беата, она неслышно подошла ко мне. Я сестру не ждала, из Техаса она перебралась обратно в Индиану. Ночи и она, и отец проводили в больнице, и им тоже надо было выспаться. Появление Беаты спугивает женщин, в их движениях сквозит торопливость. Одна быстро встает с кровати, кладет мамину голову на подушку, вторая накрывает ее одеялом. Они вопросительно смотрят на нас, словно бы мы уличили их в чем-то, а не смотрели, пораженные, на не понятый нами до конца ритуал. И вот уже обе они просто усталые, низкооплачиваемые сотрудницы больницы, обеспокоенные тем, не пойдем ли мы жаловаться старшей сестре, что они сидели на постели больного, а не просто пришли, чтобы помочь маме умереть. Они взбили подушки и, опустив глаза, принялись толкать тележку с принадлежностями для умывания к выходу. Я взяла Беату за руку, не зная, как объяснить то, что только что видела или вообразила, что видела.
– Я понимаю, – сказала Беата, прежде чем я успеваю что-то объяснить, – я здесь была. Я тоже видела, что они для нее сделали.
Два следующих дня и две ночи я ждала, что мама заговорит, но этого не случилось. Однажды мне показалось, что она с упреком прошептала: «Ты опоздала», но сейчас я думаю, что мне это только показалось. Мама не могла ни двигаться, ни говорить. Я тогда не знала, что больные и в коме, и даже при смерти, возможно, еще слышат, поэтому не делала попыток с ней заговорить. Но даже если бы мама слышала, я бы не знала, что могу и что должна ей сказать. Я не знаю, что это было.
В то время, когда я часто видела во сне поезда, я рассказывала Джону десятки историй. Вначале казалось, они не имеют никакой взаимосвязи – случайные, ни о чем не говорящие. Но все ближе и ближе подходили они к погребу, к старому дубу, все ближе и ближе к песчаной тропе, где я ослушалась маму и навсегда утратила чувство защищенности и ощущение ценности собственного «я». Он задает мне следующий вопрос, слушает меня, верит мне, принимает все сказанное мной. Когда я плачу, он меня не прерывает, а протягивает носовой платок и берет меня за руку. Он не говорит: «Все было не так страшно».
Джон рассказывает мне свои истории. Некоторые из них тоже о поездах – в Америке, не в Европе. Когда ему исполнилось семь лет, ему пришлось жить вдали от семьи, в чужом городе среди чужих людей всю неделю; поездом он ездил туда и обратно. Однажды он перевел назад стрелки, чтобы опоздать на поезд. Наши истории не соперничают между собой, они не стремятся друг друга затмить. Они образуют узоры вокруг нас, вторгаются в наши сны, нежно привязывают нас друг к другу. Иногда я вижу нас обоих, светловолосых семилетних детишек, которых разделяет широкий луг, они говорят на разных языках, но дружески один другому улыбаются. Иногда во сне мы близнецы из «Двенадцатой ночи», бледные, в темно-зеленых одеждах, мы вновь встречаемся. Мы устояли в бури, мы в безопасности, мы держимся за руки, мы можем рассказывать друг другу свои истории и свои сны.
Молчаливые, гнетущие образы постепенно облекаются в слова. Прошлое обретает смысл и форму, оно уже не властно надо мной, не леденит, не может заставить молчать, устыдить. Меня поражает сходство моей и маминой жизни, мне хочется уберечь ту девочку, какой она была когда-то, я понимаю, почему она не могла дать мне больше, чем дала. Наши отцы не сумели уберечь нас, мы пережили изгнание и войну. Я представила ее двенадцатилетней девочкой, когда она потеряла любимую Россию, ибо и мне было двенадцать, когда я втайне оплакивала свой отъезд из Германии и хрупкую, кажущуюся надежность лагерей. Мы обе были отверженные, обе были изранены. Мы обе свою печаль передали своим детям.
Моя любовь к матери становится спокойнее, потому что я могу рассказать о ней Ингеборг и Джону, медленно растет понимание и прощение. Джон понимает самое главное во мне. Он рассказывает мне разные истории, прежде чем я засну. Он действительно видит меня, когда на меня смотрит. Он улыбается искренне. Он замкнут, самодостаточен, но ради меня может сделать то, чего я так ждала от матери.
И как-то ночью я рассказываю ему о том, как боролась с матерью на песчаной тропинке, о том, как Хайди и ее мать остались чужими даже в смерти. Вот теперь он знает обо мне все. Он знает, что мама хотела, чтобы я умерла, знает, что я всю жизнь прожила в страхе и чувствовала себя никчемной. Он знает позор моего прошлого.
Я жду, что Джон уйдет, но он не уходит. Вместо этого он нежно укрывает нас обоих голубым пуховым одеялом. Засыпая, я ощущаю его тепло, он здесь, пока я сплю, он будет рядом, когда я проснусь. Его присутствие рядом со мной, в постели, наполняет меня безмятежностью.
В ту ночь я вижу еще один сон о поездах.
Я бегу через открытое поле к поезду, который уже начал двигаться. Я вижу дом, двери которого сорваны с петель, я слышу стук черных солдатских сапог по мостовой, но я спасена. Я мчусь во весь опор, хватаюсь за поручни, подтягиваюсь. Я рада, что наконец в поезде, который увезет меня в безопасное место. Я выжила. Я сажусь на блестящее деревянное сиденье и осматриваюсь.
Я еду в красивом старинном вагоне, блестят латунные медные ручки, сверкают оконные стекла, зеркала в роскошных резных рамах, я еду в безопасное место. Я сижу, радуюсь своему спасению. Но что-то меня тревожит, я забыла что-то сделать. Напротив сидит одетая в черное двенадцатилетняя девочка, тоненькая, на вид иностранка, девочка из прошлой жизни. Я смотрю на нее, и во мне что-то резко звенит, я знаю, что надо делать. Я успела на этот поезд, так как мне надо найти мамин труп.
Я перехожу из купе в купе в поисках мамы. Я обязательно должна ее найти, для меня это важно, но я вижу, что все купе настолько малы, что гроб в них не поместится, а багажный вагон далеко. Я иду по вагонам вперед, возвращаюсь обратно. Вхожу в переполненное купе, одно место свободно. Мама не может быть здесь, для гроба все равно мало места.
У окна сидит слепая монашка, лицом к заходящему солнцу. Она в черном, глаза прячутся за черными очками. Лицо спокойно. Потрясенная, я понимаю, что это моя мать. Руки, кожа, волосы, линия шеи – именно такими сохранила их моя память. Только монашеское одеяние и черные очки смутили меня.
Я сажусь с ней рядом и шепчу:
– Это ты?
– Да, – мама обрадовалась мне.
– Но, мамочка, – говорю я, называя ее так, как обращалась к ней только в Латвии, – но, мамочка, я думала, ты умерла.
– Нет, дорогая моя, – отвечает она. – Я не умерла, я только ослепла. Поэтому я всегда смотрела на других, мимо тебя, когда ты так старалась найти другую мать – мадам Саулите, миссис Чигане, других, но все они тебя бросили. И теперь ты это поняла.
Она снимает очки и протягивает их мне.
– Я так долго была слепой. На войне такое случается.
Мама гладит меня по щеке.
– Прости меня, дорогая моя, – говорит она.
– Ты меня прости, мамочка, – говорю я. – Прости, что я помнила только одно – как ты тащила меня на расстрел. Но сколько раз ты меня спасала! Если бы не твое мужество, я бы умерла. Мы бы умерли все.
Слезы катятся из ее темных глаз, которые совсем не похожи на глаза слепой женщины, они темные и блестящие, точно такие, какими смотрела она на меня в детстве. Мы наконец по-настоящему видим друг друга.
Внезапно я ощущаю прилив удивительной любви и нежности, подобным чувствам по отношению к матери я не давала волю годами. Я глажу мамино лицо, волосы, лоб, руки. Наши слезы смешались. Наши взгляды встретились.
– Все хорошо, дорогая моя, – говорю я. – Дорогая моя, все хорошо.
Прилив любви так силен, что я просыпаюсь. Джон уже встал; рядом с кроватью на подносе две чашки ароматного кофе и два апельсина. И письмо от сына, который успешно справляется с жизненными неурядицами. Я чувствую себя великолепно отдохнувшей, гибкой и сильной. Я раздвигаю шторы над полками, где стоят мои любимые книги, комнату заливает свет.
Еще рано, но я вижу, что день будет ясным и солнечным. Под моим окном на фоне белого забора острые коготки небесно-голубого дельфиниума, белые маргаритки и темно-красные сибирские ирисы. В другом конце сада растет одинокая береза. Под нею весной расцветают нарциссы; потом их место займут пунцовые астры и желтые хризантемы, которые так любила моя мама. Ночью расцвел один цветок белой лилии. За ним вот-вот распустятся и другие.








