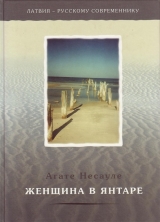
Текст книги "Женщина в янтаре"
Автор книги: Агате Несауле
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 21 страниц)
– Они его расстреляют? – подергала я маму за руку.
– Молчи, – ответила мама. – Сиди тихо, а то они рассердятся. Не думаю, что они кого-нибудь расстреляют. Молчи, – и она закрыла мне рот рукой.
Солдаты обыскали погреб, вытащили на середину узлы, согнали всех мужчин к выходу.
– Услышь, Господи, слова мои… – начал пастор Браун, остальные подхватили. Окрики солдат заставили всех умолкнуть.
Мужчин построили по двое. Дядя Густав и Гук стояли в паре, пастор Браун держал за руку Ганса, одного из пациентов, а папу вытолкали вперед. Последнее, что я видела, – он шел один. Я замерла, всем своим существом я хотела лишь одного – чтобы они не вынудили его плакать.
6. ХИЛЬДА
Хильда, сухощавая, с рыжими волосами, веснушчатая молодая немка, работала в Лобетале секретаршей. Муж ее был на фронте. Хильда всем говорила, что волнуется, так как письма от мужа приходят нерегулярно. О своих страхах и надеждах она откровенно рассказывала любому, кто готов был слушать. Над нею слегка посмеивались – сдержанностью она явно не отличалась. Хильда надеялась забеременеть, когда муж приезжал в трехдневный отпуск, но с такими вещами не угадаешь, сказала она. Она боялась, что муж умрет и после него ничего не останется. К тому времени, как пришли русские, Хильда не видела мужа почти год.
Когда увели мужчин, солдаты вернулись искать драгоценности. Приказали раскрыть чемоданы и все содержимое вывалить на пол. Обыскали одежду женщин, ощупали их. Мама спрятала обручальное кольцо в туфлю, но солдаты будто знали об этом. Они заставили маму и других женщин снять туфли и пальто. Когда Хильда замешкалась, расстегивая пуговицы, они принялись кричать и ударили ее. Потом двое потащили ее за перегородку.
– Нет! – кричала Хильда. Она упала на колени, прямо на грязный пол и протянула к ним руки, словно в молитве. – Нет, нет! – кричала она.
Но солдаты были неумолимы. Они рванули ее, она расцарапала колени о грубый цементный пол. Получившие секундную передышку остальные женщины отвернулись. Если солдаты сейчас возьмут Хильду, их на некоторое время оставят в покое. Если Хильда будет очень уж сопротивляться, они схватят кого-нибудь из них.
Бабушка что-то шепнула Хильде, та кивнула. И вдруг вскочила, задрала юбку и бесстыдно выпятила живот, плоский и гладкий под толстыми серыми хлопчатобумажными штанами. Она попыталась надуть его, погладила его свободной рукой, потом отчаянно принялась водить по нему кругообразными движениями. Солдаты остановились, посовещались. Потом снова потащили Хильду за перегородку.
Но пауза обнадежила других. В этой русской военной части служили солдаты из Монголии. И хотя изнасиловать женщину для мужчин традиционно считалось доказательством мужской силы, казалось, они испытывают неосознанное чувство почитания матери. Хильде не удалось убедить их, что она в положении, но такое же повторилось чуть позже с другой женщиной, с беженкой, которая появилась здесь два дня назад. Эту женщину, которая была на седьмом месяце беременности, не тронули. Когда она подняла юбку и спустила штаны, чтобы показать круглый, изрезанный синими прожилками живот, ее оставили одну посреди комнаты. Так она стояла, красная от стыда, потом возвратилась на свое место.
Не увели за перегородку и ни одну женщину, с которой были дети. Вначале взрослые велели мне держать Астриду за руку и делать вид, что двоюродная сестра – моя мама, но от этого плана пришлось отказаться, потому что я ни за что не хотела отпускать мамину руку. Астрида, в сером головном платке, с вымазанным сажей лицом, держала за руку сестру. Как только солдаты приближались, сердце мое замирало от страха – сейчас они уведут Астриду и виновата в этом буду я.
– Что они делают Хильде? – шепотом спросила я маму.
– Тише! Не говори ни слова. Не плачь! Молчи!
Я слышала стоны Хильды, потом мычанье, смех и издевки солдат. Потом снова мычанье. Осклабившись, солдаты толпились возле перегородки. Хильда пару раз вскрикнула, раздались удары, после чего она только всхлипывала. И вскоре уже не издавала ни звука.
– Она умерла? – снова прошептала я, но мама только закрыла мне рот рукой и помотала головой. Я хотела знать, не убьют ли они ее зонтиком, но спросить не решилась. Накануне вечером я слышала, как беженка, которая была в положении, рассказывала о русских солдатах, которые каким-то образом воткнули в женщину зонтик, потом открыли его и так женщину убили. Я не поняла, как они это сделали – сунули зонтик ей в рот или снизу? Я вздрогнула при одной мысли об этом.
После долгой возни и мычанья солдаты вытолкнули Хильду из-за перегородки. Пальто ее было туго подпоясано; лицо и шея багровые. Толстые коричневые чулки спущены до лодыжек, ноги синие. Вид у нее был виноватый.
Когда Хильда робко вернулась на свое место, женщины сгрудились еще теснее, подальше от нее, и еще крепче обмотали ноги юбками. Хильда сидела, уставившись в пол, словно это она совершила нечто ужасное. Женщины украдкой переглядывались. Кто будет следующей? Никто не произнес ни слова.
И тут Хильда заплакала. Она качалась вперед и назад, в ее всхлипываниях была вся боль мира, она раскачивалась снова и снова, еще и еще, это отчаяние без слов было неизбывным. Женщины окаменели. Солдаты, приставленные нас охранять, словно бы ничего не замечали. Никто ничего не делал. Плач не прекращался. Он не прекратится никогда. Нам придется слушать его вечно.
Неожиданно поднялась бабушка. С вызовом посмотрела в сторону наших тюремщиков-солдат, словно приказав им не становиться на ее пути, по грязному захламленному полу направилась к Хильде. Казалась, она идет неестественно медленно, все смотрели, не схватят ли ее солдаты. Когда она подошла к Хильде, немка отшатнулась.
Бабушка села рядом с Хильдой, взяла руки женщины в свои и принялась их нежно поглаживать, потом помассировала плечи и шею. Когда Хильда, наконец, расслабилась, бабушка обняла ее. Она прижала Хильду к себе, словно та была маленьким ребенком, так же нежно бабушка обращалась со мной и с сестрой. Хильда еще некоторое время всхлипывала, потом постепенно успокоилась. Солдаты у стены наблюдали за нами. Астрида, стоявшая рядом, дрожала, я внимательно следила за каждым движением солдат.
В конце концов всех женщин, у кого не было детей, по очереди затащили за перегородку. Женщины плакали, умоляли, просили, молили Бога. Притворялись, что в положении, что их тошнит, утверждали, что больны, изображали сумасшедших, цеплялись за косяки, бросались на колени, звали своих матерей, снова обращались к Богу. Ничто не помогало. Мычанье, смех, глухие удары, крики боли и снова мычанье не прекращались.
Одну женщину солдаты повалили на пол прямо перед перегородкой и сорвали с нее одежду. Один из них упал на нее, сопел, подвывал. Мама хотела уберечь меня от этой картины, но было уже поздно, я мгновенно все поняла – и мольбу женщин, и мычанье и завыванье солдат, и то, как можно убить женщину зонтиком. Ужас, который охватил всех находившихся здесь женщин и девушек, стал моим.
Солдаты весь день шныряли вокруг, угрожали, ворошили штыками наши вывалянные в грязи пожитки, искали драгоценности, ничего не найдя, срывали зло, распарывая матрасы и стулья. Они толкали каждую и били каждую, кто оказывался у них на пути. Как только появлялись новые солдаты, мы переставали дышать. Изнасилуют ли они девушек? Перейдя все границы, станут насиловать женщин с детьми? Сколько раз изнасилуют одну и ту же женщину? Пока солдаты не трогали старых женщин и девочек, но сколько это будет продолжаться? Они изнасилуют мою маму? Сестру? Меня?
Я старалась сдерживать слезы, сидеть неподвижно, скрыть дрожь, чтобы они меня не заметили.
Воспользовавшись тем, что некоторые солдаты находились за перегородкой, а другие вышли из погреба, тетя Гермина решила, что Астриде грозит опасность и со мной, и с сестрой, как бы мы ни притворялись ее дочками. Я дольше двух секунд высидеть на коленях у Астриды была не в силах, начинала тянуться к матери, а Беата старалась держаться и с Астридой, и с мамой. Будь солдаты повнимательней, они без труда догадались бы, кто на самом деле наша мать.
Тетя Гермина и мама приподняли один из соломенных матрасов, и Астрида легла на цементный пол. Сверху на нее положили матрас, на него подушки и пальто. Мы наполовину сидели, наполовину лежали на матрасе. Мы чувствовали, как Астрида беспомощно ворочается под нами, и чуть не каждую минуту старались сменить позу, чтобы не давить на нее своим весом. Однажды, когда два солдата смотрели прямо на нас, Астрида вдруг сильно зашевелилась. Тетя Гермина и мама, обе одновременно, стали зевать и потягиваться. Солдаты, заподозрив неладное, долго смотрели на нас, а потом вернулись за перегородку, где от боли стонала какая-то женщина.
Все это время Хильда с тупым выражением лица сидела рядом с бабушкой. И тут она заговорила.
– Я покончу с собой, я покончу с собой, – повторяла она одно и то же.
– Тише, милая, тише, – время от времени произносила бабушка, но, казалось, она не верит, что Хильда когда-нибудь замолчит. Она гладила ее руку, а Хильда продолжала свое.
Как только солдаты отворачивались, я дергала маму за юбку.
– Улыбнись, – просила я, – улыбнись, пожалуйста!
Мама заставляла себя улыбнуться.
– Скажи, что все будет в порядке, что солдаты уйдут.
– Все будет в порядке, солдаты уйдут. Но ты должна вести себя тихо-тихо. Не рассерди их, – автоматически шептала мама.
– Улыбнись, пожалуйста!
И снова мама изображала улыбку, похожую на гримасу, и удерживала ее пару секунд. В эти короткие мгновения я чувствовала себя неизмеримо лучше; может быть, в конце концов действительно все обойдется. Но как только мамино лицо омрачалось, меня снова обуревали отчаяние и страх.
В краткие спокойные минуты мама шептала мне и сестре:
– С вами ничего не случится, если вы будете молиться. Начинайте: «Отче наш, сущий на небесах!», молитесь очень тихо, но повторяйте все время. Вас не тронут.
Пока вокруг суетились солдаты, я про себя повторяла молитву, всем сердцем желая, чтобы они нас не тронули, чтобы они ушли наконец. Трудно было сосредоточиться на словах молитвы и одновременно хотеть чего-то другого, я едва-едва справлялась с этим. Я снова и снова повторяла слова молитвы, повторяла словно в беспамятстве, весь этот дождливый день, до поздней ночи.
На рассвете следующего дня женщин и детей вывели во двор. Мы этому обрадовались. Казалось, мы больше не выдержим того, что с нами творилось минувшим днем и ночью. Мы еще не знали, что в погребе нам предстоит пробыть долгие-долгие дни. Те, кто хотел умереть, тоже радовались. Может быть, теперь наконец нас всех расстреляют.
Было все так же холодно, все так же лил дождь. Вдалеке рвались снаряды, над головами пролетел самолет. Раздался взрыв, и снова все стихло. Но русских солдат это не обеспокоило, они чувствовали себя уверенно, захватив эту местность. Озеро было темным, почти черным, земля пропиталась дождем.
Женщин и детей построили полукругом перед старым красивым дубом. Его ветви могли бы укрыть нас от холодного дождя, если бы только нам разрешили под ним спрятаться.
Мы недоумевающе переглядывались. Если они собираются нас расстрелять, почему так поставили? Я знаю, ведь перед расстрелом приказывают самим копать себе могилу. Так поступили с Арием, так же поступали с людьми, которых убивали во время русской оккупации. В Латвии я слышала это от взрослых, сидя с ними до позднего вечера за обеденным столом. Как они собираются нас расстрелять и закопать, построив таким образом? Спросить об этом у мамы я не могла – солдаты смотрели прямо на нас. Если я заговорю, они рассердятся.
Солдаты толпились под дубом, передавая из рук в руки бутылку. Многие обвязали голову и плечи женскими плащами и шарфами, обернули ими бедра, чтобы не промокнуть. Было очень рано, почти невозможно было различить яркие красные и желтые цвета отобранной у женщин одежды, особенно на черном фоне танков. Мы замерзли, дрожали, дождь становился все холоднее, одежда на спине промокла, руки и ноги заледенели. Все молчали.
Внезапно мы услыхали свист – громкий, смелый, мелодичный. Кто-то насвистывал «К тебе, Господи, возношу душу свою». На дорожке, ведущей от главного здания, показался пастор Браун, и это нас приободрило. Он спасет нас от русских солдат, как многих до этого спас от немцев. Он идет, чтобы нас освободить, он прикажет солдатам оставить нас в покое и отведет нас в надежное место.
Но когда пастор Браун подошел к нам, мы увидели, что руки его связаны за спиной и ведут его солдаты с винтовками. А он увидел ожидающих женщин, испуганных детей, одинокий дуб и пьющих водку солдат. Если не еще раньше, то сейчас он отчетливо понял смысл происходящего. Он досвистел мелодию до последней ноты.
Солдаты вели его к дубу. Он решительно двинулся вперед, остановился возле мамы.
– Jubilate, – сказал он ей одной, – ликуйте, настал День вознесения.
– Jubilate, – ответила мама и потянулась рукой в его сторону, но между ними встал солдат. Казалось, пастор Браун понял этот жест.
– Jubilate, – кивнул он.
Я видела, как по маминым щекам, из-под низко, на самый лоб надвинутого платка, делавшего ее старше, текут слезы.
Пастор Браун снова стал насвистывать, все с той же решимостью. Он насвистывал «К тебе, Господи, возношу душу свою», пока солдаты не нашли белый платок и не завязали ему глаза. Он продолжал насвистывать, когда они подтолкнули его к дереву, а сами встали в ряд. Один из солдат накричал на него, вероятно, приказал замолчать, но говорил он по-русски, и, как бы там ни было, пастор Браун с завязанными белым платком глазами не замолчал. Он продолжал насвистывать, когда один из военных, возможно, офицер, погрозил кулаком в нашу сторону и выругался. Пастор Браун почти закончил второй куплет, когда раздались выстрелы, и свист оборвался.
После того, как я увидела, что они сделали с пастором Брауном, я перестала молиться. Молитвы утратили смысл. Никто не слышал, никто не помог, никто не поможет. Я не понимала, что никогда больше не вернется ко мне моя чистая вера в Бога. Картинка с изображением ангела, помогающего детям перейти через разрушенный мост в безопасное место, где можно укрыться от бури, висевшая когда-то над моей кроваткой в Латвии, будет казаться мне сентиментальной и вычурной. Я чувствовала себя чужой, лишней во время обшей семейной молитвы. Прервалась некая связующая нить, я об этом еще не знаю, как не знаю о том, как велика моя утрата.
Но глядя на шевелящиеся в молитве губы матери, я дергаю ее за рукав и шепчу:
– Улыбнись, пожалуйста.
Труп пастора Брауна остался лежать под дождем возле дуба, нас загнали обратно в погреб. Мы дрожали от холода. Было трудно поверить, что солдаты здесь появились меньше суток назад.
Никто не знал, что сделали они с остальными мужчинами. Я старалась не думать о папе и сердилась, когда женщины шептались, гадая, что случилось с мужчинами. Ведь они могли произнести вслух, что папу расстреляли. Как они не понимают, что пока они не скажут этого, с папой все будет в порядке? Как смеют они шептаться? Почему мама не прервет их?
Немки всегда давали понять, что мама не такая, как они. По отношению к ней вели себя надменно, заставляя выполнять самые тяжелые работы по кухне, всегда обвиняли ее, если что-нибудь терялось или было украдено. Мама не была создана для той физической работы, которую от нее ждали, тем более трудно было справляться со всем под враждебными, презрительными взглядами. Как-то ночью мы с сестрой проснулись от маминого плача. Папа утешал ее, доказывая мелочность придирок работавших с нею женщин. Мы лежали затаив дыхание, чтобы они не догадались, что мы не спим. Каждый раз, когда я просила маму улыбнуться, я знала, что с таким же успехом она может и расплакаться. Но этого не случилось. Каждый раз, когда я просила ее, она улыбалась.
Бабушка не работала на кухне. Она чинила белье и носки пациентов и присматривала за мной и сестрой. Немки отнеслись бы к ней с недоверием потому только, что она была латышка, но бабушка, похоже, вызывала их неприязнь и своим поведением. Однажды среди детей во дворе распространился слух, что кто-то умер и что Германия победит в войне. «Тупоголовый Рузвельт наконец-то умер!» – радостно кричала я вместе со всеми. Выбежала бабушка, схватила меня за руку и при всех отчитала: «Никогда не желай другому смерти!» Она начала говорить что-то о том, что войну проиграет Германия, но осеклась. Весь тот день она продержала меня в комнате. А теперь бабушка пеклась о Хильде, которую почему-то осудили только за то, что ее изнасиловали первую; все остальные женщины ее сторонились.
Но у мамы и бабушки были некоторые преимущества. Поскольку обе жили в России и понимали по-русски, они владели хоть какими-то крохами информации. Пастора Брауна русские расстреляли за то, что он сотрудничал с нацистами. Нет, солдаты не говорили, что собираются расстрелять и остальных мужчин. Нет, покинуть погреб нам разрешат не скоро, но должен прибыть какой-то высокопоставленный офицер, может быть, он сумеет обуздать солдат.
Долгий серый день шел на убыль. Все так же лил дождь, все так же солдаты толпились за перегородкой, женщины и девочки сидели тесно прижавшись, – ждали, дрожали. Астрида под матрасом время от времени дергалась.
Солдаты схватили двенадцати– или одиннадцатилетнюю девочку и стали отрывать ее от матери. До этого они считали ее слишком маленькой. Мать, расплывшаяся женщина с начинающими седеть волосами, пыталась предложить солдатам себя вместо дочери, но те смеялись и отталкивали ее. Девочку держали крепко. Она сопротивлялась и с мольбой смотрела на женщин, на всех подряд.
И тут Хильда очнулась. Она прекратила бормотать, вскочила, схватила какого-то солдата за руку. Стала вертеть задом, смеялась, заглядывая ему в глаза, солдат воспринял это как приглашение, но на самом деле выглядело все это насмешкой. Солдат толкнул товарища в бок и что-то сказал, после чего оба загоготали. Они отпустили девочку и увели Хильду за перегородку. Раздались рев и аплодисменты.
Когда Хильда вернулась, женщины смотрели на нее глазами, полными ненависти и презрения. Только мать перепуганной девочки порывалась что-то сказать, но промолчала. Хильда вернулась на свое место рядом с бабушкой, а женщины в это время, казалось, еще теснее сомкнули круг, из которого она была изгнана. Хильду таскали за перегородку еще несколько раз.
Наконец стемнело, новые солдаты больше не появлялись. Одни и те же заходили и выходили из погреба, но наконец и хождение прекратилось. И так-то неяркий, свет погас, но солдаты больше не светили карманными фонариками нам в лицо. Искать им здесь больше было нечего. Постепенно все они собрались в главном здании, чтобы поесть и улечься спать.
Непродолжительную тишину нарушили громкие приказы. На сей раз солдаты предпочли женщин постарше, тех, кого до сих пор не трогали. Они ткнули пальцем в бабушку, тетю Гермину. Бабушка пробормотала какие-то подбадривающие слова, быстро погладила меня и Беату по щеке, застегнула на Хильде пальто. Мама сидела неподвижно, ногти ее впились в мою ладонь.
Когда отобрали около полудюжины женщин, солдаты открыли двери и стали выталкивать их во двор, под дождь.
– Дикари, – громко произнесла мама. Оцепенев, я ждала, что вот-вот раздадутся выстрелы, но ничего не произошло.
Только один из солдат сунул голову в дверь и сказал что-то остальным.
Постепенно мама расслабилась, чуть отпустила мою руку, а потом, словно задумавшись, поднесла к губам и поцеловала.
– Бабушка вернется. Они ведут ее в главное здание. Им надо, чтобы бабушка и остальные начистили картошки и сварили кислые щи. Она вернется.
Мы сидели не двигаясь, однако вполуха прислушивались, не стреляют ли. Пушки все так же грохотали вдали, но поблизости выстрелов не было слышно. Может быть, действительно бабушка в конце концов вернется, когда солдаты поужинают.
У нас за весь день ни крошки во рту не было. Отсутствие еды, пожалуй, было благом, так как солдаты никого не выпускали на улицу в наспех сколоченную уборную. Использовать ведро за одной из перегородок, как делали это во время налетов, мы боялись. Солдаты напали бы на любую, увидав ее полуодетой. Мы описались, проголодались, хотели пить, замерзли и заболели от усталости.
Я закрыла глаза, но видела только бабушку, вот она одна идет под холодным дождем в главное здание, и папу, тоже одного, далеко впереди бабушки. Оба такие одинокие, такие испуганные, мне хотелось дотронуться до них, но я, конечно, не могла. Как только я закрывала глаза, перед глазами вставала одна и та же картина – солдаты толкают папу, как пастора Брауна, к дереву, поэтому я смотрела на Хильду. Чтение молитвы больше не помогало, потому что слова для меня потеряли смысл. Я сидела неподвижно, в животе и в груди что-то обрывалось при каждом движении солдат.
Два солдата остались нас охранять, они улеглись на матрасы, с которых согнали женщин. Они передавали друг другу папиросу и бутылку водки. Грубый смех раздавался все реже; может быть, они в конце концов заснут.
Фрау Франц, очень-очень старая немка с морщинистыми, покрытыми старческими пятнами руками, которой принадлежала изящная резная тросточка, перекрестилась. Она взбила подушку, пытаясь устроиться поудобней. Вытащила шпильки и тряхнула жидкими седыми волосами, точно так же, как бабушка перед сном. Потом она приложила руки ко рту и стала вытаскивать зубные протезы.
Один из солдат подскочил к ней. Верхняя пластинка уже была у него в руках, и он сунул пальцы в рот фрау Франц, чтобы вытащить и нижнюю. От боли она закричала и в то же время беспомощно хватала протез, который солдат держал в вытянутой руке.
Когда нижняя пластинка подалась и солдат уже собрался было положить обе в свой карман, мама бросилась на него. Злость, которую она сдерживала, когда солдаты отнимали у нее мужа и мать, и обручальное кольцо, придала ей силы. С минуту казалось, что она его укусит, вцепится ему в горло зубами, разорвет его на куски. Ошарашенный, солдат оттолкнул ее.
Мама сделала глубокий вдох и взяла себя в руки. И начала говорить. Она гримасничала, она жестикулировала, показывала на рот фрау Франц, потом на свой. Солдат, который взял протезы, прислушался; он не ожидал, что кто-то из женщин умеет говорить по-русски. Потом он снова что-то грубо произнес, сунул зубные протезы еще глубже в карман и погрозил матери кулаком. Он был невероятно зол. Потом мы узнали, что он сказал – у его матери в России нет ни одного зуба, а у этой немецкой суки целых два ряда. И так тоже проявлялось уважение солдат к своим матерям.
Мама еще раз попыталась втолковать ему, что зубные протезы делаются для каждого рта специально и что для старой женщины в России они не представляют никакой ценности, а эта старая женщина без них не сможет есть. Солдат ничего не хотел слышать. Он угрожающе поднял руку, словно собираясь маму ударить.
Когда мама произнесла еще какие-то слова, он ударил ее по лицу, толкнул на нары и еще раз ткнул кулаком в лицо. Их сразу же окружили находившиеся поблизости солдаты. Я бросилась на одного из них, хотела оттащить, повисла на его ноге, била, пинала, пыталась укусить. Я увидела искаженное злобой лицо, потом почувствовала сильный удар прикладом в грудь.
Боль была ужасной, я упала на спину и, как ни старалась, встать не смогла. Солдаты потащили маму на улицу. Она кричала, а они ругались словами, грубость которых была очевидна, хотя язык был непонятным. Они увели ее во тьму, под проливной дождь. Мне казалось, я слышу, как она идет к старому дубу, я пыталась встать и бежать за ними, но упала. Потом наступила тьма.
Светало. Все так же моросило, небо оставалось серым, но шум канонады стал тише. Хильда сидела одна, пальто на ней снова было распахнуто. Она тихо бормотала:
– Я покончу с собой, я покончу с собой, я покончу с собой.
Голос Хильды звучал не умолкая. Было очень холодно, хотя стояла уже поздняя весна.
– Где мама? – спросила я. – Ее расстреляли?
– Может быть, она вернется, – ответила сестра.
– Когда? Я хочу к маме. Пошли ее искать, – но боль в груди никуда меня не пускала.
Беата накрыла нас обеих одеялом, подоткнула со всех сторон края, устроив теплое гнездышко.
– Может быть, все еще будет хорошо, – не веря самой себе, сказала она.
Я хотела попросить сестру улыбнуться, может быть, ради меня она так бы и сделала, но я знала, что это не имеет никакого значения. Укрытые одеялом, мы тесно прижались друг к другу, по-прежнему не спуская глаз с двери. Мы надеялись, что мама вернется. Никогда ничего в своей жизни я так не хотела. Я никогда ничего больше не попрошу, если только она вернется.
Вместо этого стали заходить новые солдаты.








