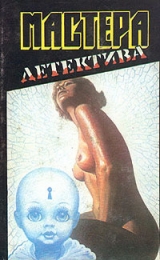
Текст книги "Мастера детектива. Выпуск 1"
Автор книги: Агата Кристи
Соавторы: Жорж Сименон,Себастьян Жапризо,Джон Ле Карре
Жанр:
Классические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 41 (всего у книги 46 страниц)
Он кричал на меня. Я уверяла его, что не звонила. Я села на кровать, положив сумочку себе на колени. Кошмар начинался снова. Только что, пока я разыскивала шофера грузовика, разговаривала с ним, даже когда упоминала о своих неприятностях, у меня появилось такое чувство, будто всего, что произошло за эти два дня, в действительности не было. Я забыла о трупе в машине, о ружье, о телефонограмме в Орли – словом, обо всем. Я слышала спокойный, доброжелательный голос, меня с интересом спрашивали, что мне принесли на обед, я была в мире, где не было места ни убийству, ни страху.
А оказывается, все это есть. Даже Бернар Тор, мой давнишний, самый верный мой друг, которого я посвящала во все свои дела, и тот вдруг оказался втянутым в этот кошмар. Я перестала его понимать. Он тоже не понимал меня. Мы несколько минут кричали друг на друга, прежде чем каждый из нас сумел объяснить, что он хочет сказать. Бернар – что я ему звонила в ночь с пятницы на субботу и то ли говорила издалека, то ли плохо работал телефон, но уже тогда он ничего не мог понять из моих слов и у него создалось впечатление, что я не в себе, тем более что я неожиданно бросила трубку. Я в свою очередь с каким–то остервенением повторяла, что не звонила ему ни днем, ни ночью, вообще не звонила. Потом я спросила:
– А ты уверен, что это была я?
– Что?! Конечно, ты. Правда, я плохо тебя слышал, в трубке что–то чертовски трещало, но это могла быть только ты.
– Это была не я.
– Боже мой, в таком случае ты была пьяна! Скажи, что происходит? Где ты?
– Я тебе говорю, это была не я!
– Даже то немногое, что ты мне сказала, не мог знать никто, кроме тебя, не делай из меня…
– О чем я говорила?
– О Цюрихе! Короче, это была ты.
Я снова заплакала. Я плакала так же, как вчера вечером, когда вернулась в свой номер: слезы текли из моих глаз сами по себе, независимо от моей воли, словно мне не принадлежали. Это он, Бернар Тор, помог мне четыре года назад – навел справки, одолжил денег на операцию и на клинику. А ведь в то время он был для меня просто товарищем и я о нем вспоминала, лишь когда видела его. Он один знал о моей поездке в Цюрих. Я колебалась почти четыре месяца из какого–то фанфаронства, из глупости, лгала себе и тому, кого люблю, в душе прекрасно сознавая, что у меня не хватит мужества сохранить ребенка. В общем, все кончилось так ужасно, что хуже быть не может. Думаю, что даже доктор, делавший мне операцию, презирал меня.
– Дани? Дани! Ты слышишь меня? Я ответила, что слышу.
– Ты плачешь? Я ответила, что плачу.
– Дани, где ты?
– Я тебе потом все объясню. Мне нужно знать, где останавливается Каравей, когда бывает в Женеве?
– Ты же ночью уже спрашивала у меня номер их телефона. Ты до сих пор не узнала его? Да скажи сначала…
– Я тебе повторяю, это звонила не я! Ты уверен, что я?
– Боже мой, это ужасно! Ведь ты сама должна знать! Все время я слышала один и тот же ответ. Все время. Я сама должна знать, была ли у меня забинтована рука, хотя она не была забинтована. Я сама должна знать, ночевала ли я в гостинице, в которой никогда не бывала. Я сама должна знать, звонила ли я, чтобы узнать номер телефона того, у кого я как раз в тот момент находилась. И все говорили искренне. Значит, я спятила.
Проклятые слезы все лились из моих глаз.
– Бернар, в какой гостинице обычно останавливается Каравей?
– В «Бо Риваж». Дани, послушай…
– У тебя есть его телефон? Он на несколько секунд положил трубку, чтобы взять свою записную книжку, потом продиктовал мне номер. Я раскрыла сумочку и правой рукой нацарапала его на клочке бумаги.
– Дани, прошу тебя, только не бросай опять трубку.
– Мне необходимо повидаться с одним человеком, который сейчас уезжает, Бернар, я не могу больше разговаривать.
– Боже мой, но что же все–таки произошло в ту ночь?
– А что тебе сказали по телефону?
– Кто? Ты? Какой–то бред, просто бред. Что тебе покалечили руку, что–то про Вильнев–лез–Авиньон, а потом – погоди, погоди! – ты сказала: «Он в ковре, Бернар, знаешь, он в ковре, я покончила с Цюрихом». Вот, кажется, все, потом ты бросила трубку. Ах нет, ты еще сказала, что в цюрихской истории виноват я, что я не должен был… – не знаю уж что… и все в том же духе. Сущий бред!
– Но если я столько всего сказала, ведь ты же не мог не узнать мой голос!
Я снова перешла на крик. Наверное, меня было слышно в другом конце коридора. В душном полумраке комнаты я вся покрылась испариной и в то же время меня знобило.
– Боже мой, неужели ты думаешь, я и сейчас узнаю твой голос? – Бернар тоже начал кричать. – Похоже, ты свихнулась! Скажи хотя бы, что…
– Где тебя найти сегодня вечером? Он сказал, что будет у себя. Я обещала ему позвонить и бросила трубку в тот момент, когда он снова кричал: «Не клади трубку». Я вытерла лицо и глаза в ванной комнате. Я не желала ни о чем думать. Хотела увидеть шофера грузовика. Сейчас я особенно остро почувствовала необходимость этой встречи. Разговаривая по телефону с Бернаром, я вдруг поняла, что во всех этих кознях, которые так искусно строят против меня, есть по крайней мере один пробел, одна ошибка. И тут ни при чем ни потусторонние силы, ни черт, ни дьявол. Ведь дьявол, с тех пор как он существует, никогда не допускал ошибок.
Неподвижное море под солнцем. Перевал Жинест. В который раз я еду по этой асфальтированной дороге среди холмов с выжженной травой? Я знаю ее с незапамятных времен.
Я гнала что было мочи. На каждом повороте меня заносило, я в отчаянии крутила руль, и острая боль от левой руки расходилась по всему телу. На одном из прямых участков дороги я увидела, что от нее отходит еще одна, ведущая в пустынные скалы и выгоревшую степь. Я притормозила. Указатель гласил, что это дорога в военный лагерь Карпиан. Матушка сказала мне:
«Сверни туда, ты найдешь местечко, где сможешь избавиться от той мерзости, что лежит у тебя в багажнике». Я заколебалась. Но я этого не сделала.
Я говорила себе: да, все, кто на автостраде № 6 думали, что узнают меня, видели на рассвете женщину в белом костюме, в темных очках, верно, такую же светловолосую, как я, примерно моего роста, но двойников не бывает, и она, конечно, не была моей точной копией. Но внимание всех было настолько приковано к белой машине, что они уже не замечали остального, кроме того, что у той, которая выдавала себя за Дани Лонго, была забинтована левая рука. Вот в этом–то и заключался промах. Повязка–это хитро придумано, чтобы втереть всем очки, но она вынужденная, она не была предусмотрена заранее, если уж после пришлось ломать мне руку в туалете станции техобслуживания. Уже не та женщина должна была походить на меня, а я – на нее. Вот почему меня и покалечили.
Я могла бы обратиться в полицию и все рассказать. Возможно, мне и поверят. Свидетельство одних Каравеев, с которыми я хорошо знакома и которых поэтому могут заподозрить в том, что они хотят выгородить меня, предположим, вызовет у полицейских сомнение, но у меня есть еще один свидетель, он все подтвердит. Последний человек, который посмотрел на меня более или менее внимательно в Жуаньи, как раз перед тем как я приехала на станцию техобслуживания, был Жан Ле Гевен. Он вспомнит, что у меня была здоровая рука. И все поймут, что я говорю правду.
И еще я подумала: может, в этом заговоре жертва–не ты одна, и скорее даже истинная жертва–не ты. Конечно, копировали именно тебя, но есть здесь одно необъяснимое обстоятельство, которое связано с тобой только случайно: это «тендерберд». Он принадлежит Каравеям. И самое главное–то, что труп положили в машину Каравеев.
Ну, продумай все. Надо было в субботу на рассвете пустить по этому шоссе точно такую же машину. Если б она была хоть чуть иной, владелец станции техобслуживания не спутал бы. И жандарм на дороге в Шалон, если б на ней был другой номер, заметил бы это. Похоже, что это один и тот же «тендерберд». Его ночью вывели из гаража Каравеев и утром пригнали обратно. Выходит, как ни крути, а втянуть в это грязное дело хотели именно Каравеев.
Но почему тогда женщина выдавала себя не за Аниту, а за меня, ведь меньше всего можно было предположить, что на Юг в этой машине поеду я?
Какой–то бред!
Я сказала себе: есть еще одна версия. Я должна остерегаться всех.
И в первую очередь самих Каравеев. Ведь для того, чтобы так хорошо разыграть мою роль, чтобы знать, как я одеваюсь, что я левша, знать, сколько мне лет, где я живу и еще много других подробностей, та, что выдавала себя за Дани Лонго, должна быть близким мне человеком. А кому я рассказывала о Цюрихе?
Все это знает Анита. Правда, она чуть ниже меня ростом, да и облик у нее несколько иной, но она тоже блондинка и уж она–то хорошо меня знает.
Она могла бы подражать некоторым моим жестам, в этом я уверена, и даже моей походке, которую пятнадцать или двадцать лет борьбы с близорукостью сделали весьма своеобразной. Она также сумела бы точно передать мою манеру говорить, вставить в разговор мои излюбленные словечки, которые у меня наверняка имеются, и, хотя трудно подражать чужому голосу, могла бы, пользуясь помехами на линии, создать по телефону впечатление, что это говорит действительно Дани Лонго, немного странная, до предела взвинченная. Кроме того, Анита знакома с Бернаром Тором, который служил вместе с нами еще в том первом агентстве, где я работала с Анитой, и она знает о наших отношениях.
До прошлого года он был для меня просто приятелем, который оказал мне огромную услугу и с которым мы время от времени отправлялись поужинать, в кино или посидеть где–нибудь и поболтать за рюмкой вина. И вот однажды вечером я решила, что хватит мне разыгрывать из себя Грету Гарбо, когда мы останавливаемся у дверей моего дома, словно то, в чем я ему отказываю, для меня настолько уж ценно, что он из–за этого должен уходить от меня обиженным и немного грустным. Я вернулась в его машину и поехала к нему домой. Думаю, что в его жизни есть и другие женщины, но он о них не говорит, так же как и о мужчинах, которые могли быть в моей жизни. Он по–прежнему очень мил со мной, и в наших встречах изменилось только то, что, поужинав, посмотрев кинокартину и поболтав за рюмкой вина, мы завершаем вечер любовью, и это очень приятно.
Однажды в агентстве я стояла, склонившись над его столом, и смотрела, как он подправляет макет рекламы. Сама того не заметив, я опустила руку ему на плечо. Не отрываясь от работы, он положил левую руку на мою – его любимый жест, – долго держал ее нежно, по–дружески, и мы словно вместе унеслись куда–то далеко–далеко. И мне вдруг так захотелось его ласки, что я подумала: с прошлым покончено навсегда, наконец–то я в самом деле полюбила.
Я припоминаю, что это и еще много других глупостей я рассказала Аните несколько месяцев назад, в субботу, в сочельник. Я встретила ее в отделе игрушек в «Галери Лафайет», и мы зашли в бистро около площади Оперы выпить по чашке кофе со сливками. Выслушав меня, она рассмеялась. Она стала подтрунивать надо мной: «Бедная ты моя девственница, я побывала в постели Бернара до тебя. Но ты подала мне хорошую идею: надо будет на днях позвонить ему». Мне стало не по себе, но я тоже рассмеялась. Анита добавила: «Можно вести любовь втроем, раз тебе не нравится, когда у каждой свой партнер». Я видела по ее глазам, да и по смеху тоже, что она нарочно растравляет старую рану и что для нее, во всяком случае, с прошлым не будет покончено никогда и она навеки затаила обиду на меня. Потом, словно защищаясь, она поднесла руку к лицу и жеманно, что всегда вызывало у меня отвращение, спросила: «Ты снова будешь меня бить?» Я взяла свою сумочку, пакеты с покупками и встала. Она изменилась в лице, схватила меня за руку и, побледнев – это было видно даже под слоем косметики, – сказала: «Прошу тебя, Дани, не уходи так демонстративно, при всех. Разве ты не понимаешь, что это шутка?» Я подождала ее. Когда мы вышли на улицу, она, улыбаясь светской улыбкой благовоспитанной дамы, чеканя каждое слово, злобным голосом бросила мне: «Мерзкий ублюдок, ты одно только и умеешь – бросать других на произвол судьбы, да? Ты здорово умеешь выходить сухой из воды, не правда ли?» Я повернулась к ней спиной и ушла. Только в метро, когда было уже слишком поздно, я снова подумала, что и на этот раз она, пожалуй, права.
Вечером Анита позвонила мне. Мне кажется, она была пьяна и находилась Бог весть в каком злачном месте. Она сказала: «Дани, дорогая Дани, это дело прошлое, я знаю, ты не виновата, не будем больше ссориться, не думай, что я уже не друг тебе», – и еще что–то в этом роде. Я, естественно, залила слезами всю свою комнату, я смотрела на себя с отвращением, как на растаявшую конфету. Анита дала мне слово, что скоро мы снова встретимся, помиримся, не тая обид друг на друга, что она мне подарит на Рождество огромный флакон наших любимых духов – мы употребляем одинаковые духи, потому что, когда мне было двадцать лет, я брала ее духи, – что мы вместе пойдем в «Олимпию» слушать Беко, а потом поужинаем в японском ресторане на Монпарнасе, что то перемирие, объявленное в мае, или же Компьенское перемирие, подписанное в вагоне в Ретонде, по сравнению с нашим будет выглядеть просто жалким.
И все–таки самым жалким было то, что в течение последующих двух недель каждый Божий вечер, кроме рождественского, когда, я знала, она непременно будет со своей маленькой дочкой, я мчалась домой, отказываясь от всех приглашений, боясь прозевать ее звонок. Но я так и не увидела ее до пятницы 10 июля, короче – до того вечера, когда ее муж привез меня к ним работать.
Кстати, почему он привез меня к себе? Чтобы на всю ночь отрезать меня от мира и потом иметь возможность утверждать, будто я была не в квартале Монморанси, а на автостраде № 6. Каждая деталь усиливала мои подозрения.
Меня заставили сидеть в доме одну с девяти часов вечера до двух ночи, за это время они вдвоем могли сделать все, что им угодно. Анита ничего не забыла, ничего не простила, как раз наоборот. Сейчас она мстит мне за ту майскую ночь тем, что…
Бред!
Так чем же? Не могла же она застрелить человека специально для того, чтобы пришить мне убийство! И еще признаться во всем мужу, чтобы он помог ей отомстить мне за то, что когда–то, когда нам было по двадцать лет, она провела ночь в моей комнате с двумя подвыпившими собутыльниками, для которых она была просто жалкой игрушкой, а я, имея достаточно влияния на нее, чтобы удержать ее от этого, убежала из дома куда глаза глядят.
И снова слезы вдруг набежали мне на глаза, они текли так безудержно, что я не видела дороги. Я твердила себе: можешь плакать, плакать сколько угодно, но ты виновата, это правда, ты оставила ее с ними одну, а она выпила и бравировала – да, ты же знаешь, что она бравировала именно перед тобой, – ты могла бы силой заставить ее уйти, образумить этих разнузданных молодчиков, позвать, наконец, на помощь соседей, в общем, что угодно, а ты вместо этого удрала, да еще считала, что ведешь себя как порядочная девушка, как непорочный лучезарный ангел, оказавшийся среди свиней. Дани Лонго, ты умеешь только лить слезы и кичиться своей чистой совестью, но ты просто Иуда, пожираемый страхом. А ведь если ты считала себя ее подругой, ты была за нее в ответе, разве не так? О да, ты заслуживаешь наказания, самого сурового наказания…
«Остановись, – приказала мне Матушка, – остановись».
У самого Марселя я съехала на обочину и выключила мотор. Надо немного прийти в себя. Часы на приборном щитке показывали половину второго. Чтобы добраться до грузовой автостанции, мне, возможно, придется пересечь весь город, а Жан Ле Гевен, конечно, уже уехал.
Ну разве можно себе представить, что Анита кого–то убила? Разве можно представить, что она разыграла на шоссе всю эту чудовищную комедию!
Наверное, я и впрямь спятила.
Если рассуждать здраво – насколько вообще способны рассуждать такие тупицы, как я, – то все мои доводы повисают в воздухе. Ну как можно додуматься до того, что Каравеи убили кого–то и, чтобы отвести от себя подозрения, сунули труп в свою же собственную машину? Кроме того, у женщины, которая выдавала себя за меня, наверное, и в самом деле что–то было с рукой, если оказалось необходимым покалечить меня, чтобы я на нее походила. А у Аниты рука была здоровая. И потом – вот тут–то и кроется основное опровержение – как можно было додуматься до того, чтобы уже в пятницу вечером точно выбрать место, где она будет играть мою роль, в то время как я сама еще даже не подозревала, что окажусь там на следующий день.
С таким же успехом я могла бы обвинить Бернара Тора или еще одного бывшего возлюбленного, но он уехал к себе на родину, на другой край света.
Или того, кого я люблю. В общем, кого–нибудь из троих мужчин Дани Лонго.
Или, в конце концов, того же Филиппа, моего злополучного четвертого возлюбленного. Или соседку по лестничной площадке («Она хочет выжить меня, чтобы расширить свою квартиру»), или одну редакторшу из агентства («Она капельку менее близорука, чем я, но, наверное, жаждет быть единственной в своем роде»), или же всех их вместе («Им осточертела Дани Лонго, и они объединились»).
В самом деле, почему бы и нет?
Оставалось одно, последнее объяснение, единственное, в котором все было логично, но над ним я не хотела даже задумываться – ни за что! – его я начисто отметала. Мне потребовался весь остаток дня, чтобы все–таки прийти к выводу, что оно верно.
До грузовой автостанции я добралась с опозданием на сорок минут, то и дело спрашивая дорогу у всех прохожих, которых мне просто чудом удавалось не задавить на пешеходных дорожках. Марсельцы – замечательный народ.
Во–первых, если вы пытаетесь переехать их, они выливают на вас не больше брани, чем жители других городов, мало того, они не поленятся взглянуть на ваш номер и, увидев, что он парижский, понимают, что с вас и требовать нечего, и без злобы, без возмущения, просто для порядка покрутят пальцем у виска, а если вы в эту минуту говорите: «Я запуталась, я ничего не могу понять в вашем паршивом городе, где на каждом шагу висит «кирпич», и все они словно ополчились против меня, а я ищу грузовую автостанцию в Сен–Лазаре, если она только вообще существует», они начинают выражать вам свое сочувствие, говорят, что вам не повезло, и целая дюжина марсельцев окружает вас и каждый дает совет. Поверните направо, потом налево и, когда доедете до площади, где Триумфальная арка, берегитесь троллейбусов, это убийцы, вот сестра жены моего кузена засадила одного водителя в тюрьму, а сама лежит в семейном склепе на кладбище в Кане, а оно так далеко, что и цветов ей не принесешь.
Рекламная Улыбка, вопреки всем ожиданиям, был там. Он стоял в стороне от бензоколонок, прислонясь к борту грузовика, видимо своего, спасаясь от солнца в его тени, и разговаривал с каким–то мужчиной, который сидел на корточках у колеса. На нем была вылинявшая голубая рубашка, расстегнутая на груди, брюки, которые тоже, верно, были когда–то голубыми, и потрясающая красная клетчатая кепка, высокая, с большим козырьком – последний крик моды.
Грузовая автостанция была похожа на обыкновенную станцию техобслуживания, только, пожалуй, побольше, и здесь стояло много грузовиков. Я круто развернулась и резко затормозила на самом солнце, рядом с Рекламной Улыбкой. Не поздоровавшись, даже не сделав приветственного жеста, он спокойно сказал мне:
– Знаете, как мы сейчас поступим? Маленький Поль поедет вперед с товаром, а мы нагоним его по дороге. И вы дадите мне повести вашу красотку. Кроме шуток, мы опаздываем.
Маленький Поль, напарник Жана, оказался тем самым человеком, что проверял давление в шинах. Когда он поднял голову, чтобы поприветствовать меня, я его узнала. В Жуаньи они были вместе.
Я вышла из машины. На какое–то мгновение я заколебалась, боясь отойти от нее из–за трупа в багажнике, потому что, когда я останавливалась около него, мне казалось, будто я ощущаю запах, и, хотя мое замешательство было очень коротким, оно стерло улыбку с лица Жана. Я подошла к нему и несколько секунд неподвижно стояла рядом, потом он протянул руку и погладил меня по щеке.
– Видно, у вас крупные неприятности, – сказал он. – Вы хоть успели перекусить?
Я ответила «нет, нет», слегка покачав головой. Он провел рукой по моим волосам. Ростом он был намного выше меня, нос у него был какой–то странной формы, словно перебитый, как у боксера, глаза темные и внимательные, и я сразу почувствовала, что в нем есть все то, чего мне так не хватает: сила, спокойствие, душевное равновесие, и что он – об этом можно было догадаться уже по тому, как он гладил меня по щеке, по улыбке, которая вновь появилась на его лице, – хороший человек, хотя это глупое определение, но я не знаю, как сказать иначе, одним словом, что он – человек. В невообразимой красной клетчатой кепке.
Опустив руку мне на плечо, он сказал Маленькому Полю, что, значит, все решено, до встречи, но, если до какого–то там моста мы его не нагоним, пусть он ждет нас. Жан обнял меня за плечи, словно мы с ним старые друзья, и, перейдя улицу, мы вошли в кафе, где кончали обедать шоферы.
Большинство из них знало Жана, и, проходя между столиками, он на ходу пожимал руки, иногда останавливался, что–то отвечал то одному, то другому на вопросы о фрахте, об оплате груза, об увеличении налогов, о всех этих непонятных для меня вещах. Он все еще обнимал меня за плечи, и по взглядам его собеседников – а я кивала головой, делая вид, что великолепно разбираюсь в их делах, – я видела, что они считают меня его подружкой. И кажется, мне это даже нравилось. Я сторонница рабства: моя мечта–стать чьей–нибудь собственностью.
Мы сели друг против друга за столик у окна, которое выходило на улицу.
Из–за грузовика Жана виднелся хвост моего «тендерберда», и я могла следить, не подойдет ли кто к багажнику. А впрочем, мне было наплевать на это. Мне было хорошо. До чего же я хотела, чтобы мне было хорошо, чтобы мне на все было наплевать и чтобы все оказалось дурным сном. Я сказала Рекламной Улыбке, что мне нравится его кепка, она напоминает шапочки французских лыжниц, я видела по телевизору у них нечто похожее. Он рассмеялся, снял кепку и надел ее на мою голову. Я посмотрела на свое отражение в стекле, идет ли она мне. Она была немного сдвинута на затылок, но я не поправила ее – так по крайней мере я хоть показалась себе забавной.
Вокруг нас все, кажется, ели одно и то же блюдо – мясной рулет, куски которого Рекламная Улыбка назвал «безголовыми жаворонками». Он спросил, люблю ли я мясной рулет, повернулся к стойке, за которой стояла толстая женщина в черном платье, и, подняв палец, показал, что заказывает одну порцию. Никто никогда не поймет, как светло стало у меня на душе в тот момент. И тут он спросил:
– Что у вас с рукой? Об этом я и собиралась заговорить, я собиралась сделать это первой. Я хотела перебить его. Но было уже поздно. И он простодушно добавил:
– А тогда у вас уже было это?
– Но вы же видели меня! Разве тогда у меня была забинтована рука?
Скажите. Это как раз то, о чем я собиралась вас спросить.
Мой плаксивый тон и, наверное, напряжение, которое он увидел на моем лице, сбили его с толку. Он явно силился понять смысл моих слов, долго разглядывал мою руку в грязной повязке, лежавшую на столике, и в конце концов, как и следовало ожидать, сказал:
– Послушайте, но вы–то сами должны это лучше знать.
Посетители кафе постепенно расходились. Рекламная Улыбка заказал графинчик розового вина для меня и кофе для себя. Время от времени он говорил мне: «Покушайте хоть немного, остынет». Я рассказала ему все с самого начала. Что служу в одном рекламном агентстве, что шеф попросил меня поработать у него дома, а на следующий день доверил мне свою машину и мне взбрело в голову уехать на ней на четыре дня. Я перечислила всех, кого я встретила по дороге: парочка в ресторане, продавщицы в Фонтенбло, он сам в Жуаньи, старуха, которая утверждала, будто я забыла у нее свое пальто, владелец станции техобслуживания, на которой мне покалечили руку, и два его приятеля, жандарм на мотоцикле, хозяин гостиницы «Ренессанс». Я шаг за шагом во всех подробностях рассказала об этих встречах. Я умолчала лишь о трупе в багажнике и еще – это было ни к чему и как–то смущало меня – о Филиппе и Филантери. Короче говоря, мой рассказ обрывался на Шалоне.
– А дальше?
– Дальше – ничего. Я поехала в Кассис, взяла номер в гостинице.
– Поешьте хоть немного.
– Я не голодна.
Он долго смотрел на меня. Я ковыряла вилкой рулет, но не взяла в рот ни кусочка. Он закурил сигарету, третью или четвертую за это время, пока я говорила. Стрелка часов уже приближалась к трем, но он ни разу не взглянул на них. Да, Рекламная Улыбка – настоящий человек.
Я уже не помню, по какому поводу, но еще в начале нашего разговора он сказал мне, что соображает туго и хорошо еще, что умеет читать и писать, ведь у него даже нет свидетельства об окончании начальной школы, и что–то еще в том же духе. Но когда он теперь заговорил, я поняла, что он скромничал, потому что он сразу же уловил: я чего–то не договариваю.
– Одного я не понимаю. Ведь теперь уже все кончилось? Вас ведь оставили в покое? Почему же вы так волнуетесь?
– Просто я бы хотела разобраться.
– Зачем? Может, над вами и впрямь подшутили – но только не я, – тогда к чему так уж усердствовать, лезть из кожи вон…
– Я и не усердствую…
– Ах так, тогда простите. Значит, вы звонили в Жуаньи и приехали сюда только ради моих прекрасных глаз? Что ж, я не возражаю. – И, помолчав, он проговорил:
– Скажите мне, что вас тревожит?
Я пожала плечами и ничего не ответила. К еде я больше не притрагивалась, и он заявил, что если я буду продолжать в том же духе, то ребрами поцарапаю свою ванну, и заказал мне кофе. После этого мы сидели некоторое время молча. Когда женщина в черном платье принесла мне кофе, он сказал ей:
– Слушай, Ивонна, закажи–ка мне в Жуаньи 5–40 и постарайся, чтобы дали побыстрее. И принеси счет, а то Маленький Поль совсем врастет там в землю, он уехал вперед.
Она что–то невнятно буркнула по поводу прогулки на свежем воздухе и пошла к телефону. Я спросила Рекламную Улыбку, зачем он вызывает Жуаньи.
– Так. Одна идея пришла в голову. Все, что там говорили ваш владелец станции техобслуживания, ваш жандарм, – все это слова, пустые слова. И даже карточка в гостинице в Шалоне тоже ничего не доказывает, раз она заполнена не вами. Вам могли наплести что угодно. А вот пальто, забытое у старухи, – это уже нечто реальное. С него и надо было начинать. Не так трудно узнать, ваше оно или нет, и если оно и впрямь принадлежит вам, значит, это вы несете Бог знает что.
Так, получила. Он говорил очень быстро, отчетливо, и теперь я улавливала в его голосе легкое раздражение. Наверное, ему было обидно, что я что–то скрываю от него. Я спросила его (надо было слышать, каким плаксивым тоном!):
– Вы хотите сказать, что подозреваете – нет, это ведь не правда? – подозреваете, будто женщина, которую видели на шоссе, – я, в самом деле я?
Вы думаете, я лгу вам?
– Я не сказал, что вы лжете, наоборот, я уверен, что нет.
– Значит, вы считаете меня сумасшедшей.
– Этого я тем более не говорил. Но у меня есть глаза, и я за вами наблюдал. Сколько вам лет? Двадцать четыре, двадцать пять?
– Двадцать шесть.
– В двадцать шесть лет не заливают за галстук. Разве вы много пьете?
Нет, вон вы даже и не притронулись к вину. Так в чем же тогда дело? Когда я вас увидел впервые, я сразу подумал, что у вас что–то не клеится, тут свидетельство об образовании не нужно. А с тех пор дело пошло еще хуже, вот и все.
Я не хотела плакать, не хотела. Я закрыла глаза и теперь уже не видела Рекламной Улыбки, я крепко сомкнула веки. И все–таки слезы полились.
Перегнувшись через стол. Рекламная Улыбка склонился ко мне и встревожено сказал:
– Ну, вот видите, вы дошли до точки. Что случилось? Поверьте, я вас спрашиваю не для того, чтобы отделаться от вас. Я хочу помочь вам.
Скажите, что случилось?
– Это какая–то другая женщина. Я была в Париже. Это была не я.
Я открыла глаза. Сквозь слезы я увидела, что он внимательно смотрит на меня и во взгляде его сквозит досада. А потом он, как и следовало ожидать, сказал, предупредив меня, что я могу как угодно отнестись к его словам:
– Вы очень милая, очень красивая, вы мне нравитесь, но ведь может быть только одно из двух: или это был кто–то другой, или – вы. Я не представляю, как это возможно, но если вы так упорно стараетесь убедить себя, что в машине был кто–то другой, значит, в душе вы все–таки сомневаетесь в этом.
Не успев даже подумать, я замахнулась левой рукой, чтобы ударить его по лицу. К счастью, он успел отстраниться, и я промахнулась. И тут я разрыдалась, опустив голову на руки. Я психопатка, буйная психопатка.
В Жуаньи к телефону подошел хозяин бистро. Жан назвал себя и спросил, не уехал ли Сардина. Да, уехал. Он спросил, не едет ли кто–нибудь из шоферов в Марсель. Нет, никто не едет.
Тогда он сказал:
– Слушай, Тео, посмотри у себя в справочнике номер телефона кафе в Аваллоне–Два–заката и дай его мне. – И спросил у меня (я стояла рядом, приложив ухо к трубке с другой стороны):
– Кто хозяин этого кафе?
– Я слышала на станции техобслуживания, будто их фамилия Пако. Да, да, Пако.
Хозяин бистро в Жуаньи нашел нужный телефон. Рекламная Улыбка сказал:
«Молодец, привет», – и сразу же заказал Аваллон–Два–заката. Нам пришлось ждать минут двадцать. Мы пили кофе – уже по второй чашке – и молчали.
К телефону, судя по голосу, подошла молодая женщина. Рекламная Улыбка спросил, у нее ли пальто, которое забыли в кафе.
– Пальто блондинки с перевязанной рукой? Конечно, у меня. Вы кто?
– Друг этой дамы. Она рядом со мной.
– Но в субботу вечером она снова проезжала здесь и сказала моей свекрови, что это не ее пальто. Как–то странно все это.
– Не кипятитесь. Лучше скажите, какое оно из себя.
– Белое. Шелковое. Летнее пальто. Подождите минуточку.
Она, видимо, пошла за пальто. Рекламная Улыбка снова обнял меня за плечи. За его спиной, через окно, я видела «тендерберд», он стоял на самом солнцепеке. Как раз перед телефонным разговором я забежала в туалет, ополоснула лицо, причесалась, немного подмазалась. Я вернула Рекламной Улыбке его кепку, и сейчас она лежала перед нами на стойке. Толстая женщина в черном пальто сновала взад и вперед по пустому залу, вытирая столы, и, делая вид, что поглощена своей работой, слушала, о чем мы говорим.
– Алло? Оно белое, подкладка в крупных цветах, – сказала женщина на другом конце провода. – С небольшим стоячим воротничком. Есть марка магазина: «Франк–сын. Улица Пасси».








