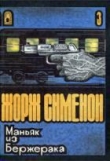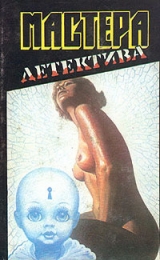
Текст книги "Мастера детектива. Выпуск 1"
Автор книги: Агата Кристи
Соавторы: Жорж Сименон,Себастьян Жапризо,Джон Ле Карре
Жанр:
Классические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 46 страниц)
АВТОМОБИЛЬ
Мануэль мог бы абсолютно точно сказать им, что это была за машина: «тендерберд» последней модели, весь напичканный всевозможной автоматикой, V–образный восьмицилиндровый двигатель в 300 лошадиных сил, максимальная скорость – 120 миль, емкость бензобака – 100 литров. Мануэль имел дело с автомобилями с четырнадцати лет – а сейчас ему уже под сорок – и интересовался всем, что мчится на четырех колесах, не меньше, чем теми, кто ходит на двух ногах и высоких каблуках. Читал он только «Автомобильный аргус» и проспекты с рекламой женской косметики, которые лежали обычно на стойке в аптеке.
В Америке он, демонстрируя свои познания, хотя бы получал удовольствие.
Там вас слушают. Даже если вы плохо говорите по–английски и целую вечность подбираете нужное слово. Мануэль, баск по национальности, всю свою молодость проработал в Америке, главным образом в Толедо, штат Огайо. У него и сейчас живет там брат, старший и самый любимый. Об Америке Мануэль тосковал в основном из–за брата и еще из–за рыжеволосой девушки–ирландки, с которой он катался на лодке по реке Моми во время праздника, организованного баскской колонией. В общем–то, между ними ничего не было, если не считать, что однажды она зашла к нему в комнату, а он попытался залезть рукой к ней под юбку, но она быстро поставила его на место.
Когда он жил в Толедо, у него было много любовниц, в основном женщины легкого поведения или замужние дамы, и он вспоминал о них без всякой грусти. Теперь он пытался убедить себя, что тогда был слишком горяч и нетерпелив и что, если бы он приложил немножко усилий, Морин, как и другие, была бы его. В память о том празднике на реке он называл ее Морин, потому что это звучит почти как Моми и походит на ирландское имя, но как ее звали на самом деле, он позабыл. А может, она вовсе и не ирландка.
Порою, когда вино вгоняет его в тоску, он даже начинает сомневаться, была ли она в самом деле рыжая. Дочь своей жены – девочке было два года, когда он стал ее папой, – он тоже нарек Морин, но все называли ее Момо или Рири, даже школьная учительница, и он ничего не мог с этим поделать. Так вот всегда в жизни и бывает: как ни припрятывай корочку хлеба, у тебя обязательно ухитрятся ее утащить.
Мануэль не любил навязываться кому–либо со своими рассуждениями, тем более клиентам, он по опыту знал, что владелец французской машины спрашивает вас об американской лишь для того, чтобы узнать, сколько она стоит. А техническая сторона француза не интересует, он обычно уже заранее убежден, что с этой точки зрения она не стоит ничего. Это, естественно, не относится к знатокам, но те и не задают вопросов, они сами задурят вам голову, расхваливая машину. Вот почему Мануэль, когда его спросили о «тендерберде» с золотисто–песочными сиденьями, кратко ответил:
– Она должна стоить не меньше пяти тысяч монет. Сущие пустяки.
Мануэль наполнил бак бензином и теперь протирал ветровое стекло. Рядом с ним стояли местный виноградарь Шарль Болю и агент по продаже недвижимого имущества из Солье, долговязый и худой обладатель малолитражки, который заезжал на станцию три раза в неделю, но имени его Мануэль не знал. Как раз в эту минуту они услышали крик. Мануэль, как и его собеседники, несколько долгих секунд стоял, застыв на месте, хотя он, пожалуй, не мог бы сказать, что это его так уж удивило. Во всяком случае, меньше, чем если бы это произошло с другой женщиной.
Когда он увидел эту молодую даму, он почему–то сразу подумал, что она немножко не в себе. Может, дело тут было в ее темных очках, ее немногословности (она произнесла всего одну–две фразы, самые необходимые) или в той немного небрежной, усталой манере во время ходьбы склонять голову набок. У нее была очень красивая, очень своеобразная походка: когда она шла, казалось, что ее длинные ноги начинаются у талии. Глядя на нее, Мануэль невольно подумал о раненом животном, хотя затруднился бы сказать, на кого она больше походила на дикую кошку или антилопу, но явно на животное, вырвавшееся из ночного мрака, потому что под светлыми волосами дамы угадывались темные, мрачные мысли.
И вот в сопровождении троих мужчин она идет к конторе Мануэля. Когда они выходили из туалета, мужчины хотели взять ее под руки, но она отстранилась. Она уже не плакала. Она прижимала к груди раздувшуюся руку с широкой синеватой полосой на ладони. И сейчас у нее была все та же плавная походка. Мануэль смотрел на ее правильный, словно окаменевший профиль с коротким прямым носом и крепко сжатыми губами. Даже несмотря на выпачканный в пыли белый костюм и немного растрепавшиеся волосы, для Мануэля она была олицетворением изящного животного, принадлежащего какому–нибудь господину с туго набитым кошельком.
Мануэль почувствовал себя слегка уязвленным, понимая, что такую женщину ему не обольстить, да и вообще, такие не для него. Но еще больше его огорчало другое. На пороге дома, рядом со своей матерью, стояла и смотрела на них девочка. Мануэль предпочел бы, чтобы она этого не видела. Ей было семь лет, и, хотя Мануэль ни на минуту не забывал, что она ему не родная дочь, он все же больше всего на свете дорожил этой девочкой. И она платила ему тем же. Она даже восхищалась им, потому что, когда у отцов ее школьных подружек что–нибудь не ладилось с мотором, они смиренно обращались к нему, а уж его руки умели все наладить и исправить. И сейчас Мануэлю было неприятно, что девочка видит его таким растерянным.
В конторе он усадил даму из «тендерберда» у широкого окна. Все молчали.
Мануэль не осмелился отослать девочку, боясь, что она на него обидится. Он пошел в кухню, достал из стенного шкафа бутылку коньяка, а из раковины – чистую рюмку. Миэтта, его жена, вошла вслед за ним.
– Что случилось?
– Ничего. Я сам не знаю.
Прежде чем вернуться в контору, он хлебнул коньяку прямо из горлышка.
Миэтта не упустила случая сказать ему, что он слишком много пьет, на что он по–баскски ответил, что благодаря этому он скорее умрет и она сможет еще раз выйти замуж. Первым мужем Миэтты был какой–то испанец, о нем Мануэль не желал даже слышать. Но это была не ревность. Жену он не любил, а может, просто перестал любить. Иногда ему вдруг приходило в голову, что она наставляла рога своему испанцу и девочка родилась неизвестно от кого.
Мануэль налил полрюмки коньяку и поставил на обитый железом стол конторы. Все молча смотрели на рюмку. Дама из машины лишь отрицательно помотала головой. Мануэлю неприятно было начинать разговор, главным образом из–за девочки и еще потому, что он знал: его баскский акцент вообще вызывает удивление, а в такой момент он покажется просто смешным. И тогда он решил предотвратить удар и, раздраженно взмахнув рукой, сказал:
– Вы уверяете, что на вас напали. Но ведь здесь никого больше не было.
Вот – кто был, тот и остался. Лично я, мадам, не знаю, почему вы говорите, будто на вас напали, просто не знаю.
Она смотрела на него через свои темные очки, и он не видел ее глаз.
Болю и агент по продаже недвижимого имущества по–прежнему молчали.
Наверное, они думали, что она эпилептичка или что–нибудь в этом роде, и им было не по себе. Но Мануэль знал, что это не так. Однажды ночью, как раз в тот год, когда он приехал во Францию, у него на станции техобслуживания под Тулузой украли сумку с инструментом. И сейчас ему казалось, хотя он и не смог бы объяснить почему, что он опять влип в какую–то историю.
– Кто–то туда вошел, – утверждала дама. – Вы должны были его увидеть, ведь вы стояли неподалеку.
Говорила она так же неторопливо, как и ходила, но голос звучал четко, в нем не чувствовалось никакого волнения.
– Если бы кто–нибудь вошел, мы, конечно, увидели бы, – согласился Мануэль. – Но в том–то и дело, мадам, что никто, никто туда не входил.
Она повернулась к Болю и агенту. Болю пожал плечами.
– Не станете же вы утверждать, что это был кто–то из нас? – спросил Мануэль.
– Не знаю. Я вас в первый раз вижу.
Все трое от неожиданности онемели и с глупым видом уставились на нее.
Предчувствие Мануэля, что снова на него надвигаются какие–то неприятности, как тогда под Тулузой, еще более усилилось. Правда, его успокаивало то, что он не покидал своих клиентов все время, пока она была в туалете (сколько это длилось – минут пять, шесть?), но по наступившей вдруг зловещей тишине он понял, что и они насторожились. Тишину нарушил агент.
– Может, вашей жене следовало бы увести девочку? – обратился он к Мануэлю.
Мануэль по–баскски сказал жене, что Рири нечего здесь делать, да и сама она, если не хочет получить такую взбучку, о которой долго будет помнить, пусть лучше пойдет подышать свежим воздухом. Жена ответила ему, тоже по–баскски, что он ее просто–напросто изнасиловал, ее, вдову изумительного человека, изнасиловал, даже не сняв с нее траурного платья, и поэтому ее ничуть не удивляет, что он так же поступил с другой женщиной. Но все же она вышла, уводя девочку, которая, обернувшись, переводила взгляд с дамы на Мануэля, пытаясь понять, кого в чем обвиняют.
– Никто из нас троих туда не входил, – проговорил Болю, обращаясь к даме, – не утверждайте того, чего не было.
У большого, тучного Болю и голос был под стать. Когда в деревенском кабачке играли в карты, его голос всегда гремел громче всех. Мануэль нашел, что Болю сказал именно то, что надо. Нечего возводить на них напраслину.
– У вас украли деньги? – спросил Болю.
Дама отрицательно мотнула головой и сделала это не задумываясь, без колебаний. Мануэль все меньше и меньше понимал, к чему она клонит.
– Как же так? Ради чего же на вас напали?
– Я не сказала – напали.
– Но именно это вы хотели сказать, – возразил Болю и сделал шаг в сторону дамы.
И вдруг Мануэль увидел, как она изо всех сил прижалась к спинке стула, и понял, что она боится. Из–под ее очков выкатились две слезинки и медленно поползли по щекам, оставляя на них полоски. На вид ей было не больше двадцати пяти лет. Мануэль испытывал какое–то странное чувство неловкости и возбуждения. Ему тоже хотелось подойти к ней, но он не решался.
– И вообще снимите ваши очки, – продолжал Болю. – Я не люблю разговаривать с людьми, когда не вижу их взгляда.
И Мануэль, наверное, и агент, да, пожалуй, и сам Болю, который нарочито преувеличивал свой гнев, чтобы казаться грозным, могли поклясться, что она не снимет очков. Но она сняла их. Она сделала это сразу же, словно испугалась, что ее силой заставят повиноваться, и на Мануэля это произвело такое же впечатление, как если бы она перед ним разделась. У нее были большие печальные глаза, совершенно беспомощные, видно было, что она с трудом сдерживает слезы. И честное слово, черт побери, без очков она выглядела еще более привлекательной и безоружной.
Видимо, и на остальных она произвела такое же впечатление, так как снова воцарилось тягостное молчание. Потом, не говоря ни слова, она подняла вдруг свою раздувшуюся руку и показала ее мужчинам. И тут Мануэль, которого она с трудом различала без очков, отстранив Болю, шагнул к ней:
– Это? – спросил он. – Ну нет! Вы не посмеете сказать, что это вам сделали здесь! Сегодня утром это уже было!
И в то же время он подумал: «Какая–то чушь!» Только что он был уверен, что разгадал подоплеку этой комедии – просто его хотят одурачить, – и вот сейчас ему в голову пришел один довод, который опрокинул все. Если она, предположим, и вправду хотела заставить их поверить, что ее покалечили здесь, у Мануэля, и вытянуть у него некоторую сумму, пообещав не сообщать об этом полиции (но уж он–то не попался бы на эту удочку, хотя и побывал однажды в тюрьме), какого же черта она примчалась сюда утром с уже сломанной рукой.
– Это не правда.
Неистово тряся головой, она порывалась встать. Болю пришлось помочь Мануэлю удержать ее. В вырез ее костюма было видно, что на ней нет комбинации, а только белый кружевной лифчик, и что кожа у нее на груди такая же золотистая, как и на лице. Наконец она отказалась от мысли встать, и Мануэль с Болю отошли в сторону. Надевая очки, она продолжала твердить, что это не правда.
– Что? Что не правда?
– Сегодня утром у меня ничего не было с рукой. А если бы даже и было, то вы не могли бы этого увидеть, я находилась в Париже.
Ее голос снова зазвучал звонко, а в манере держаться опять появилось что–то надменное. Но Мануэль понимал, что это вовсе не надменность, а лишь усилие сдержать слезы и в то же время выглядеть настоящей дамой. Она пристально разглядывала свою неподвижную левую руку и странный рубец на ладони почти у самых пальцев.
– Мадам, вы не были в Париже, – спокойно возразил Мануэль. – Вам не удастся заставить нас поверить в это. Я не знаю, чего вы добиваетесь, но никого из присутствующих вы не убедите, что я лжец.
Она подняла голову, но посмотрела не на него, а куда–то в окно. Они тоже посмотрели в окно и увидели, что Миэтта заправляет какой–то грузовичок. Мануэль сказал:
– Сегодня утром я чинил задние фонари вашего «тендерберда». Там отсоединились провода.
– Не правда.
– Я никогда не говорю не правду.
Она приехала на рассвете, он пил на кухне кофе с коньяком и тут услышал гудки ее автомобиля. Когда он вышел, у нее было такое же выражение лица, как и сейчас: спокойное, но одновременно настороженное, напряженное – казалось, чуть тронь ее, и она заплачет, – и в то же время всем своим видом она как бы говорила: «Попробуйте–ка троньте, я себя в обиду не дам».
Через свои темные очки она смотрела, как он засовывает полы своей пижамной куртки в брюки. Мануэль сказал ей: «Извините. Сколько вам налить?» Он думал, что ей нужен бензин, но она коротко объяснила, что не в порядке задние фонари и что она вернется за машиной через полчаса. Она взяла с сиденья белое летнее пальто и ушла.
– Вы принимаете меня за кого–то другого, – возразила дама. – Я была в Париже.
– Вот тебе и на! – сказал Мануэль. – Ни за кого другого, кроме как за вас!
– Вы могли спутать машины.
– Если уж я чинил машину, я ее не спутаю ни с какой другой, даже если они похожи как близнецы. Мадам, это вы принимаете Мануэля за кого–то другого. Больше того, могу вам сказать, что, закрепляя провода, я сменил винты и сейчас там стоят винты Мануэля, можете проверить.
Сказав это, он резко повернулся и направился к двери, но Болю удержал его за руку.
– Но ты ведь где–нибудь записал, что произвел ремонт?
– Знаешь, некогда мне заниматься всякой писаниной, – ответил Мануэль. И добавил, желая быть до конца честным:
– Сам понимаешь, стану я записывать два жалких винтика, чтобы Феррант заработал еще и на них!
Феррант был сборщиком налогов, жил в той же деревне, и по вечерам они вместе пили аперитив. Будь он сейчас здесь, Мануэль сказал бы то же самое и при нем.
– Но ей–то я дал бумажку.
– Квитанцию?
– Да вроде того. Листок из записной книжки, но со штампом, все как полагается.
Она смотрела то на Болю, то на Мануэля, поддерживая правой рукой свою вздувшуюся ладонь. Наверное, ей было больно. Не видя ее глаз, трудно было понять, что она думает и чувствует.
– Во всяком случае, есть один человек, который может это подтвердить.
– Если она хочет доставить вам неприятности, – сказал агент, – то ни ваша жена, ни дочь не могут выступить свидетелями.
– Оставьте мою дочь в покое, на черта мне еще ее впутывать в эту историю. Я говорю о Пако.
Пако были владельцами одного из деревенских кафе. У них обычно завтракали дорожные рабочие с шоссе на Оксер, и мать с невесткой вставали рано, чтобы обслужить их. Туда Мануэль и послал даму в белом костюме, когда она спросила, где можно перекусить в такое время. Он был настолько поражен, что женщина одна путешествует ночью, да еще в темноте едет в черных очках (тогда он не догадался, что она близорука и скрывает это), настолько поражен, что лишь в последний момент обратил внимание на повязку на ее левой руке, белевшую в сумраке занимающегося утра.
– Мне больно, – сказала дама. – Дайте мне уехать. Я хочу показаться врачу.
– Минутку, – остановил ее Мануэль. – Простите меня, но вы были у Пако, они это подтвердят. Я сейчас позвоню им.
– Это кафе? – спросила дама.
– Совершенно верно.
– Они тоже спутали.
Наступила тишина. Дама сидела не двигаясь и смотрела на мужчин. Если бы они могли видеть ее глаза, они прочли бы в них упорство, но они не видели их, и Мануэль вдруг окончательно поверил, что у нее не все дома, что она действительно не желает ему зла, просто она ненормальная. И он сказал ей ласковым голосом, удивившим его самого:
– Сегодня утром у вас на руке была повязка, уверяю вас.
– Но сейчас, когда я приехала сюда, у меня же ничего не было!
– Не было? – Мануэль вопросительно посмотрел на мужчин. Те пожали плечами. – Мы не обратили внимания. Но какое это имеет значение, если я говорю вам, что сегодня утром ваша рука была забинтована.
– Это была не я.
– Ну так зачем же вы снова приехали сюда?
– Не знаю. Я не снова приехала. Не знаю.
По ее щекам опять покатились две слезинки.
– Дайте мне уехать. Я хочу показаться доктору.
– Я сам отвезу вас к доктору, – сказал Мануэль.
– Не трудитесь.
– Я должен знать, что вы там ему наговорите. Надеюсь, вы не собираетесь причинять мне неприятности?
Она с раздражением мотнула головой: «Да нет же! – и поднялась. На этот раз они отступили.
– Вот вы говорите, будто я спутал, и Пако спутал, и все спутали, – сказал Мануэль. – Я никак не могу понять, чего вы добиваетесь.
– Оставь ее в покое, – вмешался Болю.
Когда они все вышли – впереди она, за нею агент по продаже недвижимости, затем Болю и Мануэль, – они увидели, что у бензоколонок собралось много машин. Миэтта, которая никогда не была слишком расторопной, буквально разрывалась между ними. Девочка играла с детьми на куче песка у шоссе. Увидев, что Мануэль садится вместе с дамой из Парижа в свой старый «фрегат», она, размахивая ручками, подбежала к нему. Личико у нее было в песке.
– Иди играй, – сказал ей Мануэль. – Я только съезжу в деревню и скоро вернусь.
Но девочка не ушла, а молча стояла у дверцы машины, пока он прогревал мотор. Она не спускала глаз с дамы, сидевшей рядом с Мануэлем.
Разворачиваясь у бензоколонки, Мануэль заметил, что агент и Болю уже рассказывают о происшествии собравшимся автомобилистам. В зеркальце машины было видно, что все они смотрят ему вслед.
Солнце зашло за холмы, но Мануэль знал, что скоро оно снова выкатится с другой стороны деревни и будет как бы второй закат. Чтобы прервать тягостное для него молчание, он рассказал об этом даме. «Верно, поэтому деревня и называется Аваллон–Два–заката». Но, судя по ее отсутствующему виду, она его не слушала.
Мануэль отвез ее к доктору Гара, кабинет которого находился на церковной площади. Доктор был старый, очень высокий и могучий как дуб человек, уже много лет носивший один и тот же шевиотовый костюм. Мануэль хорошо знал его, доктор был неплохим охотником, как и Мануэль, считал себя социалистом и иногда одалживал у Мануэля его «фрегат» для визитов к пациентам, когда у его малолитражки – переднеприводная модель, выпуск 48–го года – бывала «сердечная одышка», как он это называл. В действительности же, несмотря на многочисленные притирки клапанов, у нее уже не было ни сердца, ни каких–либо других органов и она не смогла бы своим ходом доехать даже до свалки.
Доктор Гара осмотрел руку дамы, заставил ее пошевелить пальцами, сказал, что, по его мнению, перелома нет, лишь повреждены сухожилия ладони, но он все–таки сделал рентгеновский снимок. Он спросил, как это произошло. Мануэль стоял в сторонке, у двери, потому что кабинет врача внушал ему такое же благоговение, как и церковь напротив, к тому же никто не предложил ему подойти поближе. После некоторого колебания дама коротко ответила, что это несчастный случай. Доктор бросил взгляд на правую руку.
– Вы левша?
– Да.
– Дней десять вы не сможете работать. Могу дать вам освобождение.
– Не нужно.
Он провел пациентку в другую комнату, выкрашенную в белый цвет, где находился стол для обследований, какие–то склянки и большой стенной шкаф с медикаментами. Мануэль прошел за ними до двери и остановился. На фоне белой стены резко очерчивалась высокая фигура дамы. Она спустила один рукав жакета, оголив левую руку, и Мануэль увидел ее обнаженное плечо, гладкую загорелую кожу, скрытую кружевным лифчиком упругую, высокую и довольно большую для такой худенькой женщины грудь. Он отвел глаза, не решаясь ни смотреть на даму, ни отойти от двери, ни даже сглотнуть слюну, он чувствовал себя глупо, и в тоже время – почему это? – его вдруг охватила глубокая грусть, да, да, глубокая грусть.
Гара сделал снимок, вышел, чтобы проявить его, и, вернувшись, подтвердил, что перелома нет. Сделав обезболивающий укол, он наложил на опухшую ладонь лубок и начал бинтовать, сначала пропуская бинт между пальцами, а потом туго обмотав им всю кисть, до самого запястья. Процедура длилась минут пятнадцать, и за это время никто из троих не произнес ни слова. Возможно, даме и было больно, но она этого не показывала. Она смотрела то на свою покалеченную руку, то на стену. Несколько раз она указательным пальцем правой руки поправляла за дужку сползавшие на нос очки. В общем, она выглядела не более ненормальной, чем кто–либо другой, скорее даже – менее, и Мануэль решил, что лучше и не пытаться понять ее.
Она никак не могла просунуть руку в рукав – он был слишком узок на конце, – и, пока доктор собирал свои инструменты, Мануэль помог ей, подпоров шов. На него пахнуло нежными, воздушными, как ее волосы, духами и еще чем–то горячим – это был аромат ее кожи.
Они вернулись в приемную. Пока Гара выписывал рецепт, дама, порывшись в сумочке, достала расческу и правой рукой пригладила волосы. Вынула она и деньги, но Мануэль сказал, что рассчитается с доктором сам. Она пожала плечами – не от раздражения, а от усталости, это он понял, – и сунула в сумку деньги и рецепт.
– Когда я себе это сотворила? – спросила она.
Гара удивленно посмотрел на нее, потом перевел взгляд на Мануэля.
– Она спрашивает, когда она покалечилась.
Это совсем сбило Гара с толку. Он разглядывал сидевшую перед ним молодую женщину так, словно только сейчас увидел ее.
– Разве вы этого не знаете? Она не ответила ему ни словом, ни жестом.
– Но я полагаю, что вы обратились ко мне сразу же, не так ли?
– А вот этот мсье утверждает, будто сегодня утром это уже было, – сказала она, подняв забинтованную руку.
– Весьма вероятно. Но ведь вы–то сами должны знать!
– Но могло быть и утром?
– Конечно! Она встала, поблагодарила. Когда она уже была в дверях, Гара, удержав Мануэля за рукав, вопросительно посмотрел на него. Мануэль беспомощно развел руками.
Он сел за руль, чтобы отвезти даму к ее «тендерберду», и с недоумением подумал, что же она теперь будет делать. Пожалуй, она могла бы вернуться домой поездом и прислать кого–нибудь за машиной. Темнело. Перед глазами Мануэля все еще стояло ее обнаженное загорелое плечо.
– Вы не сможете вести машину.
– Смогу.
Она посмотрела ему прямо в глаза, и, прежде чем она раскрыла рот, он уже знал – так ему и надо! – что она скажет.
– Я ведь неплохо вела ее сегодня утром, когда вы меня видели? А ведь с рукой у меня было то же самое, не правда ли? В таком случае, что же изменилось?
До самой станции техобслуживания они больше не обмолвились ни словом.
Миэтта уже зажгла фонари. Она стояла на пороге конторы и смотрела, как они вылезают из «фрегата».
Дама пошла к своей машине, которую кто–то, видимо Болю, отвел в сторону от бензоколонки, бросила на сиденье сумочку и села за руль. Мануэль увидел, что из–за дома выбежала его дочка и внезапно остановилась, глядя на них. Он подошел к «тендерберду», мотор которого уже был включен.
– Я не заплатила за бензин, – сказала дама.
Он уже не помнил, сколько она ему должна, и назвал цену наугад. Она протянула ему пятидесятифранковую бумажку. Он не мог отпустить ее так, тем более при девочке, но слова не шли ему на ум. Дама повязала голову косынкой, включила габаритные огни. Ее била дрожь. Не глядя на него, она сказала:
– А все–таки сегодня утром это была не я.
Голос ее звучал глухо, напряженно, в нем слышалась мольба.
И в то же мгновение, глядя на нее, он понял, что, конечно же, именно ее он видел сегодня на рассвете. Но какое это имело значение теперь? И он ответил:
– Право, я уже не знаю. Может, я и ошибся. Каждый может ошибиться.
Она, должно быть, почувствовала, что он и сам не верит тому, что говорит. За его спиной Миэтта крикнула по–баскски, что его уже три раза вызывали по телефону на место какой–то аварии.
– Что она говорит?
– А–а, ничего особенного. Вы сможете с повязкой вести машину?
Она кивнула головой. Мануэль протянул ей в дверцу руку и тихо, скороговоркой сказал:
– Прошу вас, попрощайтесь со мной по–хорошему, это ради моей дочки, ведь она смотрит на нас.
Дама повернулась к девочке, которая неподвижно стояла в нескольких шагах от них, под фонарями, в своем фартучке в красную клетку, с грязными коленками. Мануэль был потрясен тем, как быстро эта женщина все поняла и вложила свою правую руку в его. Но еще больше его потрясла внезапная, впервые увиденная им на ее лице улыбка. Она ему улыбалась. Улыбалась, хотя ее бил озноб. Мануэлю очень захотелось сказать ей в благодарность что–то необыкновенное, что–нибудь очень хорошее, чтобы снять неприятный осадок от этой нелепой истории, но он не смог ничего придумать, кроме одного:
– Ее зовут Морин.
Дама нажала на акселератор, выехала с дорожки и повернула в сторону Солье. Мануэль сделал несколько шагов к шоссе, чтобы подольше не терять из виду два удаляющихся слепящих красных огня. Морин подошла к нему, он взял ее на руки и сказал:
– Видишь огоньки? Вон они, видишь? Ну так вот, они не горели, и их починил Мануэль, твой папа!
Рука у нее не болела, вообще ничего не болело, все в ней словно оцепенело. Ей было холодно, очень холодно в машине с откинутым верхом, и от этого она тоже цепенела. Она смотрела прямо перед собой, на самый яркий участок освещенного фарами пространства, чуть впереди той мглистой полосы, где сами фары уже тонули во мраке ночи. Когда появлялись встречные машины, ей приходилось тратить полсекунды на то, чтобы переключиться на ближний свет, и эти полсекунды она удерживала руль только тяжестью своей забинтованной левой руки. Она ехала осторожно, но упорно не снижала скорости. Стрелка спидометра все время держалась около сорока миль, во всяком случае, она касалась большой металлической цифры «четыре». Пока она не замедлила ход, еще ничего не потеряно. Руль не поворачивался ни на йоту. Париж понемногу уходил все дальше и дальше, и вообще было слишком холодно, чтобы раздумывать, и это хорошо.
А уж она–то знала, что значит терять. Вы считаете, что любите кого–то или дорожите чем–то, и вот в одно мгновение, когда едва успеваешь почувствовать, что стрелка отклонилась от «четверки», ощутить усталость, вздохнуть, сказать себе: «Я не способна ни к кому привязаться, не способна по–настоящему увлечься кем–то», – как дверь вдруг захлопывается, вы мечетесь по улицам, и, сколько бы вы потом ни обливались горючими слезами, как бы долгими месяцами ни пытались вычеркнуть это из своей памяти, вы потеряли, потеряли, потеряли.
Темные пятна, освещенные пятна, петляющая на спуске дорога, вырисовывающаяся на фоне неба церковь–это и есть Солье. Она проехала по одной улице, по другой, потом внезапно остановила машину меньше чем в метре от серой стены церкви. Выключив зажигание, она положила голову на руль и наконец дала себе волю. Глаза у нее оставались сухими, но в груди клокотали рыдания, и, хотя она не пыталась удержать их, они никак не могли вырваться наружу и лишь вызвали у нее какую–то странную икоту. Посмотри на себя: губы прижаты к повязке, волосы спадают на эти проклятые совиные очки… Вот теперь ты такая, какая есть на самом деле, в твоем распоряжении только правая рука и измученное сердце, но ты не отступай, не задавай себе лишних вопросов, не отступай.
Она позволила себе посидеть так несколько минут – три–четыре, а может, и меньше, – потом решительно откинулась на спинку сиденья и сказала себе, что мир велик, жизнь вся впереди и вообще она хочет есть, пить и курить.
Над ее головой было ясное ночное небо. На карте, которую она в любую минуту могла достать здоровой рукой, по–прежнему красовались такие названия, как Салон–де–Прованс, Марсель, Сен–Рафаэль. Бедная моя девочка, ты типичная шизофреничка. Да, я шизофреничка. Шизофреничка, которая дрожит от холода.
Она нажала на кнопку, и верх машины, как по волшебству, поднялся над ней, закрыв небо и звезды, отгородив ее, Дани Лонго, от всего мира. Вот так в детстве, в приютской спальне, они сооружали из простынь шалашики, создавая свой маленький мирок. Она закурила сигарету, с удовольствием затянулась, у нее защипало в горле, как тогда, когда в пятнадцать лет она в этих шалашиках курила свои первые сигареты – затянувшись по разу, они передавали их друг другу, а потом надрывались от кашля, в то время как подлизы–любимчики надзирательницы шипели: «Тише, тише!». Вспыхивал свет, влетала надзирательница в рубахе из грубого полотна, нахлобучив что попало – лишь бы прикрыть! – на свою бритую голову, и принималась направо и налево раздавать тумаки, но больно от этого было только ей самой, потому что все подтягивали колени к подбородку и выставляли вперед локти…
Мимо нее прошли какие–то люди – гулко раздался звук их шагов по мостовой, – потом она услышала бой часов: половина. Половина чего? Если верить часам на щитке «тендерберда – половина девятого. Дани зажгла свет – в ней все вспыхивает, в этой машине, нельзя нажать ни на одну кнопку, чтобы тебя тут же не ослепило, – и обшарила ящичек для перчаток, наскоро еще раз просмотрев бумаги, которые она уже смотрела несколько часов назад.
Квитанции за ремонт, произведенный на станции техобслуживания в Аваллоне–Два–заката, она не нашла. Впрочем, она и не ожидала ее найти.
Она вывалила на соседнее сиденье содержимое своей сумки. Тоже ничего. И тут ей стало не по себе. Зачем она все это делает? Ведь она–то прекрасно знает, что никогда ноги ее не было у этого человечка с баскским акцентом.
Тогда зачем? Она снова запихнула все в сумку. Сколько американских легковых машин проехало за день по автостраде Париж – Марсель? Наверняка несколько десятков, а может, и за сотню. Сколько женщин в июле одевается в белое? Сколько из них – о Боже мой! – носят темные очки? Если бы не покалеченная рука, все это было бы просто смешным.
Кстати, владелец станции техобслуживания только и делал, что врал. А вот то, что ей покалечили руку, – это правда, тут уж ничего не скажешь, вот она, перед ее глазами, забинтованная, и объяснение этому Дани видит только одно, во всяком случае, она не может найти иного: кто–то из автомобилистов, а может, и сам хозяин станции, вошел вслед за нею в туалет, чтобы ограбить ее или еще с какой–то целью, хотя в последнее ей что–то не верится. Впрочем, разве тогда, в кабинете врача, когда она спустила рукав своего жакета, ей померещился его взгляд – омерзительный и в то же время жалкий? Да, так вот, она, наверное, стала вырываться, он почувствовал, что ломает ей руку, и испугался. А потом, чтобы отвести подозрение от себя и от своих приятелей, в конторе принялся плести невесть что. А рюмка коньяку на столе? А угрозы краснолицего толстяка? Они прекрасно видели, что она в панике, и воспользовались этим. И конечно, хотя они и не знали, что машина не ее, они все же догадались, что есть какая–то причина, мешающая ей вызвать полицию, как она должна была бы сделать.