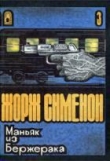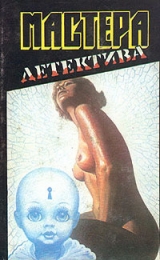
Текст книги "Мастера детектива. Выпуск 1"
Автор книги: Агата Кристи
Соавторы: Жорж Сименон,Себастьян Жапризо,Джон Ле Карре
Жанр:
Классические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 43 (всего у книги 46 страниц)
Ты же прекрасно знаешь, где я живу». Она живет на авеню Моцарта, авеню М–О–Ц–А–Р–Т–А, да и вообще, если бы Мишель Каравей привел меня к ним печатать на машинке, она бы меня увидела, она бы об этом знала. «Умоляю тебя, Дани, скажи мне, что происходит».
Мне кажется, что сквозь слезы, сквозь икоту, которая не давала мне говорить, я засмеялась. Да, засмеялась, это был смех, хотя и несколько странный. Теперь уже она была потрясена, она кричала: «Алло! Алло! – и я слышала ее прерывистое дыхание на том конце провода.
– Дани, где ты? Боже мой, умоляю, скажи хотя бы, где ты?
– В Вильневе–лез–Авиньон, Анита, послушай, я тебе все объясню, не волнуйся, мне кажется, все обойдется, я…
– Где ты, повтори, где?
– В Вильневе–лез–Авиньон, департамент Воклюз. В одном доме.
– Боже мой, но как… Дани, в каком доме? С кем ты? Как ты узнала, что я в Женеве?
– Наверное, слышала на работе. Сама не знаю. Наверное слышала.
– Скажи, есть кто–нибудь рядом с тобой, передай ему трубку.
– Нет, никого нет.
– Боже мой, но ты же не можешь оставаться одна в таком состоянии! Я не понимаю. Дани, я ничего не понимаю.
Я почувствовала, что теперь плачет и она. Я попыталась ее успокоить, сказала, что, после того как я услышала ее голос, мне стало легче. Она мне ответила, что Мишель Каравей с минуты на минуту вернется в гостиницу, он что–нибудь придумает, как мне помочь, они мне позвонят. Может быть, она прилетит ко мне самолетом. Она взяла с меня слово, что я никуда не уйду и буду ждать их звонка. У меня и в мыслях не было ждать кого бы то ни было, но я все же пообещала ей не уходить и, когда повесила трубку, с истинным облегчением вспомнила, что Анита от волнения даже не спросила у меня номер телефона, куда мне звонить, и не будет знать, как меня найти.
Освещенный прямоугольник–дверь в прихожую. Я в темноте. Время растянулось, как старая негодная пружина. Я знаю, что время может растягиваться, я хорошо это знаю. Когда я потеряла сознание на станции техобслуживания в Аваллоне–Два–заката, сколько это длилось? Десять секунд?
Минуту? Но эта минута была такой долгой, что действительность растворилась в ней.
Да, именно тогда, когда я, придя в себя, стояла на коленях на плитках поля, и началась ложь. Я рождена для лжи. И нет ничего удивительного в том, что наступил день, когда я сама стала жертвой своей самой отвратительной лжи.
Что произошло в действительности? Я, Дани Лонго, преследовала любовника, который меня бросил. Я послала ему телефонограмму, содержащую угрозу. Через сорок минут после того, как он сел в самолет, я полетела за ним. Я настигла его здесь, в этом доме, когда он уже взял в гараже свою отремонтированную машину. Между нами вспыхнула ссора, я схватила одно из ружей, стоявших здесь в специальной подставке. И выпустила из него три пули в этого человека, две из которых попали ему прямо в грудь. Потом, насмерть перепуганная, я была одержима лишь одной мыслью: подальше увезти труп, спрятать его, уничтожить. Я подтащила его к багажнику машины, обернула в коврик и почти в невменяемом состоянии всю ночь напролет гнала машину по автостраде в сторону Парижа. В Шалоне–сюр–Сон я попыталась несколько часов поспать в гостинице. На дороге меня остановил жандарм за то, что у меня не горели задние фонари. В кафе у шоссе на Оксер я забыла свое пальто. Наверное, из этого кафе я и звонила Бернару Тору. В дальнейшем, по–видимому, в моих планах что–то изменилось, так как я не знала, как мне избавиться от трупа, и, кроме того, поняла, что все равно, когда труп обнаружат, разыскать меня не представит труда. Усталостью и страхом доведенная почти до безумия, я повернула обратно. Левая рука у меня уже тогда была покалечена. Скорее всего, это произошло во время ссоры с моей жертвой. Я вернулась на станцию техобслуживания, где уже была утром, вернулась, возможно, без всякой цели, как автомат, который все время делает одно и то же, не в силах делать что–либо другое. Там, около умывальника, из крана которого текла вода, что–то внезапно оборвалось во мне и я потеряла сознание. И вот здесь–то и началась ложь.
Когда я открыла глаза – через десять секунд или через минуту? – У меня в голове были одни лишь варианты алиби, которые я придумывала в течение всей последней ночи. Видимо, я с такой силой, с таким отчаянием хотела, чтобы реальная действительность оказалась не правдой, что она и в самом деле перестала для меня существовать. Я ухватилась за бессмысленную, сочиненную от начала до конца легенду. Какие–то детали, созданные моим воображением, переплелись с деталями реальной действительности: освещенный экран, кровать, покрытая белым мехом, фотография обнаженной женщины–все это существовало. Но самого Мориса Коба и все, что связано с ним, я начисто отмела и с логикой безумца пыталась чем–то заполнить эту пустоту.
Одним словом, опять, как и всегда, когда я оказывалась перед лицом событий, которые были мне не по плечу, я спасалась от них бегством, но, поскольку больше мне бежать было некуда, я, точно страус, засунула голову под собственное крыло.
Да, я сама знаю, все это похоже на меня.
Но кто же такой Морис Коб? Почему он не пробуждает во мне никаких воспоминаний, если уж сейчас я готова согласиться, что все это произошло в действительности? На одной из фотографий, которые я нашла наверху и разорвала, на мне блузка, которую я не ношу уже года два. Значит, Морис Коб знал меня уже давно. Вероятно, я была в его доме не один раз – об этом свидетельствуют мои вещи, которые я здесь оставила, об этом говорила светловолосая девушка, что живет напротив. И потом, если я разрешала этому человеку фотографировать меня в таком виде, значит, у нас были близкие отношения, и это нельзя так просто выкинуть из головы, вычеркнуть из жизни. Нет, я ничего не понимаю.
Но что, собственно говоря, я должна понять? Я знаю, что существует болезнь–безумие. Я знаю, что такие больные не осознают, что они потеряли разум. Вот и все. Мои знания ограничиваются чтением по диагонали женского журнала да философским курсом лицея, который уже давным–давно выветрился из моей головы. Я не в силах объяснить себе, путем какой аберрации я пришла к таким выводам, но, во всяком случае, то, как я представляю себе все, наверное, не так уж далеко от истины.
Кто такой Морис Коб?
Надо встать, зажечь повсюду свет и тщательно осмотреть дом.
Я подошла к окну. Раздвинула шторы. И вдруг почувствовала себя еще более уязвимой: я оставила ружье на диване. Какая нелепость, кто может появиться здесь в такой поздний час? На дворе уже почти ночь, светлая ночь, которую кое–где прорезают мирные огоньки. Впрочем, кто меня ищет?
Только я сама. Цюрих. Все вокруг белое. Вот так–то. Тогда я тоже хотела умереть. Я сказала доктору: «Убейте меня, прошу вас, убейте». Он этого не сделал. Если в течение многих лет живешь с уверенностью, что ты преступник, то в конце концов привыкнешь к этой мысли и теряешь разум.
Наверное, в этом все дело.
Когда умерла Матушка, меня оповестили слишком поздно, и я опоздала на похороны, а одна из монахинь сказала мне: «Ведь надо было предупредить и других бывших воспитанниц, вы же не единственная». В тот день я перестала быть единственной для Матушки и никогда уже не была единственной ни для кого. А ведь я могла бы стать единственной для одного маленького мальчика.
Не знаю почему – врачи мне ничего не сказали, – но я всегда была уверена, что ребенок, которого я носила в себе, был мальчик. Я храню его образ в своем сердце, как будто он продолжает жить. Сейчас ему три года и пять месяцев. Он должен был родиться в марте. У него черные глаза отца, его рот, его манера смеяться, мои светлые волосы и широкий просвет между двумя передними верхними зубами, как у меня. Я знаю его походку, манеру говорить, и я продолжаю, все время продолжаю его убивать.
Я не могу больше оставаться одна.
Надо выйти отсюда, убежать из этого дома. Мой костюм совсем грязный. Я заберу свое пальто, которое должен привезти Жан Ле Гевен. Пальто прикроет грязь. Я присвою эту машину, я поеду прямо к итальянской или испанской границе, я удеру из Франции и, воспользовавшись оставшимися у меня деньгами, уеду как можно дальше… Надо ополоснуть лицо холодной водой…
Матушка была права, мне следовало забрать из банка все деньги и сразу удрать. Матушка всегда права. Сейчас я была бы уже далеко от всего этого.
Который час? Мои часы стоят. Надо причесаться.
Я вышла, включила фары машины и взглянула на приборный щиток: больше половины одиннадцатого. Рекламная Улыбка, должно быть, уже ждет меня. Я знаю, что он будет меня ждать. Я поехала по асфальтовой дорожке. Ворота так и остались раскрытыми. Внизу светились огни Авиньона. Ветерок, обвевавший меня, доносил шум праздничного гулянья. Трупа в машине уже нет, не так ли? Да, нет. Кстати, нужен ли паспорт, чтобы пересечь испанскую границу? Надо добраться на машине до Андалузии, сесть на теплоход, идущий к Гибралтару. Красивые названия, новая жизнь где–то далеко–далеко. На этот раз я покидаю самое себя. Навсегда.
Жан Ле Гевен уже ждет меня. Поверх рубашки на его плечи накинута кожаная куртка. Он сидит в пивном баре за мраморным столиком. На табуретке, рядом с ним, лежит пакет, завернутый в коричневую бумагу. Пока я иду к нему через зал, он смотрит на меня и улыбается. Никого не беспокоить больше. Держаться бодро.
– Вы не сменили повязку?
– Нет. Не нашла врача.
– Что вы делали? Расскажите. Были в кино? Хорошая картина?
– Да. А потом прогулялась по городу.
Я держусь молодцом. А он за это время вместе с Маленьким Полем загрузил пять тонн ранних овощей. Немецкие туристы, которые привезли мое пальто, подкинули его на своей машине сюда, к вокзалу. Он записал их адрес, на днях заскочит к ним и еще раз поблагодарит. Они едут на Корсику. Там красотища, на этой Корсике, столько пляжей. Он сидит напротив меня и наблюдает за мной своими доверчивыми глазами. Он поедет поездом в 11:05 и в Лионе встретится с Маленьким Полем. Так что, к сожалению, у него всего четверть часа.
– Вам столько хлопот из–за меня.
– Если бы я не хотел, я бы не стал ничего делать. Наоборот, я очень рад, что вижу вас. Знаете, в Пон–Сент–Эспри, когда мы ворочали ящики, я все время думал о вас.
– Мне уже лучше. Все в порядке.
Он подмигнул мне и отхлебнул глоток пива. Потом попросил сесть рядом с ним на табурет. Я села. Он положил свою ладонь мне на плечо и, тихонько сжав его, спросил:
– У вас есть друзья, ну, кто–нибудь, кому вы можете сообщить?
– О чем сообщить?
– Не знаю. Обо всем этом.
– У меня нет никого. Единственного человека, которого бы я хотела сейчас видеть, я позвать не могу.
– Почему?
– У него жена, своя жизнь. Я уже давно поклялась себе оставить его в покое.
Он развернул лежащий на табурете пакет, вынул из него аккуратно сложенное мое белое пальто и протянул мне.
– Может, вы сами что–то напутали с субботой, – сказал он, – это бывает от усталости. Вот я как–то ночью проспал всего два часа и потом, вместо того чтобы ехать в Париж, покатил в обратную сторону. У меня напарником тогда был Батистен. Когда он проснулся, я уже успел отмахать километров сто. И упрямо уверял его, будто мы уже побывали в Париже. Еще немножко, и он расквасил бы мне физиономию, чтобы навести порядок в моей башке. Вы не хотите выпить чего–нибудь?
Я не хочу ничего пить. Я обнаруживаю в кармане своего пальто авиабилет «Эр–Франс», конфетно–розового слоника на шарнирах, пятьсот тридцать франков в фирменном конверте для жалованья, квитанцию из авиньонского гаража, еще какие–то бумажки, которые явно имеют отношение ко мне.
Рекламная Улыбка смотрит на меня, и, когда я поднимаю глаза, чтобы поблагодарить его и подтвердить, что все это в самом деле принадлежит мне, я читаю в его взгляде дружеское беспокойство и внимание. И в ту самую минуту, перекрывая гвалт бара, перекрывая стук моего сердца, до меня доносится – такой ужасный и такой чудесный – голос Матушки.
И Матушка сказала мне, что я не убивала Мориса Коба, что я не сумасшедшая, нет, Дани, нет, все, что я пережила, было на самом деле, это не плод моей фантазии, и я правда впервые в жизни провожу вечер в этом городе, где все вдруг словно озарилось ярким светом, где победно запели трубы. Истинный ход событий последних двух дней предстал передо мной с такой ясностью, что я даже вздрогнула. Мысли в моей голове так быстро сменяли одна другую, что, должно быть, даже лицо мое преобразилось.
Рекламная Улыбка удивлен и тоже счастливо улыбается:
– О чем вы думаете? Что вас так обрадовало? А я не знаю, как ему объяснить. И тогда я неожиданно целую его в щеку и своей покалеченной рукой крепко жму ему руку. Боль пронизывает меня. Но мне не больно. Мне хорошо. Оковы спали. Или почти спали. Улыбка застывает на моем лице. Меня осеняет еще одна мысль, такая же ошеломляющая, как и все остальное: а ведь за мной следят, и сейчас с меня тоже не спускают глаз, за мной должны были шпионить от самого Парижа, иначе все рушится.
«Дани, родная моя, – говорит мне Матушка, – есть надежда, что тебя потеряли из виду, иначе ты уже была бы мертва. Тебя хотят убить, неужели ты не понимаешь?»
Надо оградить от опасности Рекламную Улыбку.
– Может, пойдем? Я вас провожу. Как бы вам не опоздать на поезд.
Мое пальто, которое он помогает мне надеть. Моя сумка – я раскрываю ее, чтобы удостовериться, что я не ошиблась. Нет, теперь я не ошибаюсь. Мною овладевает страх, но уже иной страх.
На улице Рекламная Улыбка доверчиво обнимает меня, и я не могу отделаться от мысли, что подвергаю опасности и его. Я невольно оглядываюсь. Сначала бросаю взгляд в сторону «тендерберда», который я поставила у бара, потом вдоль этой бесконечной, сейчас ярко расцвеченной огнями улицы, по которой я проезжала сегодня днем.
– Что с вами?
– Ничего. Просто смотрю. Ничего.
Я обняла его левой рукой за талию, он засмеялся. И вот – вестибюль вокзала. Перронный билет. Подземный переход. Платформа. Я все время оборачиваюсь. Незнакомые люди, озабоченные своими делами. По радио объявляют поезд Рекламной Улыбки. Издали доносится танцевальная музыка. Он стоит передо мной, держит меня за руку и говорит:
– Знаете, что мы сделаем? Завтра вечером я буду в Париже, в гостинице, где всегда останавливаюсь, это на улице Жана Лантье. Обещайте, что вы мне позвоните.
– Обещаю.
– Моя кепка у вас? Кепка лежит у меня в сумке. Рекламная Улыбка шариковой ручкой записывает номер телефона на кепке, на внутренней стороне околыша, и возвращает ее мне. За моей спиной раздается свисток поезда, вагоны с грохотом, от которого чуть не лопаются барабанные перепонки, плывут вдоль платформы. Рекламная Улыбка что–то говорит мне, кивает головой, хватает меня за плечи и крепко сжимает их своими ручищами. И все.
И в то время как он уходит из моей жизни и, высунувшись из окна вагона, машет мне рукой, смуглый, улыбающийся такой чудесной улыбкой, уже далекий, уже потерянный для меня, я вдруг вспоминаю, что дала себе слово помочь ему и его другу Лавантюру стать миллиардерами. «Не потеряй кепку, – сказала мне Матушка. – И потом, если ты хочешь разрушить то, что задумали против тебя, не теряй зря времени».
Стоя на тротуаре около вокзала, я прежде всего достала билет на тот самолет, на котором я никогда не летала. Оглядываясь по сторонам, я рву его на мелкие клочки. Чтобы подбодрить себя, я твержу, что мой след давно уже потерян, но я убеждена в обратном. Мне даже кажется, будто я чувствую на себе чей–то неподвижный, беспощадный взгляд.
И снова «тендерберд», в последний раз. «Не возвращайся туда», – умоляет Матушка. Я проезжаю по иллюминированным улицам, по площадям, на которых идут праздничные гулянья. Придется снова спросить дорогу на Вильнев. В зеркальце машины я наблюдаю за автомобилями, которые едут сзади. Музыка и толпа действуют на меня успокоительно. Пока я среди людей, мне ничто не угрожает, в этом я уверена.
В Вильневе тоже танцы. Я останавливаюсь у того же бистро, где была днем. Там я покупаю большой конверт из простой бумаги и почтовую марку.
Затем возвращаюсь в машину и среди праздничной суматохи пишу несколько слов на случай, если я умру. Заклеив конверт, я адресую его себе, на улицу Гренель. На площади я опускаю его в почтовый ящик. Мне страшно, но сквозь толпу никто за мной не крадется.
Бесконечное шоссе Аббей, поворот за поворотом. Но теперь я неотступно вижу за собой две фары. Ворота все еще раскрыты. Я останавливаюсь в аллее.
Тушу огни. Фары проплывают мимо и удаляются. Я жду, пока мое сердце перестанет бешено стучать. Еду по аллее дальше. Останавливаюсь у дома – в нем темно. Проверяю, не оставила ли что–нибудь из своих вещей в машине.
Тщательно вытираю косынкой руль и приборный щиток. Я покидаю Стремительную птицу с таким же щемящим чувством, с каким уезжала на ней из Орли, – горло сжимается, я с трудом двигаюсь. «Не ходи туда. Дани, не ходи! – умоляет Матушка. Но я должна пойти, я должна хотя бы сорвать со стены фотографию, забрать свои вещи. Я вхожу. Зажигаю в прихожей свет. Сейчас уже не так страшно. Закрываю за собой дверь. Даю себе пять минут на то, чтобы привести все в порядок и уйти. Перевожу дыхание.
В тот момент, когда я готова переступить порог комнаты, где находится кожаный диван, я слышу какой–то шорох. Я не кричу. Даже если бы я захотела крикнуть, ни один звук не вырвался бы из моей груди. Свет горит у меня за спиной. Впереди – огромная черная яма. «Ружье, – напоминает мне Матушка. – Ты оставила его на диване. Если он не зажигал света, то он его еще не заметил».
Парализованная, онемевшая, я застываю на месте, мои ноги словно налились свинцом. Снова шорох, уже гораздо ближе. «Дани, Дани, ружье! – кричит Матушка. Я тщетно пытаюсь вспомнить, в каком углу стоит диван. Я бросаю на пол сумочку, чтобы освободить здоровую руку. Совсем рядом я слышу чье–то дыхание, прерывистое дыхание загнанного зверя. Я должна достать…
РУЖЬЕ
Я сел в свою машину. Поехал в квартал Монморанси. Дом был незнаком мне.
Дверь открыла Анита. Она плакала. Она сказала, что выстрелила из ружья в одного человека. Сказала, что, возможно, он еще жив, но у нее не хватит смелости посмотреть. Я спустился в подвал. Он был оборудован под тир. Там висели пробковые мишени. Тяжелым шагом я шел по подвалу. Я ведь вообще человек тяжеловесный. Я хожу, как и разговариваю. Все принимают это за уверенность. Но дело не в том, просто в таком темпе течет в моих жилах кровь.
Я увидел лежащего на полу мужчину и рядом с ним – ружье. Я хорошо разбираюсь в оружии. Когда–то сам слыл недурным охотником. Это был винчестер калибра 7,62 мм с нарезным стволом. Начальная скорость пули – более семисот метров в секунду. Значит, он не мог быть жив. Если бы одна из попавших в него пуль угодила ему в голову, она бы снесла ее начисто.
Прежде всего я осмотрел ружье. Я потерял всякую надежду, нормальная жизнь не вернется. Да я уже и не знаю, что такое нормальная жизнь. Если бы Анита стреляла из автоматического оружия, я тотчас бы вызвал полицию. Мы заставили бы их поверить в несчастный случай. Но на винчестере затвор переводится с помощью спусковой скобы. Ее нужно передергивать перед каждым выстрелом. Вы, должно быть, видели это в ковбойских фильмах, Дани. Вы, должно быть, видели, как красавец киногерой наповал косит краснокожих. И Анита тоже видела и потому, верю, справилась с затвором. Она выстрелила три раза. В несчастный случай никто не поверит.
Я посмотрел убитого. Я знал его. Его звали Морис Коб. Мы не раз встречались на приемах. У него в двух местах оказалась прострелена грудь.
Я распахнул его халат, чтобы взглянуть на раны. Анита стреляла в упор.
Осмотревшись, я увидел, куда попала третья пуля – на бетонной стене рядом с трупом виднелась маленькая черная черточка. В углу я нашел кусочек расплющенного свинца. Я положил его себе в карман.
Анита продолжала плакать, все время как–то нелепо икая. Я спросил, почему она убила этого человека. Она ответила, что уже много лет была его любовницей, а теперь он отверг ее. Она знала его еще до нашей женитьбы. Я ударил Аниту по лицу. Она отлетела к стене. Красное платье и нижняя юбка задрались ей на голову, и она трясла ею, чтобы высвободиться. Я увидел ее обнаженные ноги у края трусиков. Это привело меня в еще большее бешенство.
Я схватил ее одной рукой за волосы, а другой за платье, поставил на ноги и снова ударил. Она умоляла о пощаде. Я опять поднял ее и ударил наотмашь. Я долго смотрел, как она лежит у моих ног, уткнувшись лбом в пол. Даже в полуобморочном состоянии она продолжала плакать. Я взял ее под мышки и заставил подняться по лестнице. Из носа у нее текла кровь. Так я дотащил ее до комнаты, где вы потом печатали на машинке. Втолкнул в кресло и открыл дверь в соседнюю комнату, чтобы принести воды. Там, на стене, я увидел фотографию обнаженной Аниты. Я долго плакал, прислонившись к этой стене. Я думал о своей маленькой дочке. Вся моя жизнь в ней. Вы должны понять меня, Дани. С тех пор как она родилась, я наконец познал безграничную, безраздельную привязанность, совершенно фанатическую, познал всепоглощающее чувство. И, чтобы защитить прежде всего свою дочь, Дани, я решил убить вас. Это главное, что вы должны понять, в этом вся суть.
Мой выбор объясняется тем, что я знаю о вас. Я наблюдаю за вами гораздо дольше, чем вы думаете. Я наблюдаю за вами с того самого дня, когда впервые увидел вас, – вы пришли в агентство подписать контракт. Мне помнится – хотя, может, я и ошибаюсь, – на вас было очень светлое золотистого цвета платье, как ваши волосы. Вы показались мне красивой, даже волнующей. Я вас ненавидел. Ведь я очень осведомленный рогоносец, Дани. Мне известны все «забавы» моей жены до нашей свадьбы в той квартирке на улице Гренель, куда я вместе с вами поднялся в пятницу вечером. Мне известно все о тех молодчиках, постройнее и посмазливее меня, для которых она раскорячивалась, и даже о том, что однажды двое подонков развлекались с нею на вашей постели на пару и сумели довести ее до экстаза, чего мне от нее никогда не добиться. Хотя она призналась мне в этой гнусности много позже, под тумаками, как она в конце концов всегда во всем признается. Я знал, что вы предоставляли Аните свою квартиру и этим способствовали ее падению. И тем ненавистнее был мне ваш вид добропорядочной девушки, которой нечего стыдиться. Для меня вы являлись постоянным напоминанием о том, что мне хотелось забыть, вы неизменно присутствовали в тех моих чудовищных сновидениях, которые порождали мою ревность. Вы были для меня монстром.
Я всегда украдкой наблюдал за вами, Дани. Тайком, но жадно.
Я смотрел, как вы орудуете левой рукой. Мне всю жизнь казалось, что левши сумасшедшие, злые и скрытные, как и те, кто грызет ногти. Вы, должно быть, при встречах со мной страшно потешались в душе, вспоминая о тех подонках, которые переспали с Анитой, о тех мерзостях, к которым они ее склоняли. И я сходил с ума. Она, конечно же, продолжала изменять мне, и вы, вероятно, об этом знали. Она, несомненно, рассказывала вам о любовных утехах, как они разнообразны, и говорила, что в этих делах я просто щенок, толстый неумелый щенок. У меня не было власти над вами, но я мечтал, чтобы вас тоже втоптали в грязь, чтобы исчезла наконец удивительная гармония ваших черт, ваших слов, вашей походки.
О той отвратительной истории, перед которой меркнет все остальное, я узнал в прошлом году. Как–то поздно вечером мы с Анитой встретили в ресторане одного молодого человека ее возраста, хилого и самовлюбленного, как все они. С тех пор как я женился на Аните, я ненавижу всех молодых мужчин. Я без малейших угрызений совести передушил бы их собственными руками, если бы мог сделать это безнаказанно. Всех до единого. Или же заставил бы остальных мужчин относиться к ним как к публичным девкам. Для меня нет большей радости, чем узнать, что какой–нибудь актер, которого Анита или самая глупейшая машинистка из агентства считает неотразимым, оказался жалким педерастом. Я убежден, что актеры все таковы, ведь они добровольно становятся всеобщим достоянием. Увидев этого парня, Анита побелела. Рука, которую она протянула ему, дрожала, и голос ее, когда она сказала ему несколько слов, тоже дрожал. Мы начали ужинать. Он сидел с компанией за другим столиком, и я видел, как он смеялся, ерзал на своем стуле, то и дело исподтишка бросая взгляд в нашу сторону, на Аниту.
Оставив ужин почти нетронутым, я расплатился. Отвел Аниту в машину, которая стояла на улице Кантена Бошара, почти напротив кино, где мы перед этим смотрели веселую картину для грустных людей, и там избил ее. Она рассказала мне о том майском вечере, еще до нашей женитьбы, когда она напилась вместе с вами и двумя молодыми людьми – один из них был этот самый тип из ресторана. Она рассказала мне, что, выйдя ночью из очередного кабака, вы все отправились на вашу квартиру, чтобы выпить еще по стаканчику. Рассказала, как в то время, как она с уже задранной юбкой миловалась с одним мерзавцем – не с тем, что был в ресторане, а с другим, – этот домогался того же от вас. Как вы обругали ее, убежали из собственной квартиры, бросив ее там одну. Она твердила сквозь рыдания, и я знал, что она не лжет: «Я совсем потеряла голову, я не соображала, что делаю. Дани не пьет, не путается с мужчинами, она кичится своей добродетелью, тем, что ей никто не нужен, и предает тебя при первом же случае. Она ни на миг не задумалась обо мне, понимаешь, просто ушла, а я была пьяна, вдребезги пьяна». Я отправил Аниту домой на такси, а сам вернулся в ресторан. Парень был еще там. Я дождался его на улице и своей обычной неторопливой походкой пошел метрах в ста за ним, по Елисейским полям. Он не видел меня. С ним была блондиночка, влюбленная, как все вы.
Он повел ее пешком к себе, на улицу Ла Боэси. Они то и дело останавливались, чтобы похихикать у какой–нибудь витрины с погашенными огнями, или бесстыдно целовались на глазах у поздних прохожих. Я настиг их в подъезде дома, куда они вошли. Сперва я ударил его, потом ее. Она упала без памяти, не успев ни оправиться от удивления, ни закричать. Я поднял ее на руки, а его – он еле стоял на ногах – подтолкнул к лестнице. Я поклялся придушить его, если он позовет кого–нибудь на помощь. Совершенно растерявшийся от страха, он впустил меня в большую квартиру на втором этаже. Я положил белокурую девицу на пол и запер дверь. Я опять принялся избивать парня, который начал было пререкаться. Держа за борт разодранного пиджака, я притиснул его к стене и бил не помня себя то одной рукой, то другой. Потом, уже совсем не соображая, что делаю, я одним рывком, разодрав, сдернул с него брюки и трусы в цветочек и потащил в соседнюю комнату, чтобы поискать, чем можно еще больше унизить его перед этой девицей. Кажется, он называл меня «мсье» и молил о пощаде, кажется, он не проявил ни на йоту мужества, не сделал ни малейшей попытки защититься, это была мерзкая гнида, и именно его гнусная слабость погасила мой гнев. Я швырнул его на стул в кухне. Приподнял ему голову за подбородок. Из носа и ушей у него текла кровь. Я что–то говорил ему, но что – не помню. Да и все равно он не мог меня понять. Никто не может понять. Потом я вернулся в ту комнату, где была девица. Она тоже называла меня «мсье». Я левой рукой закрыл ей рот и, прижав к той же стене, у которой избивал ее возлюбленного, рывком разорвал на ней платье. Ее широко раскрытые, полные слез глаза были совсем близко и смотрели на меня. Она была ни жива ни мертва от страха, как ребенок. Я отпустил ее, Дани. Никто не может понять.
Не помню, как я очутился снова в своей машине на улице Кантена Бошара, но, когда я очнулся, то сидел, положив руки на руль, и, уткнувшись в них лицом, плакал. Не считая детских лет, я плакал всего два раза в жизни.
В тот вечер и вот теперь, в пятницу, у омерзительной фотографии моей жены. Вы можете это понять, Дани?
В ту же ночь я узнал и о других изменах Аниты после нашей свадьбы, и о вашей поездке в Цюрих. Но о Кобе она не сказала ни слова. Я долго сидел один около спящей дочурки. Потом оглушил себя снотворным и лег спать прямо на полу, рядом с детской кроваткой, и мой сон был заполнен моей девочкой.
На следующий день я принял меры, чтобы встретиться с парнем, которого избил. Встреча состоялась в кафе, рядом с его домом. Он весь опух от побоев, но, попивая свой дрянной томатный сок, непринужденно разглагольствовал – ведь он знал, что теперь я опасаюсь его. Я выдал ему чек. Он сказал, что я сумасшедший и меня следовало бы изолировать. Он даже смеялся, несмотря на то, что рот у него был облеплен пластырем. Я унизился до того, что попросил его рассказать о той майской ночи, я хотел знать его версию. Самое ужасное было, что в его памяти сохранились лишь какие–то отрывочные воспоминания, для него это не представляло никакого интереса.
Он сказал, что, в общем–то, я ему заплатил за то, что он переспал с моей женой. Он вслух обдумывал, не должен ли он разделить эти деньги со своим дружком.
Остаток дня я не мог работать. Весь обливаясь потом, я снова и снова перебирал в памяти признания Аниты. В ее рассказе фигурировал один парень, которого я знал и которого по крайней мере имел возможность проучить.
Помните, у нас работал художник–брюнет, эдакий тореадор с виду? Его звали Витта, Жак Витта – он попал в автомобильную катастрофу и вскоре после этого ушел из нашего агентства? Так в действительности–то это я подкараулил его в тот вечер в Буживале. Когда я пришел к большому дому, где он жил, было семь часов вечера и заходящее солнце полыхало над Сеной.
Трое или четверо ребятишек затеяли рядом со мной игру. Я поймал брошенный ими мяч. Поговорил с ними. Потом остался один, прошло несколько часов. Я курил и ходил взад и вперед, держась в тени, подальше от уличных фонарей.
Было уже за полночь, когда Витта подъехал на своей малолитражке, один, и поставил машину на стоянку. Когда он увидел, что я приближаюсь к нему, он сразу сообразил, зачем я здесь. Он не хотел выходить из машины, сидел в ней, в отчаянии цепляясь за дверцу. Тогда я схватился обеими руками за машину и перевернул ее. В соседних домах стали раскрываться окна. В тишине ночи раздались голоса. Я вытащил Витта из машины – надо сказать, он оказался гораздо мужественнее того подонка и все норовил пнуть меня ногой в низ живота, – ударом свалил его на землю, потом поднял и снова бил, швырнул на траву, пока не понял, что могу прикончить его. Я вернулся домой. Ту ночь я тоже провел на полу у кровати дочурки. Два или три дня спустя Витта пришел ко мне в кабинет с заявлением об уходе. От чека он отказался. Потребовал, чтобы я возместил стоимость дверцы и крыла машины, но за увечья не взял ничего. Да, сказал он, раз пять он был с моей женой в одной из гостиниц на улице Пасси… И, сделав непристойный жест, добавил, что воспользовался моей женой просто как обыкновенной потаскушкой, она ему больше и не нужна. Вы меня понимаете, Дани?