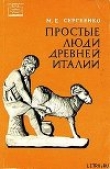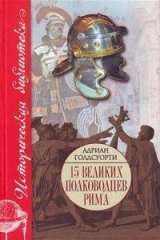
Текст книги "Во имя Рима: Люди, которые создали империю"
Автор книги: Адриан Голдсуорти
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 35 страниц)
В этот момент у македонцев оказалась одна-единственная линия, состоящая из отдельных отрядов пикейщиков, каждый такой отряд, по меньшей мере, шестнадцать рядов глубиной. За этой линией не было никаких резервов, и сами отряды почти не могли маневрировать. Против них находился ряд манипул, глубина которых, возможно, была в два раза меньше, а расстояния между ними были примерно одинаковыми. Эти промежутки прикрывали манипулы принципов, а за ними расположились триарии. Македонцы могли сражаться эффективно лишь против врага, находившегося непосредственно перед ними, и даже в этом случае их эффективность зависела от того, насколько хорошо они сохраняют единство строя и выставляют перед собой нерушимую стену из наконечников сарисс. У римлян каждым манипулом руководил центурион, при наличии обоих центурионов старшим считался командир правой центурии, и построение в три ряда позволяло манипулу действовать как одиночному подразделению.
Когда боевое построение стабилизировалось, центурионы повели своих солдат в разрывы в фаланге, чтобы ударить по незащищенным фалангитам сбоку и даже им в тыл. Плутарх сообщает, что Павел отдал соответствующие приказы. Сначала он говорил с трибунами и старшими подчиненными, которые затем передали указания младшим офицерам. Это, вероятно, соответствует действительности, поскольку Павел, как и любой другой римский полководец, был готов принимать непосредственное участие в тактических решениях даже на отдельных незначительных участках сражения. Однако легионы все вместе занимали ширину фронта около мили, и поэтому полководцу было бы трудно руководить атакой по всему фронту.
В римской армии офицеров по отношению к солдатам было значительно больше, чем в македонской. В одном легионе было шесть трибунов и шестьдесят центурионов, двадцать в каждом ряду, помимо легатов и других членов штаба полководца, отправленных на этот участок. Инициатива атаки во многих местах принадлежала, вероятно, этим людям и даже, возможно, в отдельных случаях обычным солдатам, ибо римляне всегда поощряли проявления индивидуальной доблести. {85}
Постепенно небольшие группы римлян пробились, через фронт македонцев. Легионер изначально был фехтовальщиком, способным при необходимости эффективно действовать в одиночку. Македонский воин с сариссой длиной 21 фут мог сражаться лишь в строю. Как только римляне начали нападать на связующие узлы пикейщиков с флангов, битва превратилась в настоящее избиение. Некоторые македонцы бросили свое неуклюжее оружие и вытащили мечи, но мечи эти были весьма посредственными, да и владели македонцы ими плохо.
Легионеры сражались «испанскими мечами» (gladius hispaniensis).Гладиус представлял из себя хорошо сбалансированное и остро заточенное колющее оружие с лезвием из закаленной стали. Колющий удар таким мечом часто оказывался – смертельным, а режущий удар оставлял обезображивающий шрам. Ливий описывает, как ужаснулись солдаты Филиппа V во время Первой Македонской войны, когда впервые увидели трупы воинов, убитых «испанскими мечами». В битве при Пидне римляне убили многих македонских фалангитов, а они в свою очередь нанесли очень незначительные потери врагу. К концу битвы пало около 20 000 македонцев и еще 6000 были взяты в плен. Агема была фактически уничтожена. Когда фаланга обратилась в бегство, кавалерия македонцев умчалась с поля боя. Многие кавалеристы, по сути дела, не принимали участия в бою, и их подразделения не понесли потерь. Персей спасся бегством вместе с ними и направился в свою столицу Пеллу, но отделился от всадников, когда их догнала толпа других беглецов его армии.
Битва продолжалась не более часа – необычно малое время для такого большого сражения. Римляне потеряли около 100 человек убитыми и несколько большее число ранеными. Одно время Павел боялся, что его сын Сципион Эмилиан тоже пал в бою, и был в отчаянии до тех пор, пока молодой человек, вместе с несколькими товарищами, увлекшийся преследованием беглецов, не вернулся. Сын Катона Старшего – который впоследствии женится на дочери Павла Эмилии и будет служить кавалеристом – также отличился в бою. Говорят, что во время сражения он лишился своего меча, что было большим позором. Тогда он собрал группу товарищей, они вместе пробились в первые ряды сражавшихся и обратили противника в бегство. Затем Катон наконец отыскал свой меч под грудой трупов. И Павел, и сам Катон Старший, бывший весьма суровым человеком, похвалили юношу за то, что он вел себя как подобает настоящему римлянину. {86}
Победа римлян при Пидне во многом вызвана гибкостью римской тактической системы. Битва началась случайно, и поэтому ни один из военачальников не имел возможности применить какую-либо изощренную тактику. В лучшем случае они могли воодушевлять своих солдат (хотя Персей, возможно, даже не пытался этого делать) и руководить построением в боевой порядок. В ситуациях, когда нарушался привычный порядок действий и возникало замешательство, легионы быстро решали любые задачи, возникавшие на том или ином участке боя. Подобные факторы оказались решающими в битвах при Киноскефалах и при Магнезии. В бою при Киноскефалах обе армии неожиданно столкнулись, когда приближались к перевалу с противоположных направлений. Каждая сторона, следуя привычному порядку, стала поворачивать походную колонну направо для формирования боевого построения. В такой ситуации правые фланги как римской, так и македонской армии находились во главе колонными поэтому они первыми перестроились в боевой порядок. Правый фланг каждой армии затем напал и обратил в бегство левый фланг неприятеля, который все еще не был готов к битве. Римляне использовали свое обычное трехрядное построение, а Филипп V – пехоту в единой глубокой фаланге без резерва. Неизвестный трибун взял двадцать манипул из принципов и триариев с правого фланга римлян и повел их в атаку на теснившие римлян войска македонцев. Фаланга не смогла отразить новую угрозу и была обращена в бегство.
При Магнезии армии были развернуты по всем правилам и ожидали боя. Антиох III повел кавалерию в атаку в лучших традициях Александра и пробил брешь в линии фронта римлян, собираясь после этого напасть, на вражеский лагерь. Но у него не было резервов, чтобы закрепить свой успех. У римлян же резервы были, и они вместе с солдатами, которым было поручено охранять лагерь, разгромили кавалерию царя. Когда римляне прорвали главный боевой фронт Селевкидов и пробились через фалангу глубокого построения, та не смогла восполнить свои бреши и была опрокинута. В этих битвах, как и при Пидне, победа была достигнута очень невысокой ценой даже по стандартам Древнего мира.
После Киноскефал, Магнезии и Пидны Филипп V, Антиох Великий и Персей соответственно признали свои поражения и согласились на условия мира, предложенные Римской республикой. В 168 г. до н. э. сенат решил положить конец существованию Македонского царства и разделил его на четыре автономных области. Персея доставили в Рим, чтобы он принял участие в триумфальной процессии Павла; остаток своей жизни он провел пленником. Однако, несмотря на громкую победу, консулу-победителю хотели отказать в чести провести триумф.
Павел был хорошим военачальником, но, судя по всему, ему так и не удалось завоевать популярность среди своих солдат. Одни в его армии считали, что их недостаточно похвалили за храбрость, другие – что им мало выделили добычи. И это несмотря на то, что с одобрения сената после битвы при Пидне Павел повел свои войска на разграбление Эпира. Под руководством трибуна Сервия Сульпиция Гальбы многие солдаты высказались за то, чтобы консулу было отказано в триумфе. Лишь после яростных споров сенат одобрил предоставление консулу этой чести. Многих сенаторов помог убедить стареющий ветеран Пунической войны и бывший консул Марк Сервилий Пулекс Гемин, о котором говорили, что он в бою один на один убил двадцать три противника. {87}
В итоге Павлу было даровано право на триумф. Он устроил празднование, затмившее своей зрелищностью все предыдущие. Церемония продолжалась три дня. За процессией, проходящей через самый центр Рима по Священной дороге, наблюдали толпы людей, сидящих на специально установленных помостах.
В первый день на 250 повозках везли статуи, картины и гигантские изваяния, захваченные во время войны. На второй день римлянам демонстрировали трофейное оружие, доспехи и другое военное снаряжение. Среди всего этого было как собственно македонское снаряжение, так и то, которое использовали союзники и наемники Персея. Большей части снаряжения был придан такой вид, словно оно было найдено в виде обломков на поле боя. На других повозках оружие и доспехи были разложены неплотно, чтобы при движении повозок они устрашающе бряцали, ударяясь друг о друга. Несмотря на то что оружие принадлежало проигравшим, его вид оставался весьма грозным {88}. За оружием и доспехами несли сосуды с серебряными монетами и ценностями, отобранными у врага. Сосудов насчитывалось 750, и каждый несли четыре человека.
Наконец, на третий день устроили главную процессию, во главе которой двигались трубачи, играющие сигналы, звучавшие в боях. За музыкантами юноши вели 120 жертвенных быков, их рога были позолочены, а головы украшены лентами и венками. Их сопровождали мальчики с сосудами для возлияний. Опять же по улицам несли ценности поверженного врага – на этот раз семьдесят семь сосудов, в каждом из которых было три таланта золотых монет, а затем – коллекцию драгоценной утвари со стола Персея.
За сокровищами царя вели его колесницу. На нее положили оружие, доспехи и царскую диадему. Потом шли дети побежденного правителя Македонии – двое мальчиков и девочка со своими нянями и многочисленными домашними рабами. Это было печальным зрелищем, и многие римляне, наблюдающие за ним, были тронуты до слез, хотя обычно они скрывали свои эмоции. Персей шел вслед за детьми со своими собственными слугами и придворными. На просьбу Персея избавить его от унизительного шествия по Городу Павел дал резкий ответ, намекая, что царь всегда может избежать подобного унижения, совершив самоубийство.
И наконец на великолепно убранной колесниц ехал сам полководец – муж, который и без всей этой роскоши и знаков власти был достоин всеобщего внимания, он был одет в пурпурную, затканную золотом тогу, и держал в правой руке ветку лавра. Все войско, тоже с лавровыми ветвями в руках, по центуриям и манипулам следовало за колесницей, распевая по старинному обычаю насмешливые песни, а также гимны в честь победы и подвигов Эмилия. Все прославляли его, все называли счастливцем… {89}
Описание Плутарха передает особое великолепие римского триумфа, но Павел не испытывал необходимости в рабе, которому полагалось нашептывать, что полководец – всего лишь смертный. Четырнадцатилетний сын полководца заболел и умер за пять дней до начала церемоний. Спустя три дня после триумфального шествия та же судьба постигла его двенадцатилетнего брата. Выжили только два старших сына Павла. Оба были приняты в другие семьи и носили уже другие имена.
«Захваченная Греция покорила свирепого захватчика»
Перед тем как покинуть Грецию Павел провел немало времени в поездках по стране, осматривая достопримечательности и стараясь изо всех сил завоевать сердца ее жителей. В Амфиполе он устроил тщательно подготовленные зрелища, включавшие театральные представления, поэтические и спортивные состязания, созвав отовсюду исполнителей и атлетов, а также приказав привести знаменитых скаковых лошадей со всего греческого мира. Многие дивились, что такое крупное празднество было столь успешно организовано за такой короткий срок. Павел на это сухо ответил: «Тот, кто умеет в войне победить, сумеет и пир задать, и устроить зрелища» {90}. Во время посещения знаменитого оракула в Дельфах консул увидел пустой пьедестал, на котором должна была быть установлена статуя Персея. Павел велел поставить там памятник в честь своей собственной победы. Часть его сохранилась до наших дней.
Павел, не являлся первым римским магистратом, ставшим участником культурной жизни Греции. После Второй Македонской войны Фламинин провел несколько лет в Греции и с самого начала проявил глубокую любовь ко всему эллинистическому. На Истмийских играх [19]в 196 г. до н. э., когда он провозгласил «Свободу Греции», его речь, произнесенная на греческом, была встречена восторженными аплодисментами. Почести, которые эллинистические государства воздавали римским полководцам – от страха или же от подлинного уважения, – были поистине царскими. Это подкрепляло мнение, что любой римский сенатор, особенно выдающийся и знаменитый полководец, был, по меньшей мере, равен монарху любой другой страны. Фламинин, Павел и другие военачальники, одержавшие победы в восточном Средиземноморье приобрели огромный авторитет, не сравнимый с престижем остальных нобилей. Их слава и захваченные богатства могли нарушить баланс политической жизни Рима, и отчасти именно из-за этого многие сенаторы с таким пылом нападали на знаменитых полководцев, когда те возвращались в Рим.
Трудно определить, до какой степени римские аристократы были осведомлены о греческой культуре в III веке до н. э. Рим поддерживал связи сначала со многими эллинистическими колониями в Италии, позднее – и на Сицилии. Постепенно он завоевал все эти колонии. Среди награбленного на войне, в частности, были произведения искусства и рабы. Все это привозили в Рим. Ко времени Второй Пунической войны среди римских сенаторов были такие, как Фабий Пиктор, чье знание греческого языка и литературы позволило ему писать первые труды римской истории в прозе на греческом. Готовя вторжение в Африку со своей базы в Сицилии, Сципион Африканский и его молодые друзья одевались в греческие одежды и с удовольствием проводили время в гимнасии, что прежде не было принято у римлян. Эта любовь к греческому языку и культуре охватила римскую аристократию и продолжалась в течение нескольких столетий. Сенаторы стали соперничать, пытаясь превзойти друг друга в знании греческой культуры.
К середине II века до н. э. подавляющее большинство образованных римлян стало двуязычно, поскольку греческий считался языком подлинной цивилизации – точно так же как французский в Европе XVIII века, на котором говорили все аристократы. Лишь немногие публично выступали против этой тенденции. Самым известным противником проникновения греческой культуры был Марк Порций Катон, человек, который руководил одной из колонн, обошедшей врага с фланга в битве при Фермопилах и сын которого отличился в сражении при Пидне. Будучи послом в Греции, Катон отказался обратиться к местному населению на их родном языке и настоял на том, чтобы произнести свою речь на латыни. Это не являлось следствием незнания греческого языка, поскольку он, несомненно, всесторонне знал эллинистическую литературу – Полибий вспоминал случай, когда Катон в шутку процитировал «Одиссею» Гомера. На протяжении всей своей карьеры Катон высмеивал аристократов, подражающих знатным людям Греции, и подчеркивал превосходство простых, но добрых традиций Рима. В 205 г. до н. э., будучи квестором Сципиона, он публично критиковал консула и его друзей за их поведение на Сицилии. Позднее он напишет первую историю на латинском языке, которая станет одной из многих его работ, написанных на латыни.
В отличие от сенаторов, которые собирали предметы греческого искусства и копировали эллинистический стиль в одежде, украшениях и еде, Катон оставался старомодным римлянином, ведущим скромный образ жизни на службе республике. Он был «новым человеком», который не мог похвастаться достижениями своих предков, и поэтому ему нужно было упорно работать над созданием собственной репутации. Он не упускал возможности высказывать свое мнение по каждому поводу и старался быть не похожим на других, постепенно создавая свой личный «общественный образ» – фактически торговую марку, – чтобы сравняться с представителями авторитетных семей. Таким образом Катон использовал распространение культуры, которую не одобрял, как средство борьбы с другими сенаторами.
Но большинство подражало не Катону, а грекам.
Глава 4
«МАЛЫЕ ВОЙНЫ». СЦИПИОН ЭМИЛИАН И ПАДЕНИЕ НУМАНЦИИ
Публий Корнелий Сципион Эмилиан Африканский Нумантинский (185/4-129 гг. до н. э.)
«Бессмысленно рисковать из-за небольшой выгоды». И того, кто вступает в сражение, когда в этом нет необходимости, он считал полководцем ничего не стоящим, хорошим же того, кто подвергается опасности только в нужный момент. {91}
Войны Рима против великих эллинистических держав имели огромное значение и приносили победителям огромную добычу. Но они также были сравнительно редкими событиями. На протяжении II века до н. э. основные военные действия Рим вел против племен Испании, Северной Италии, Южной Галлии и в меньшей степени Иллирии и Фракии. Воины с малопонятными и странными для римлян именами считались храбрыми, но плохо снаряженными и недисциплинированными. Раздробленные на многочисленные племена, они могли иметь в каждом племени по несколько вождей. Поражение одного племени или рода не обязательно означало, что их соседи капитулируют, в то время как все войны с Македонией и Селевкидами завершались каждый раз одной решающей битвой. Поэтому боевые действия в Испании или Галлии обычно растягивались на множество следующих друг за другом конфликтов, во время которых все местные племена разбивались по очереди.
Победы над араваками или бойями не могли принести полководцу славу, сравнимую с той, что давала победа над знаменитым царством, таким, например, как Македония. К тому же материальная выгода армии и командующего в Испании не могла сравниться с добычей на Востоке. Частые войны в испанских и галльских провинциях делали одержанные там победы почти заурядными. Если полководцы жаждали получить максимальное преимущество от своего успеха, им приходилось заявлять, что на этот раз римская армия столкнулась с новым, необычным народом, не похожим на прочих варваров. Наряду с подобными заявлениями победители демонстрировали списки убитых и захваченных в плен людей, а также перечни взятых штурмом городов и деревень. Обеспокоенный тем, что триумфы следовали один за другим и давались они порой за незначительные победы, сенат постановил, что в битве должно быть убито не менее 5000 врагов, чтобы магистрат мог просить о подобной почести. Трудно судить, насколько строго применялась эта мера, хотя вероятно, на протяжении II века до н. э. ее не могли игнорировать.
Однако на основании этого факта нельзя делать вывод, что во всех военных кампаниях римлян против варварских племен результат был заранее известен и все победы являлись «легкими». Возможно, были и такие, но большинство из этих войн на поверку оказались достаточно трудными, воевать приходилось с храбрым и зачастую многочисленным противником, который использовал преимущества нахождения на родной земле. Битвы с галлами, лигурийцами и различными испанскими племенами зачастую оказывались жестокими, и римляне побеждали далеко не всегда. Многие полководцы терпели тяжелые поражения в этих сражениях.
Галлы разграбили Рим в 390 г. до н. э. и снова угрожали ему в 225 г. до н. э. В этот раз только чистое везение, а не удачная стратегия позволило обоим консулам напасть на вражескую армию с двух сторон возле Теламона. В 216 г. до н. э. ужасающая катастрофа при Каннах лишь отчасти затмила трагедию в долине реки Пад (По), где галлы устроили засаду и почти полностью уничтожили армию из двух легионов и двух ал. Среди погибших был командующий римской армии претор Луций Постумий Альбин, обладавший большим опытом. К этому моменту он уже дважды занимал высшую магистратуру и в свое отсутствие был выбран в третий раз консулом на следующий год. Это, вероятно, было наиболее заметное поражением римлян в данном регионе, хотя оно, безусловно, было далеко не единственным. Неудачи на Иберийском полуострове обычно бывали менее крупными, но являлись, пожалуй, еще более частыми. {92}
От хорошо подготовленной римской армии, во главе которой стоял компетентный полководец, можно было в большинстве случаев ожидать победы над племенами варваров. В начале II века до н. э. так обычно и происходило, поскольку в основном все командные посты занимали ветераны войны с Ганнибалом. В эти годы легионы на границах в Северной Италии и в испанских провинциях демонстрировали такой же высокий уровень дисциплины, уверенности в себе и гибкости в тактике, как и в тех кампаниях, где римляне наносили сокрушительные поражения профессиональным армиям эллинистических держав. Довольно часто легионы состояли из одних и тех же воинов, потому что большинство офицеров и солдат, сражавшихся при Киноскефалах и Магнезии, уже служили в одной из западных провинций. Эмилий Павел, например, командовал армиями в Испании и Лигурии прежде чем победить при Пидне. Катон, человек, который в 191 г. до н. э. при Фермопилах командовал колонной, обошедшей противника с фланга, и сын которого отличился в битве при Пидне, до этого был отправлен как консул в 195 г. до н. э. в Ближнюю Испанию. После подготовки войск и небольших операций, целью которых было дать солдатам практический опыт и придать им уверенности в своих силах, он провел решающую битву с главной армией иберов возле города Эмпории. Ночной переход остался незамеченным испанцами, и враг оказался между римскими войсками и римским лагерем, так как Катон решил, что у его солдат должен остаться лишь один способ выжить – одержать победу.
Когда началась битва, иберам пришлось развертываться в спешке и так, как это было на руку римскому командующему. Во время сражения Катон тщательно использовал резервы, послав две когорты – вероятно, экстраординариев – для нападения на вражеский тыл, а для разрешения патовой ситуации между основными фронтами ввел в бой свежие подразделений во время атаки римской армии. Наконец он ввел в бой II легион, который до этого момента не участвовал в сражении, для штурма лагеря испанцев.
Во время этой битвы римский военачальник готов был лично кинуться в бой, чтобы собрать свои войска, когда отступление кавалеристов вызвало панику справа от него. Он хватал и останавливал бегущих солдат. Позднее он повел в наступление II легион, чтобы лично контролировать действия легионеров. Катон ездил взад и вперед перед строем, ударяя копьем любого легионера, нарушившего построение, и приказывал ближайшему центуриону или трибуну занести этих людей в списки для последующего наказания. {93}
В первой четверти II века до н. э. сопротивление племен Цизальпинской Галлии было надолго сломлено. К югу от реки Пад (По) племя бойев уступило значительную часть своей земли римским колонистам. Как серьезная политическая сила они были практически уничтожены. Далее к северу таким народам, как кеноманы и инсубры, повезло больше. Со временем их аристократы добились гражданства и были приняты в римскую иерархическую систему.
Лигурийцы были горным народом, не имевшие еще социальной структуры, за пределами своих поселений они признавали лишь немногих вождей. Они были в основном скотоводами, в самом начале весны противник мог уничтожить их стада, потом лигурийцы угоняли скот с зимних пастбищ на высокогорные луга. Проведение кампаний в такой труднопроходимой местности всегда являлось рискованным делом, а захват одного поселения редко могло удержать остальных горцев от набегов на ближайшие римские колонии и союзные государства. Сражения продолжались до середины II века н. э., и только лишь после переселения горцев в колонии в Италии лигурийцы были усмирены.
В Испании боевые действия шли почти непрерывно до 177 г. до н. э., когда консул Тиберий Семпроний Гракх, используя сочетание военной силы и умелой дипломатии, установил мир, который продолжался более двадцати лет. {94}
Ко времени, когда спокойствие, установленное Гракхом, было нарушено в 50-х годах II века до н. э., римская армия вновь пришла в упадок. Участники Второй Пунической войны либо уже умерли, либо стали слишком старыми для службы в армии, а накопленный ими опыт был большей частью утрачен. Временный характер, который носила система призывной армии, не позволял сохранить военные знания в какой-либо институциональной форме, к тому же эта проблема усугублялась еще и тем, что войны в это время случались реже, чем раньше. К 157 г. до н. э. сенат очень хотел отправить военную экспедицию в Далмацию, поскольку опасался, что продолжительный мир может сделать мужчин Италии женоподобными. {95}
Неопытность сочеталась с самонадеянностью, так как многие римляне были уверены, что длинная череда побед Рима была сама собой разумеющейся, а не являлась результатом тщательной подготовки и долгих тренировок. Действия римской армии на поле боя до конца II века до н. э: часто представляли собой жалкое зрелище.
Юные годы Сципиона Эмилиана и Третья Пуническая война
Усыновление наследника или наследников для сохранения родового имени было обычным явлением среди сенаторской аристократии, и усыновленный ничем не отличался от настоящего сына. Он юридически становился членом новой семьи, и та относилась к нему как к родному. Но это не исключало сохранения усыновленным сильной связи с его кровными родителями [20]. Хотя Сципион Эмилиан был усыновлен в раннем возрасте сыном Сципиона Африканского, он провел большую часть своей молодости в доме Эмилия Павла и, как мы видели, служил с ним в Македонии и участвовал вместе с отцом в его последующем триумфе.
Ничто в молодости Сципиона не говорило о его блестящем будущем. Как и его отец он был осторожным и в какой-то степени замкнутым. В отличие от большинства молодых людей, начинавших государственную карьеру, он не произносил речей в суде и не стремился сделать себе имя в качестве адвоката. Вместо этого он предпочитал спортивные занятия и военные упражнения, готовя себя к защите республики на службе в армии. В битве при Пидне он хорошо сражался, хотя, может быть, и с излишним пылом, а затем в Греции после окончания войны проявил свою любовь к знаниям. Вместе со старшим братом и друзьями он отправился в обширные поместья Персея. Павел позволил сыновьям взять лишь немногие вещи из царской сокровищницы, но зато разрешил выбрать самые лучшие свитки из огромной царской библиотеки. Греческая литература и культура сыграют большую роль в жизни Сципиона Эмилиана. Его интересы поощрял и направлял Полибий, который после войны оказался в Риме в качестве одного из греческих заложников.
Со временем Сципион и его друзья, среди которых был Лелий – сын одного из старых соратников Сципиона Африканского, стали лучшими представителями сторонников эллинизма. Они были настоящими римлянами, обладавшими всеми традиционными качествами, свойственными членам сенаторских семей, но к этим достоинствам они добавили изысканность и мудрость греческой культуры. Цицерон представит свои философские рассуждения о природе римской республики в трактате «Государство» (De Re Publico)как воображаемые дебаты между Сципионом, Лелием и их сторонниками в 129 г. до н. э. Сципион был рационалистом, хорошо знающим как римские, так и греческие предания и интересующимся философией. Ни в одной из посвященных ему историй нет намеков на мистицизм, которые постоянно присутствовали в рассказах о победителе Ганнибалла. {96}
Конфликты, окончившиеся тем, что Сципион Эмилиан разрушил Нуманцию, начались в 153 г. до н. э. Племя кельтиберов, или беллы, решило увеличить свой главный город Сегеда, расширив окружавшие его стены и приведя туда, добровольно или принудительно, жителей соседних поселений. Сенат не мог допустить появление такой большой и удачно размещенной крепости в Ближней Испании и отправил против этого племени консула Квинта Фульвия Нобилиора с сильной консульской армией численностью приблизительно в 30 000 человек.
Укрепления Сегеды не были еще воздвигнуты полностью к моменту римского наступления, поэтому беллы бросили работу и устремились на территорию соседнего племени ареваков, чьим главным городом являлась Нуманция. Племена объединились, и под командованием выбранного командира эта совместная армия устроила засаду Нобилиору и нанесла римской колонне тяжелые потери, прежде чем той удалось отбить атаку варваров. Консул решил напасть на саму Нуманцию, но атака закончилась катастрофой. Одного из римских боевых слонов ударили камнем по голове, и он начал метаться. Скоро все десять слонов помчались назад, топча всех, кто попадался им на пути. Кельтиберы воспользовались этим беспорядком для проведения контратаки и обратили римлян в бегство.
В 152 г. до н. э. Нобилиора заменил Марк Клавдий Марцелл, внук «Меча Рима», который в этот год стал консулом в третий раз. Более опытный военачальник захватил несколько небольших городов и, предложив им приемлемые условия, вынудил ареваков и беллов искать мира. Как Фламинин в 198 г. до н. э. Марцелл хотел блестяще закончить войну, прежде чем истечет срок его пребывания в должности консула и ему успеют прислать замену. Поэтому он укрепил веру кельтиберийских послов в то, что сенат, возможно, заключит с ними мир на тех же самых условиях, какие за несколько десятилетий до этого были предложены Гракхом. {97}
Хотя делегации прибыли в Рим и было еще точно не известно, окончена война или нет, сенат решил, что Луций Лициний Лукулл, один из новых консулов на 151 г. до н. э., должен в любом случае отправиться в Ближнюю Испанию с новой армией. Набор этой армии оказался неожиданно трудным, так как на этот раз римские граждане всех классов не желали идти на военную службу в легионы. Слухи о свирепости кельтиберов поощрялись Нобилиором и его офицерами после возвращения в Рим, предстоящая война считалась трудной и невыгодной. В день, на который был объявлен набор рекрутов, немногие выказали желание записаться в легионы, отовсюду звучали жалобы, что за последние годы тяготы воинской службы легли на плечи небольшой группы людей, поскольку новые командующие предпочитали набирать ветеранов. Поэтому в тот год рекрутов набирали по жребию. Из молодых сенаторов также нашлось немного желающих стать военными трибунами, хотя прежде за эти должности разгоралась нешуточная борьба, поскольку звание военного трибуна давало возможность заслужить хорошую репутацию, проявив мужество и мастерство.
Лукуллу тоже, кажется, было трудно найти людей на должности своих старших подчиненных или легатов. Поговаривали, что многие молодые аристократы притворились больными, чтобы оправдать свою трусость. Как пишет Полибий, лишь когда 33-летний Сципион Эмилиан публично заявил о своей готовности служить в любой должности, другим стало стыдно, и они стали добровольно предлагать свои услуги. Историк, вероятно, несколько преувеличил влияние своего друга и покровителя, но тем не менее этот инцидент, безусловно, снискал молодому аристократу определенную популярность. Точно не известно, в качестве кого Сципион отправился в Испанию – легата или трибуна, но последнее кажется более вероятным. {98}