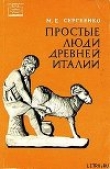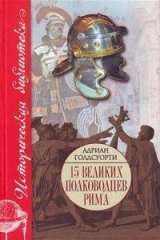
Текст книги "Во имя Рима: Люди, которые создали империю"
Автор книги: Адриан Голдсуорти
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 35 страниц)
Первой мишенью Юлиана стали салии, франкский народ, поселившийся в пределах римской провинции в Токсиандрии, приблизительно там, где находится современная Фландрия. Прежде чем кампания набрала силу, к Юлиану прибыла делегация салиев. Послы франков, видимо, ничего не знали о намерениях Цезаря и просили римского командующего, чтобы им позволили оставить себе землю, которую они захватили, обещая, что они не будут совершать набеги на соседние общины в провинции. Юлиан сознательно дал им неясный ответ, а после отбытия послов предпринял быструю атаку. Салии оказались захвачены врасплох и вскоре сдались, согласившись на мирные условия Юлиана. Добившись первого успеха, римляне выступили против другого германского народа, хамавов, которые также самовольно поселились в римской провинции. На этот раз имели место боевые действия, но сопротивление было быстро сломлено, и германцам приказали вернуться на свою родину на другом берегу Рейна.
После этих легких побед Юлиан решил, что для закрепления успеха необходимо отремонтировать и снова занять три крепости вдоль реки Моза (Масс). Гарнизоны можно было набрать из подразделений, находившихся под его командованием, но обеспечить достаточным количеством провианта склады крепостей было труднее. У армии еще имелся запас галет на семнадцать дней, и Юлиан приказал передать значительную его часть гарнизонам. Решение Цезаря вызвало волнения, солдаты снова стали громко выражать недовольство решением полководца, в насмешку называли его «азиатиком» или «маленьким греком», намекая на его воспитание.
До времени сбора урожая оставалось еще несколько недель, и солдаты просто-напросто боялись голода во время проведения кампании, поэтому не хотели расставаться со своими запасами. Аммиан, по-видимому, симпатизировал солдатам и в своем сочинении подчеркивал, что они не просили дополнительной платы или вознаграждений, хотя не получили даже регулярного жалованья, не говоря уже о премиях, с того момента как Юлиан принял командование. Констанций не хотел давать Цезарю достаточно средств, чтобы тот не завоевал себе слишком большой популярности армии в Галлии. {396}
Аммиан не сообщает нам конкретно, что произошло после этого протеста за исключением того, что конфликт разрешился мирно. Скорее всего, командующий уступил. У Юлиана были и другие проблемы. Север, его бывший довольно надежный подчиненный, заболел и вскоре умер. В своей последней кампании в течение 358 г. Север стал почти до трусости осторожным, поэтому колонна под его командованием добилась очень скромных успехов. Зато дипломатией удалось склонить на сторону Рима одного из самых могущественных царей алеманнов. Еще один был вынужден подчиниться после карательной экспедиции на его территории.
Римлянам служил проводником германец, захваченный двумя трибунами, посланными Юлианом для того, чтобы они доставили ему пленника. Поначалу походной колонне мешали привычные баррикады, перекрывавшие дороги, но в конце концов римляне смогли проникнуть в регион, который алеманны считали безопасным. В итоге Цезарь заставил противника капитулировать. Лето близилось к концу, и римская армия вернулась на свои зимние квартиры. Юлиан снова занялся административными делами. {397}
Кампания следующего года началась с неожиданного нападения на тех алеманнов, которые не собирались подчиняться римлянам. Готовясь к новой операции, под видом дипломатической миссии был послан знающий язык варваров трибун Хариеттон, чтобы разузнать планы вождей. Помимо этого, Юлиан обеспечил доставку значительных запасов зерна из Британии, достаточных для того, чтобы прокормить действующую армию и заполнить амбары фортов и городов-крепостей. Эти крепости и города он надеялся восстановить и снова создать из них оборонительную линию. Семь городов были уже снова заселены, и даже вспомогательные войска – которые обычно презирали подобные задания, считая, что они недостойны воинов, – с удовольствием трудились бок о бок с другими солдатами.
Действуя на основе информации, раздобытой Хариеттоном, Юлиан пересек Рейн и напал на алеманнов. Большинство германцев тут же обратились в бегство, оставив свой урожай на разграбление или сожжение. К концу года подчинились почти все вожди алеманнов. Установленный мир тем не менее был очень шатким. Германцы были готовы соблюдать его только до тех пор пока римляне были сильны. Но, как только варвары почувствуют слабость, они снова вторгнутся на территорию провинций.
Когда зимой 359–360 гг. значительная часть Британии была разорена пиктами и скоттами, Юлиан посчитал неразумным заниматься еще и этой проблемой лично. Он послал Лупицина, преемника Севера, с четырьмя подразделениями вспомогательных войск восстановить нормальное положение по ту сторону Британского моря (Ла-Манша). Размер этого войска является еще одним указанием на небольшой в основном масштаб военных кампаний в IV веке. {398}
Юлиан в роли Августа, 360–363 гг.
Пока Юлиан занимался проведением кампаний на границе вдоль Рейна, Констанций сражался на Данубии, но постепенно его внимание все больше переключалось на восточную границу империи. В III веке династия Сасанидов из этнических персов свергла Аршакидских монархов Парфии, так что теперь Рим имел дело с Персией, а не с Парфией, как ее иногда называет на старый лад Аммиан Марцеллин. В 359 г. спор с Персией вылился наконец в открытую войну. С самого начала дела римлян пошли неудачно. Испытывая необходимость в солдатах, Констанций приказал Цезарю прислать ему четыре подразделения вспомогательных войск – кельтов, петулантов, батавов и эрулов – наряду с отрядами в 300 человек, взятых из каждого оставшегося подразделения. Ходили слухи, что Август хотел не просто усилить свою армию перед сражением с персами, но и (в не меньшей степени) подрезать крылья своему удачливому Цезарю.
Юлиан был сбит с толку подобным приказом. Его солдаты пришли в ярость, снова взбунтовались и отказались покидать свои семьи и родственников, отправляясь на край света, поскольку в этом случае их семьи остались бы совершенно беззащитными, на милость алеманнов. Они в очередной раз провозгласили Юлиана Августом, и на этот раз он согласился – хотя Аммиан утверждает, что так получилось лишь потому, что Цезарь не смог убедить солдат позволить ему попросить Констанция отменить приказ.
Двадцативосьмилетний военачальник был поднят на щите, который солдаты держали на плечах – первый зафиксированный в литературе случай, когда римлянин был провозглашен императором так, как провозглашались германские вожди. В качестве диадемы знаменосец преподнес новому Августу крученое металлическое ожерелье, которое носили на шее как награду за доблесть. (Сначала в качестве диадемы ему предлагали одно из ожерелий его жены и что еще более нелепо, украшение от конской упряжи.) Когда «невольный» Август проезжал парадом по лагерю, он обещал каждому солдату значительную премию серебром и золотом в благодарность за поддержку. Даже Аммиан считал, что Юлиан не ожидал, будто Констанций признает его равным себе и разделит с ним правление империей. {399}Рим снова стоял перед лицом гражданской войны, но в этом конфликте было сравнительно мало сражений, поскольку Констанций умер естественной смертью в начале 361 г. У империи в очередной раз был один повелитель, но его популярность оказалось быстропреходящей. Юлиан решил больше не изображать из себя приверженца христианской религии и принялся открыто исповедовать язычество, отдаляя от себя христиан, которые стали к этому времени многочисленной и могущественной частью населения империи. Даже многие язычники считали, что декрет, запрещающий христианам их проповеди, был несправедливым. Другие меры пришлись не по нраву языческой аристократии больших восточных городов, на поддержку которых Август мог бы положиться, будь его политика более гибкой. Какими бы ни были намерения Юлиана, его решения как императора свидетельствовали о нехватке здравого смысла.
То же самое можно сказать о крупной военной кампании, которую он предпринял против Персии в 363 г. Для этого он собрал армию приблизительно из 83 000 человек, включая значительную часть войск из Галлии, которые охотно последовали за своим собственным Августом на Восток, хотя прежде не желали там служить под командованием Констанция. Это войско было самой большой римской армией, которую удалось послать против другого государства на всем протяжении IV века. Эта армия была способна вторгнуться в глубь территории противника и разбить все войска, которые попадались бы им на пути. Однако Юлиан не смог заставить персов вступить в решающую битву и скоро столкнулся с неизбежными проблемами снабжения столь большого войска. С самого начала кампании, по меньшей мере, четверти его солдат пришлось заниматься доставкой провианта по Евфрату.
Поведение Юлиана временами наводило на мысль, что он сознательно подражал знаменитым римским полководцам. Прочитав, что Сципион Эмилиан, Полибий и небольшой отряд солдат сумели открыть удерживаемые врагом ворота в Карфагене, Юлиан попытался скопировать этот подвиг при осаде Пирисаборы, но он и его отряд были отогнаны градом метательных снарядов и камней. Аммиан оправдывал провал своего героя тем, что обстоятельства при осаде Карфагена были иными. Во время рекогносцировки другой твердыни – Майозамальхи – Юлиан и его офицеры попали в засаду. На них напали десять персов, двое из которых узнали императора по его бросающейся в глаза форме и бросились на него. Август убил одного мечом, а его охранники разобрались с другим.
После того как Майозамальха пала, Юлиан демонстративно подражал благородству Александра Великого и Сципиона Африканского, не причинив вреда и даже не глянув на группу невероятно красивых аристократок, которые были захвачены в плен. Литература всегда подчеркивала, что римские полководцы-аристократы должны вести себя именно так, но есть веские основания полагать, что Юлиан в конечном счете слишком увлекся, желая подражать во всем великим военачальникам, вошедшим в историю. {400}
Римляне достигли Ктесифона, расчистили канал, построенный Траяном и использованный Септимием Севером. Теперь они могли провести флотилию с провиантом от Евфрата до Тигра. Однако Юлиан и его офицеры решили, что они не в состоянии взять город, и поэтому начали отвод войск. Вопреки совету своих офицеров Август приказал сжечь флот и велел армии отойти от реки, чтобы отступать через землю, по которой не проходили армии соперников. Это вызвало волнения среди солдат, но приказ, отменявший первоначальное указание сжечь лодки, прибыл слишком поздно – флот уже горел.
Поначалу находить свежую воду, провиант и фураж на землях, по которым проходили римляне, было достаточно легко. Вскоре, однако, персы собрались с силами и принялись сжигать урожай перед идущей вражеской колонной. У Юлиана появилась еще одна причина сожалеть о своих поспешных приказах, когда он слишком поздно понял, что уничтожение лодок не позволит армии построить понтонный мост, по которому можно было снова пересечь Тигр, чтобы между ним и персами оказалась река.
Положение с продовольствием становилось отчаянным, армия двигалась, отражая атаки идущих по пятам персов. В одной из этих стычек Юлиан поскакал галопом, чтобы руководить сражением, даже не надев доспехи. В него попал дротик, который застрял у него в боку, и Август упал с коня. Никто точно не знал, кто метнул дротик, хотя Либаний передает слух, что дротик метнул римлянин, солдат-христианин, ненавидевший императора за то, что тот возродил язычество. Рана оказалась смертельной, Август вскоре умер в своей палатке. Одного из офицеров тут же назначили императором. Поскольку армия находилась в отчаянном положении, пришлось заключить позорный мир с Персией – другого выхода не было. {401}
В Галлии Юлиан проявил себя довольно компетентным командиром, несмотря на то что до того, как его назначили Цезарем, у него не было военного опыта. Как мы видели, проблемы, с которыми он сталкивался, являлись обычными задачами для наместников провинций в прежние времена. К IV веку только император обладал похожими полномочиями и имел возможность сосредоточить достаточно ресурсов, чтобы отразить нашествие варваров. Юлиан способствовал восстановлению порядка на границе вдоль Рейна, хотя в последующие годы поддерживать его окажется невозможным без присутствия императора. Он одержал несколько побед и не потерпел ни одного серьезного поражения, но в этих кампаниях он не проявил каких-то исключительных талантов. Некоторые его решения были сомнительными, и ему, безусловно, недоставало умения Сципиона или Юлия Цезаря улавливать настроение своих солдат и манипулировать им.
В персидской кампании сам масштаб операции и проблемы, связанные с действиям в глубине вражеской территории, а не на землях в дружелюбной провинции, усугубили последствия его ошибок. Слишком большие римские армии не особенно прославились – Канны и Аравсион являются самыми известными примерами катастроф. Любому полководцу было крайне трудно эффективно командовать массой войск более 40 000 человек. К IV веку, когда размер подразделений уменьшился, армия была подготовлена к более мелким операциям. Так что войско из 83 000 человек было чудовищно громоздким. Никто уже не обладал опытом руководства и снабжения такой армии. Учитывая, что римляне вновь столкнулись с теми же проблемами, которые помешали Траяну и Северу нанести окончательное поражение парфянам, неудивительно, что поход закончился унизительным провалом. Карьера Юлиана интересна не его способностями командующего, а тем, что является хорошим примером того, в каких условиях выполняли свои задачи римские полководцы времен поздней империи.
Глава 15
ОДИН ИЗ ПОСЛЕДНИХ: ВЕЛИЗАРИЙ И ПЕРСЫ
Велизарий (505–565 гг.)
Поэтому Велизарий тем из военачальников, которые были возле него, сказал следующее: «У меня не было желания объявлять всем, что я думаю. Слова, которые ходят по лагерю, не могу сохраниться в тайне, поскольку, мало-помалу распространяясь, они достигают врагов. Видя, как многие из вас пребывают в большой растерянности и каждый сам хочет быть главнокомандующим на войне, я скажу вам то, о чем следовало молчать, предупредив, однако, что, когда многие в войске руководствуются собственным суждением, невозможно выполнить то, что нужно». {402}
В IV веке и начале V-гo римская армия обладала потенциалом, позволявшим ей стать высоко эффективным войском. Решающие сражения проводились реже, чем во время принципата, так как командиры теперь предпочитали наносить врагу поражения с помощью хитрости и маневрирования, а не в открытых сражениях. Однако, если римляне все-таки решались провести бой, они обычно побеждали, и в своих лучших битвах римские армии явно превосходили всех своих соперников, даже несмотря на несколько значительных поражений – таких, как при Адрианополе в 378 г.
Влияние этого поражения, во время которой император Восточной империи погиб вместе с множеством своих солдат, часто преувеличивалось историками; оно, безусловно, не было предвестником гибели армии. Эффективность войск всегда основывалась на всесторонней подготовке, строгой дисциплине, хорошем снаряжении и на боевом духе воинов. Во все времена найдется немало примеров, когда этими факторами пренебрегали, и дело заканчивалось поражением. Поддержка армии в хорошем состоянии требовала огромных человеческих ресурсов, боеприпасов и больше всего денег, а от руководителей – хороших способностей. В период поздней античности обеспечить все это было практически невозможно. Несмотря на то, что римлянам было известно, как сделать армию эффективной, обстоятельства редко позволяли им достичь этого на практике.
Частые гражданские войны ослабляли власть императоров. С конца II века наблюдался экономический спад, и с годами он становился все заметнее. Инфраструктура, поддерживавшая армию – дороги, пути снабжения укрепленных баз, – пришла в упадок просто из-за того, что не было ни денег, ни желания со стороны центральных властей их поддерживать на должном уровне. Армии, все еще достаточно многочисленные, представляли большую силу, но они редко действовала эффективно, и уровень боеспособности ее подразделений в среднем был ниже, чем в первые годы возникновения профессиональной армии.
Начиная с III века Рим находился в состоянии упадка. Из-за нестабильности центрального правительства, значительная доля власти постепенно распределялась среди лидеров на местах. Правительству в центре становилось действовать все труднее. Внутренняя слабость приводила к частым поражениям на границах. Если император погибал в бою или оказывался дискредитированным военным провалом, могла начаться очередная гражданская война. В регионах полагали, что защититься от внешних врагов можно только, имея «собственного» императора. Постепенно сила Рима ослабевала, но размер и власть империи были еще так велики, что даже к концу IV века она оставалась гораздо мощнее любого своего иноземного врага. Атаки варваров не были скоординированы и происходили время от времени, но на любой участок границы, который становился уязвимым, соседние племена тут же совершали набеги.
Присутствие императора, руководившего боевыми действиями в регионе, могло, как продемонстрировал Юлиан, на время восстановить стабильность, но даже несколько императоров не могли действовать во всех «горячих» точках империи одновременно. Так что задача верховного правителя заключалась в том, чтобы восстановить порядок на отдельных участках границы и надеяться, что порядок продержится какое-то время, пока они будут решать проблемы в других местах.
Если бы в империи наступил долгий период стабильности без внутренних конфликтов, она, возможно, смогла бы восстановить свои силы. Но изменившаяся основа императорской власти привела к тому, что этого не случилось. Рим ослабевал очень медленно, поэтому даже окончательное крушение Западной империи трудно ассоциировать с каким-то одним катаклизмом.
Сам Рим был разграблен готами в 410 г., но эти германские воины и их вожди входили в состав римской армии, поэтому это можно считать эпизодом очередной гражданской войны, а не иностранным вторжением. Последний император Запада Ромул Августул был свергнут в 476 г., но его предшественники уже не обладали реальной властью, и это событие почти не оказало влияния на жизнь широких слоев населения.
В течение V века западные провинции империи либо развивались самостоятельно, как Британия, или же были захвачены и превращены в отдельные королевства германскими военачальниками, многие из которых одно время состояли на службе у Рима. Племена вестготов, остготов, франков и вандалов захватили Испанию, Галлию, Италию, Сицилию и Северную Африку.
Если Западная империя распалась, то Восточная со столицей в Константинополе и территорией, включавшей Балканы, Грецию, Малую Азию, Египет и Сирию, уцелела. Во многих отношениях это было более цельное образование, чем существовавшая прежде огромная империя. Это государство имело более надежные границы на севере. Этим регионом мог эффективно управлять один император, хотя порой правители Константинополя назначали помощника-соправителя. Восточная Римская империя (в наше время ее обычно называют Византийской империей) снова обрела политическую стабильность, которой не было со времен Марка Аврелия.
К V веку императоры редко принимали лично участие в кампаниях, и то, что они поручали командование армиями другим, свидетельствовало об их уверенности в надежности своего положения. За действиями полководцев пристально наблюдали, взаимоотношения между императором и его полководцем во многих отношениях стало напоминать ситуацию, существовавшую во времена принципата. Восточные императоры могли вести бои на нескольких театрах военных действий одновременно, что было невозможно в течение столетий.
Хотя военные ресурсы сократились, все равно это были значительные силы. По размерам своей территории Восточная империя была приблизительно равна своему величайшему сопернику, Сасанидской Персии, хотя римляне – так себя по-прежнему именовали византийцы – были, вероятно, более богатыми и многочисленными. Сокращение размеров империи в какой-то степени изменило отношение римских императоров к внешнему миру. Так, владыка Константинополя теперь относился к персидскому царю, как к равному или даже как к «брату». Это контрастировало с дипломатией прежних веков, когда Рим всегда стремился подчеркнуть свое подавляющее превосходство над соседними государствами.
Однако некоторые правители Восточной империй продолжали лелеять честолюбивые замыслы о восстановлении бывшей силы и власти, и во время правления Юстиниана (527–565 гг.) была предпринята попытка отвоевать утраченные территории Западного Средиземноморья. Во время нескольких кампаний одна за другой снова были захвачены Северная Африка, Сицилия и Италия, хотя эти победы, как выяснится в будущем, окажутся недолговечными. Выдающимся полководцем в этих операциях показал себя Велизарий, человек, получивший первый опыт командующего армией в войнах на восточной границе. {403}
Велизарий и битва при Даре, 530 г.
Велизарий был копьеносцем (doryphoroi)Юстиниана, служил в императорской страже, которая жила за счет правителя, и членов которой готовили к службе офицерами. Он был германцем по происхождению, из одной придунайской провинции, но в культурном отношении это, вероятно, практически не имело значения. Однако в нем было гораздо больше от профессионального воина, чем в сенаторах-аристократах прежних времен или в академически образованном Юлиане.
В 526 г. Велизарий и другой копьеносец из императорской стражи, Сита, возглавили войско, посланное для того, что устроить набег на один из регионов империи Сасанидов, известный как Персармения. Поначалу дела шли хорошо, и римляне захватили значительную добычу, но вскоре они столкнулись с превосходящими войсками персов и потерпели поражение. Эта операция была частью военных стычек на границе, которые вспыхивали в течение десятилетий после окончания войны между двумя державами в 502–506 гг. Затем война возобновилась, когда персидский шах Кавад (или Кавус в латинской транскрипции), испытывавший нужду в деньгах, получил от императора Анастасия отказ предоставить ему ссуду или безвозмездную помощь. Персы внезапно устроили грабительский рейд в римские провинции, рассчитывая получить быструю выгоду. В конце концов переговоры привели к договору о семилетнем мире, по которому римляне обязались выплатить персам определенные суммы, и обе стороны ограничивали строительство новых укреплений вдоль границы.
Мир оказался непрочным, и напряжение стало нарастать, когда в начале 520-х Кавад попытался навязать принятую в Персии зороастрийскую религию зависимым от него иберийским государствам – этот шаг, возможно, больше был вызван политическими соображениями, а не религиозными убеждениями; Кавад просто боялся, что иберы перейдут на сторону Рима. Иберы, исповедовавшие христианство, обратились к византийскому императору за поддержкой. Каждая сторона подталкивала своих союзников к нападению.
Потом возникли новые осложнения, когда стареющий Кавад, который не любил своего старшего сына Каоса, попытался сделать так, чтобы его преемником стал младший сын Хосров. Послы персов прибыли к дяде Юстиниана, императору Юстину с просьбой, чтобы он усыновил Хосрова и таким образом помог ему сделаться преемником Кавада. Юстину и Юстиниану поначалу понравился этот план, но потом они стали подозревать, что настоящая цель Кавада заключалась в том, чтобы его сын мог стать претендентом на византийский трон. Они в свою очередь предложили ограниченное усыновление, которое часто применялось для членов варварских царских семей, но не позволяло им притязать на императорский трон. Но это предложение было воспринято персами как оскорбление.
Опасения римлян, как и предложение шаха Кавада, отражали изменившиеся к VI веку отношения между двумя державами. {404}
Напряжение между Персией и Византией продолжало расти, пока возобновление открытых боевых действий не стало казаться неизбежным. В пограничной области было много крепостей, позволявших контролировать окружавшую их территорию. Битвы теперь стали редкостью, обычно боевые действия выражались в набегах, вроде того, что устроил Велизарий, а твердыни обеспечивали надежные базы, с которых можно было осуществлять военные экспедиции. В 505 г. римляне начали строительство новой крепости возле Дары, приблизительно в 15 милях от удерживаемого персами Нисибиса. Возведение новой крепости после того, как уже был объявлен мир, возмутило персов, особенно когда римляне увеличили размещенные там войска.
Все действия на границах – строительство новых крепостей или концентрация войск – рассматривались как провокационные. Иногда одной демонстрации силы было достаточно, чтобы заставить римлян вывести гарнизоны из новых фортов, – как случилось с двумя фортами на иберийской границе около 527 г. В 528 г. Велизарию было поручено строительство форта около местечка Миндуй (теперь точно нельзя определить, что это за место; очевидно, недалеко от Нисибиса). Эта позиция не подходила для обороны от сильного врага, но, возможно, целью этой операции было отвлечь персов от укрепления Дары.
Обе первые операции Велизария окончились неудачно, но его способности и верность были замечены. Когда Юстиниан стал единственным императором после смерти Юстина в 527 г., Велизарию предоставлялись все более высокие посты. В 530 г. он был назначен начальником солдат на Востоке (magister militum per Orientem) – одной из пяти действующих армий. С ним пришел его старший писарь (accessor)Прокопий, который позднее напишет подробное описание кампаний Велизария в своих «Войнах». Хотя 529 год прошел в мирных переговорах, Юстиниан готовился к открытой войне, и недавно назначенный Велизарий имел около 25 000 солдат на базе в Даре. Для данного периода это была очень большая армия. Неясно, какую часть войска составляла кавалерия (скорее всего, около одной трети). Пехота была наверняка сомнительного качества из-за того, что все прежние сражения на восточной границе преимущественно состояли из набегов, что давало пехотинцам гораздо меньше возможностей для активных действий, чем всадникам. Пехота чаще выполняла функции гарнизона и занималась поддержанием порядка и практически не участвовала в боях.
На протяжении своей карьеры Велизарию приходилось в основном полагаться на кавалерию. Обычно он доверял пехоте сражаться только при самых благоприятных обстоятельствах. В состав его конных войск возле Дары входили 1200 гуннов (они сражались как конные лучники) и 300 герулов (народ с берегов Данубия, славившийся своей свирепостью). Все эти войска окажутся высоко эффективными в предстоящем сражении. Еще в состав кавалерии входили собственные воины Велизария – букцелларии (buccellarius).Эти люди жили за счет своего командира, поэтому их название происходило от галет, выдаваемых военным, но они были связаны клятвой верности императору. Неясно, сколько букцеллариев было у Велизария возле Дары, хотя в более поздние годы в его распоряжении окажется отряд приблизительно из 1000 человек. Это была тяжелая кавалерия. Всадник (но, скорее всего, не конь) был защищен броней и вооружен копьем (простым или для использования двумя руками) и луком. Букцелларии были хорошо подготовлены даже по стандартам отборных войск. {405}
В июне против римлян выступила еще более крупная армия персов. Она насчитывала около 40 000 человек и командовал ею человек по имени Пероз или Фируз, который принадлежал к роду Миранов, аристократической семьи, из которой вышло так много персидских командующих, что римляне стали считать, что «Миран» – это воинское звание.
Как и в случае с римской армией, основной силой персов были конные войска, так как большинство персидской пехоты составляли плохо снаряженные рекруты, не особенно стремившихся сражаться. В большинстве случаев они были даже менее эффективны, чем римские пехотинцы. Перед началом решающей фазы сражения к Перозу подошло подкрепление в 10 000 человек из гарнизона Нисибиса, но они, по-видимому, не были самыми лучшими войсками.
Почти вся персидская кавалерия была тяжелой и состояла из катафрактов, коня и всадника защищала броня. Они были вооружены луками и обычно предпочитали поражать противника издалека, но при необходимости вступали в ближний бой. У Пероза также имелись «бессмертные» как элитный кавалерийский резерв. Они были названы так в честь царской стражи царя царей, которые служили персидскому владыке еще до того как Александр разбил империю Дария. Неясно, были ли все 10 000 этих людей в армии Пероза. {406}
Прокопий пишет, что персы были в высшей степени самоуверенны, когда их армия стала лагерем в нескольких милях от позиции римлян. Персы не только превосходили своих соперников численно, их самомнение поддерживала память о том, что в последние десятилетия они побеждали римлян во всех крупных сражениях.
Пероз отправил посланника, приказав Велизарию приготовить для него ванну в Даре на следующую ночь. Однако это было только бахвальство – в действительности он и его подчиненные командиры растерялись, увидев римскую армию, тщательно подготовленную к битве. Велизарий выбрал позицию на расстоянии нескольких сотен ярдов перед главными воротами Дары. Слева от римлян находился холм, и они усилили свою главную позицию траншеей сложной конфигурации. В центре шел прямой ров. От обоих его концов прорыли еще по одной канаве под углом 90 градусов. Две перпендикулярные траншеи соединялись с двумя другими, идущими параллельно самой первой. На каждом участке сделали несколько мест для перехода, чтобы римляне могли их использовать, а персам было трудно перебираться через канавы в самый разгар боя.
Позади траншей Велизарий сформировал ряд, в который вошла вся его пехота и небольшая часть кавалерии. Резерв состоял из ряда, полностью сформированного кавалерией. Перед канавами в углах, образованными траншеями, выстроились два подразделения, каждое из 600 гуннов. Находящимися слева руководили Суника и Эган, а группой справа командовали Симма и Аскан. Все четверо были гуннами и копейщиками (doryphoroi)Велизария. Оставшаяся часть римской кавалерии была распределена между обоими флангами. На левом ею командовали Вуза и Фара, под началом которых находились герулы. У конницы на правом фланге было пять командиров, а именно: Иоанн, сын Никиты, Кирилл, Маркелл, Герман и Дорофей.