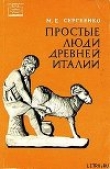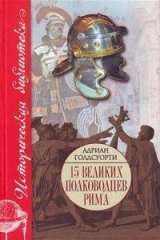
Текст книги "Во имя Рима: Люди, которые создали империю"
Автор книги: Адриан Голдсуорти
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 35 страниц)
Помимо этого, возник скандал с одним из подчиненных Сципиона по имени Племиний, который возглавлял войска, стоявшие в городе Локры. Этот человек не только разграбил город, который должен был защищать, но и еще и умудрился восстановить против себя трибунов, находившихся в его подчинении. Племинию даже пришлось подвергнуть их публичной порке. Поначалу Сципион, вмешавшись, проявил лояльность по отношению к своему подчиненному и поддержал Племиния, который быстро избавился от всех ограничений и казнил трибунов. Но в конце концов жителям Локр удалось отправить в Рим делегацию, которая должна была убедить сенат арестовать Племиния [13].
Воспользовавшись этой неприглядной историей, противники Сципиона в сенате попытались лишить его командования и передать его другому магистрату, но их планам помешала популярность Сципиона среди большинства римских граждан. Доверие римлян оправдалось, так как в новой кампании он продемонстрировал такой же талант и мастерство, как и в Испании. Первым делом он тщательно подготовился к экспедиции. К моменту отплытия из Сицилии в его распоряжении была превосходно обученная и хорошо снабженная армия. В Северной Африке он постоянно оказывался искуснее своих противников и всегда наносил удар в самый нужный момент. Первые две армии, которые были посланы против него, он уничтожил неожиданной ночной атакой. Как и в Новом Карфагене, Сципион очень тщательно собирал информацию о численности противника и его расположении, прежде чем начать атаку. Во время переговоров он включал в состав посольства центурионов и других офицеров, переодетых рабами. Как-то раз одного из центурионов пришлось избить на глазах у карфагенян, чтобы никто не усомнился, что он действительно раб.
В конце концов карфагенянам для борьбы со Сципионом пришлось вызвать из Италии Ганнибала. Два великих полководцев сошлись у Замы в битве, но ни одна сторона не отличилась в этом сражении искусным маневрированием. В итоге римляне одержали победу благодаря своему упорству и численному превосходству в кавалерии. {56}
Сципион вернулся и удостоился великолепного триумфа. Он взял себе имя Африканский в качестве постоянного напоминания о своей победе. Ему было лишь немногим более тридцати лет, и это был пик его карьеры. В 194 г. до н. э. он второй раз стал консулом и повел армию против галльских племен Северной Италии, но в серьезные сражения не вступал.
В 190 г. до н. э. его брату Луцию Корнелию Сципиону, избранному консулом, было поручено командование армией, выступившей против империи Селевкидов Антиоха III. Сципион Африканский отправился с братом в качестве старшего подчиненного или легата (legatus). Присутствие Сципиона имело особое значение еще и потому, что Ганнибал, изгнанный из своего родного Карфагена, нашел убежище при дворе Антиоха и надеялся получить в армии этого правителя важное назначение. В конечном счете карфагенянина поставили во главе части флота Селевкидов.
Сципион был болен и поэтому не участвовал в решающей битве при Магнезии. Возможно, его болезнь была выдумана или преувеличена, чтобы победа в битве принадлежала исключительно Луцию. Также ходили слухи о переговорах с Антиохом относительно возвращения захваченного в плен сына Сципиона Африканского. Тем не менее после того как Сципион и его брат вернулись с этой войны, они оказались в центре нового скандала. Их обвинили в присвоении государственных средств во время кампании. В ответ на обвинения Сципион повел себя с той же самоуверенностью, с которой прежде действовал во время военных кампаний: в суде он разорвал документы своего брата, относящиеся к войне против Селевкидов, вместо того чтобы прочитать их вслух. В другой раз суд над Сципионом происходил в день годовщины битвы при Заме, поэтому он неожиданно объявил о своем намерении совершить жертвоприношение и поблагодарить богов в храмах на Капитолии. Все, за исключением обвинителей и их помощников, последовали за ним, но, несмотря на восторг толпы, обвинения против победителя Ганнибала не были сняты. Кончилось все это тем, что Публий Сципион Африканский покинул Рим и отправился в свою усадьбу в сельской местности, где и остался до конца жизни. Для человека, достигшего столь многого на службе республике, это было печальным финалом. {57}
Ливий читал документ, в котором говорилось, что Сципион в качестве члена делегации сенаторов, отправленных в Эфес в 193 г. до н. э., встречался и беседовал с Ганнибалом. Во время одной из встреч произошел следующий разговор…
Сципион спросил, кого считает Ганнибал величайшим полководцем, а тот отвечал, что Александра, царя македонян, ибо тот малыми силами разбил бесчисленные войска и дошел до отдаленнейших стран, коих человек никогда не чаял увидеть. Спрошенный затем, кого бы поставил он на второе место, Ганнибал назвал Пирра, который первым всех научил разбивать лагерь, к тому же никто столь искусно, как Пирр, не использовал местность и не расставлял караулы; вдобавок он обладал таким даром располагать к себе людей, что италийские племена предпочли власть иноземного царя верховенству римского народа, столь давнего в этой стране. Наконец, когда римлянин спросил, кого Ганнибал считает третьим, тот, не колеблясь, назвал себя. Тут Сципион, усмехнувшись, бросил: «А что бы ты говорил, если бы победил меня?» Ганнибал… сказал: «Тогда был бы я впереди Александра, впереди Пирра, впереди всех остальных полководцев».
Этот замысловатый, пунийски хитрый ответ и неожиданный род лести тронули Сципиона, ибо выделили его из всего сонма полководцев как несравненного. {58}
Этот рассказ вполне может быть позднейшей выдумкой, к тому же его можно трактовать не только как скрытую лесть, но и как утонченное оскорбление.
Глава 3
ЗАВОЕВАТЕЛЬ МАКЕДОНИИ: ЭМИЛИЙ ПАВЕЛ
Луций Эмилий Павел (ок. 228 – ок. 160 гг. до н. э.)
«Я, – сказал консул, – сумею дать вам случай отличиться – это мой долг полководца; а вы вперед не загадывайте, ждите приказа и тогда покажите, какие вы воины». {59}
Хотя после 201 г. до н. э. Сципион достиг немногого и окончил свою жизнь в горьком уединении, начало II века до н. э. являлось временем больших возможностей для большинства сенаторов его поколения, достигших верховенства в общественной жизни Рима, в течение нескольких десятилетий. Тяжелые потери среди сенаторов в первых битвах с Ганнибалом ускорили подъем на политический олимп людей, которые достигли зрелости во время войны, и сильно уменьшили число выдающихся старых государственных деятелей, чей авторитет (auctoritas)обеспечивал им заметную роль в политической жизни Рима. Эти сравнительно молодые люди, наследники влиятельных семей или всадники, которых благодаря мужеству допустили в сенаторские круги, провели много лет в военных походах. Когда через несколько лет после победы над Карфагеном они достигли высоких должностей, и им поручили командовать республиканскими армиями, в их распоряжении оказались войска, в которых многие офицеры и солдаты были ветеранами Второй Пунической войны. Такое сочетание опытных командиров и ветеранов-подчиненных привело к тому, что легионы в течение последующих лет постоянно демонстрировали дисциплину и тактическое мастерство такого же высокого уровня, как при победах у Метавра, Илипы и Замы.
У армий и их командующих было достаточно возможностей проявить свою доблесть и мастерство. В испанских провинциях и в Цизальпинской Галлии войны велись почти постоянно.
Такие бои требовали немалых военных ресурсов от Рима, но не приносили славы полководцам. Самые впечатляющие победы после Второй Пунической войны Рим одержал над великими эллинистическими державами Восточного Средиземноморья, Александр Великий умер в 323 г. до н. э., не оставив после себя взрослого наследника, и его обширную империю вскоре стали раздирать на части его командиры, боровшиеся друг с другом за власть. В конечном счете появилось три знаменитые династии: Селевкиды в Сирии, Птолемеи в Египте и Антигониды в самой Македонии. Царства поменьше, такие как Пергам и Вифиния в Малой Азии, умудрились выжить на спорных территориях. В самой Греции сохранилось несколько независимых городов, среди которых выделялись Афины, но большинство других более или менее добровольно вошли в Этолийский или Ахейский союзы.
Хотя, язык государств греческого мира был общим, они никогда не стремились к политическому объединению, ценя прежде всего свою независимость. Единственное, что могло сплотить их на время, это необходимость объединиться для борьбы с более сильным врагом. Во время споров между городами, а зачастую и между группировками в пределах одного города, обычным делом считалось искать дипломатической и военной помощи у более сильных соседей. Эллинистические цари нередко призывали к себе в союзники одни греческие города, чтобы сражаться с другими, заявляя при этом, что они борются за свободу всех греков.
У Рима существовали дипломатические контакты с эллинистическим миром задолго до непосредственного военного участия в его судьбе. В 273 г. до н. э. он заключил договор о дружбе с Птолемеем II. В 229 и 219 гг. до н. э. республика вела войны с пиратскими правителями на Адриатическом побережье. Создание эффективного римского протектората на иллирийском побережье вызвало неудовольствие Филиппа V Македонского, который считал эту территорию сферой своего влияния. Вторжение Ганнибала в Италию и одержанные пунийцами крупные победы над римлянами дали царю возможность вытеснить незваных гостей и в 215 г. до н. э. он вступил в союз с Карфагеном против Рима. Это привело к началу Первой Македонской войны, поскольку римлянам каким-то образом удалось найти достаточно войск и средств, чтобы открыть новый театр военных действий в Иллирии и в Греции.
В этой войне не было больших, детально спланированных сражений, противники занимались набегами, устраивали засады и нападали на опорные пункты и города друг друга. Бо'льшая часть стычек происходила между союзниками обеих сторон, и когда Этолийский союз – на тот момент главный союзник Рима в этом регионе – заключил независимый мир с Филиппом V в 206 г. до н. э., у римлян не было сил продолжить борьбу. Через год военные действия официально закончились миром. После этого Рим сохранил своих союзников в Иллирии, но и царь удержал многие города, которые он захватил во время войны.
Подобный договор с уступками с обеих сторон, когда обе воюющие стороны сохранили еще немало сил на момент прекращения боевых действий, являлся обычным способом окончания войны в эллинистическом мире. Вмешательство нейтрального государства (в данном случае Эпира), чтобы побудить воюющие стороны начать переговоры, также было обычным делом. При этом противники Рима полагали, что республика окажется уступчивой на переговорах и, после страшных поражений в Италии, будет стремиться к миру любым путем. Однако, как уже говорилось выше, римляне перед лицом катастроф вели себя совсем иначе, нежели другие государства того времени. Их понимание боевых действий было совсем иным. Рим заканчивал войну, когда республика диктовала условия мирного договора разбитому противнику, подчиняя его своей воле. На данном этапе Рим готов был временно уступить и вести переговоры с Македонией как с равной, чтобы выиграть борьбу с Карфагеном. От того, что царь без всякого повода напал на Рим в то время, когда Ганнибал поставил республику на грань полного поражения, римляне могли испытывать только горечь. {60}
В 200 г. до н. э. – к этому времени еще и года не прошло после поражения Карфагена – Рим откликнулся на призыв Афин помочь им в борьбе с Филиппом V, объявив последнему войну. Победа во Второй Пунической войне дорого обошлась Риму и его союзникам в Италии. Потери были огромными, и большей части взрослого мужского населения пришлось пробыть много лет на военной службе без перерыва. Необходимость оплачивать, кормить и нередко снаряжать беспрецедентное число легионов опустошила казну республики. Почти десять лет грозные армии противников вели кампании в Южной Италии, забирая зерно и фураж или уничтожая урожаи и стада, сжигая поселения, убивая или обращая в рабство население. В наиболее пострадавших регионах на восстановление сельского хозяйства требовалось значительное время. Вся Италия была истощена, ей было необходимо время, чтобы придти в себя.
Эти настроения побудили центуриатные комиции [14]отклонить предложение консула Публия Сульпиция Гальбы «об объявлении войны Филиппу и подвластным ему македонянам, поскольку нарушили договор и напали на союзников Рима» {61}. Подобное нежелание воевать было исключительной редкостью. Перед вторым собранием Гальба обратился к гражданам и сделал все, чтобы убедить римлян в том, что Филипп V – их подлинный враг. Он упомянул, как легко будет македонскому флоту высадить армию на берега Италии. Он подчеркнул необоснованность спокойствия, заявляя, что, если бы римляне дали отпор Ганнибалу и всем Баркидам в Испании, вторжение в Италию никогда бы не произошло. Рассуждения консула задели слабую струнку в душах его слушателей, поскольку на этот раз подавляющее большинство проголосовало за войну.
Вторая Македонская война (200–197 гг. до н. э.) поначалу развивалась по той же схеме, что и Первая: небольшие бои и стычки. В обоих конфликтах Филипп V проявлял изрядный талант, руководя, маленькими отрядами, часто сам возглавлял атаки с копьем в руке в лучших традициях Александра Великого. В 199 г. до н. э. он укрепил долину, где между горами протекала река Аой, и расположил метательные орудия на этой очень сильной позиции. Римский командующий стал лагерем на расстоянии пяти миль, но не пытался пробиться через долину. На следующий год командование получил один из новых консулов, Тит Квинкций Фламинин. Ему было всего лишь тридцать лет, и он, будучи моложе, чем положено по закону для занятия столь высокого поста, победил на выборах главным образом благодаря своим заслугам на войне с Ганнибалом. После того как Фламинин не смог ничего поделать с этим оборонительным рубежом, местный союзник прислал проводника, который помог римской армии обойти позицию неприятеля с фланга. Македонцы понесли серьезные потери, но основную часть своего войска смогли увести.
К концу осени римлянам почти ничего не удалось добиться. Зимой Фламинин начал переговоры с царем и одно время казалось, что война между Римом и Македонией снова закончится договором в эллинистическом стиле. Фламинин беспокоился, что одного из консулов на 197 г. до н. э. пришлют ему на смену, и надеялся заслужить доброе имя за окончание войны пусть даже путем переговоров, а не благодаря победе на поле боя. Однако вскоре пришли письма от друзей в сенате, которые сообщали, что из-за кризиса в Цизальпинской Галлии обоих новых консулов должны отправить туда, а срок командования Фламинина будет продлен, в будущем году он станет проконсулом. Фламинин немедленно прервал переговоры, возобновил в начале весны боевые действия и разбил главную армию македонян в битве при Киноскефалах. {62}
Заключенный после этого договор больше походил на типично римский, так как в нем ясно давалось понять, что побежденный склоняется перед Римом. Филипп V уступил все города в Греции и Малой Азии, которые были у него в подчинении или считались союзниками, в будущем он не должен был вести войны за пределами Македонии без особого на то одобрения Рима. Царь обязался выплатить Риму 1000 талантов в качестве компенсации, а также передать всех римлян, захваченных в плен, и заплатить выкуп за своих собственных людей. Македонский флот был сокращен до нескольких военных кораблей, которые годились теперь разве что для проведения церемоний.
Данный договор не понравился Этолийскому союзу, который снова выступал как союзник Рима. Неудовольствие по поводу договора в сочетании с опасениями, что влияние римлян в Греции слишком возросло, привело к тому, что в 193 г. до н. э. этолийцы стали умолять Антиоха III освободить греков от иностранного гнета. Но лишь немногие города решились принять у себя войска Селевкидов, а Филипп V и Ахейский союз поддержали Рим. В 191 г. до н. э. армия Антиоха была выбита из ущелья в Фермопилах, ставшего знаменитым благодаря Леониду и его спартанцам в 480 г. до н. н. Римляне под командованием Марка Ацилия Глабриона, в точности как персы Ксеркса тремя веками ранее, нашли тропинку, идущую вдоль ущелья, и смогли напасть на врага с обоих флангов.
Затем война была перенесена в Малую Азию и достигла кульминации во время разгрома огромной армии Селевкидов Луцием Сципионом в битве при Магнезии. Договор, которым закончилась война, снова жестко ограничил возможности Антиоха вести боевые действия. Его флот был уменьшен до чисто символического размера, и царю запретили иметь боевых слонов. Как и в случае с Филиппом V, Антиоху не дозволялось вести войну или вступать в союз с государствами за пределами его царства. {63}
Преемник Сципиона, Гней Манлий Вульсон, прибыв в Азию, обнаружил, что война уже окончена. После безуспешной попытки спровоцировать Антиоха на новые боевые действия он начал кампанию против галатских племен в Малой Азии. Галаты являлись потомками галлов, которые переселились в эту область в начале III века до н. э., и с тех пор угрозами и силой вымогали товары у соседних племен. Они также часто служили в качестве наемников или союзников Селевкидов, что дало Вульсону повод напасть на них.
Во время недолгой кампании в горах три племени были разбиты, но по возвращении в Рим консула ждали неприятности в сенате. Его обвинили в начале несанкционированной войны ради личной славы и выгоды. Он мог лишиться права провести триумф, ему грозило судебное преследование, да и вся его политическая карьера могла закончиться. Наконец его друзьям при помощи довольно большого числа сенаторов, подкупленных добычей, захваченной во время кампании, удалось предотвратить подобное развитие событий, и триумфальная процессия Вульсона оказалось одной из самых ярких и запоминающихся.
Хотя политическая атака закончилась неудачно, во многих отношениях она походила на нападки в адрес Сципиона Африканского и его брата. Самому Фламинину удалось избежать таких прямых выпадов, но тем не менее победителю Филиппа V пришлось вытерпеть унижение, когда его брата Квинта исключили из сената за недостойное поведение. Брат Фламинина командовал флотом во время Второй Македонской войны и хорошо справлялся со своими обязанностями. Но впоследствии его обвинили в том, что во время пиршества он приказал казнить пленника лишь для того, чтобы доставить удовольствие мужчине, с которым состоял в любовной связи.
Все полководцы, которые успешно провели крупные кампании в восточном Средиземноморье, приобрели славу и вернулись с добычей. Но никому из них не удалось воспользоваться этим, чтобы, вернувшись в Рим, занять ведущее положение в политической жизни хотя бы на недолгое время. {64}
Третья Македонская война, 172–168 гг. до н. э.
Филипп V оказал помощь римлянам в их войнах с этолийцами и Селевкидами. Он готов был сотрудничать с Римом, понимая, что не в его интересах позволить Этолийскому союзу или Селевкидам усилить свою власть в Греции. Римляне всегда требовали от союзников, даже от тех, кого они только что победили, поддержать их во время новой войны с новым противником. Легионы, которые одержали победы в Киноскефалах, Фермопилах и Магнезии, получали в больших количествах зерно от Карфагена, который теперь стал верным союзником Рима. Тем не менее, македонский царь вскоре начал возмущаться наложенными на него в 197 г. до н. э. ограничениями и попробовал восстановить свою власть. Прежде всего он попытался найти поддержку у фракийских племен на северо-восточной границе, поскольку возможность его действий в Греции была сильно ограничена. Когда Филипп V умер в 179 г. до н. э., наследником стал его сын Персей, продолживший политику отца. Многие считали, что Персей организовал убийство Деметрия, своего младшего и более популярного брата, который жил некоторое время заложником в Риме, и считался настроенным в пользу Рима. Подозрения сената относительно нового царя подтвердились, когда он заключил союз с крайне воинственным германским племенем бастарнов и выразил поддержку городским низам в Греции. Македония перестала вести себя как положено зависимому союзнику, и в Риме ее начали рассматривать в качестве угрозы, хотя трудно сказать, насколько такой взгляд отражал действительное положение вещей. Нападения на римских союзников обеспечили традиционное оправдание для объявления войны Персею в 172 г. до н. э. {65}
Конфликт этот был едва ли не последней возможностью для поколения, которое сражалось во Второй Пунической войне и разбило Ганнибала, еще раз достойно проявить себя. Когда набиралась армия для отправки в Македонию, консул постарался включить в состав как можно больше офицеров и солдат ветеранов. Ливий сообщает, что возник спор, когда двадцать три бывших старших центуриона были зачислены в легионы в качестве обычных центурионов. Говорят, что представитель от этой группы, некто Спурий Лигустин, произнес речь, в которой рассказал о своей долгой и безупречной службе, и его в конечном счете назначили старшим центурионом триариев I легиона. Остальные согласились на любые посты.
Примечательно постановление, вынесенное сенатом. В нем говорилось, что никому из граждан моложе 51 года не будет дано освобождение от военной службы, если консулы сочтут нужным их призвать. Армия, посланная в Македонию, состояла из опытных солдат, хотя и довольно немолодых. В ней, вероятно, было немало людей, которые, как Лигустин, уже ранее здесь служили. Войско представляло собой стандартную консульскую армию из двух легионов; армия подобного типа разгромила Филиппа V и Антиоха Великого. В данном случае, однако, численность легионов была несравнимо больше. В состав каждого входило 6000 пехотинцев и 300 кавалеристов. Вместе с войсками союзников численность подразделений достигла 37 000 единиц пехоты и 2000 – кавалерии. {66}
Говорят, что Персей в начале войны смог выставить против римлян 39 000 пехотинцев и 4000 кавалеристов. Как армии всех эллинистических царств, македонские войска в своей организации, экипировке и тактика следовали традициям, заложенным Филиппом II и Александром Великим. Хотя в армии Персея присутствовали в небольших количествах наемники, а также союзники, основу армии составляли профессиональные солдаты, набранные из числа граждан. Подразделения фаланги, составлявшие более половины всей пехоты, набирались исключительно из граждан. В решающей битве, за исключением небольших набегов или осад, они сражались тесными группами, как пикейщики.
Сама пика, или сарисса (sarisa), по всей видимости, стала чуть длиннее, чем во времена Александра, и ее длина составляла 21 фут. На тупом конце сариссы имелся тяжелый бронзовый противовес, позволяющий солдату уравновешивать оружие. При этом держать пику надо было так, чтобы две трети длины выступало вперед перед солдатом. Поскольку удержать сариссу можно была только двумя руками, на плече у солдата висел круглый щит. Дополнительная защита обеспечивалась бронзовым шлемом, нагрудником (обычно из плотного полотна) и в отдельных случаях ножными латами. У каждого солдата имелся меч, но он служил в качестве вспомогательного оружия, а сила фаланги главным образом зависела от пик. При боевом построении ширина фронта для действий солдата составляла три фута. Существовало даже еще более тесное построение, известное как «сомкнутые щиты» (synaspismos), при котором каждому бойцу выделялся фронт лишь в 18 дюймов, но такое построение являлось исключительно защитным, поскольку в этом случае фаланга не могла перемещаться.
Из-за значительной длины сариссы наконечники пик первых пяти рядов выступали перед строем. Пока порядок боевого построения не был нарушен, врагу, нападающему спереди, было почти невозможно пробиться через эти выставленные в ряд пики и ранить самих бойцов. Однако из-за громоздкости сариссы и самого построения фаланги отдельному бойцу было трудно наносить сильные, нацеленные удары в противника. При фронтальном противоборстве четко построенная фаланга одерживала победы в основном благодаря своей выносливости, а не способности убивать врага и нарушать целостность его строя.
Фаланга стала доминирующим подразделениям в армиях преемников Александра. Другие подразделения пехоты, в состав которых обычно входили лучники и пращники, выполняли вспомогательную функцию. Такая же роль отводилась кавалерии, и именно в этом отношении тактическая доктрина более поздних эллинистических армий отличалась от додхода Александра Великого. Во времена Александра в больших битвах фаланга действовала в качестве главной ударной силы. Она приближалась к противнику, чтобы втянуть его в бой и затем оказывать постоянное давление на его центр. Далее, в подходящий момент тесно построенная кавалерия предпринимала решительную атаку на наиболее слабое место противника – обычно на тот участок, где строй был слишком растянут. Атаку кавалерии возглавлял отряд гетайров (товарищей), во главе которого мчался сам Александр.
Подобная тактика показала свою безжалостную эффективность при Иссе и Гавгамелах во время войны с персами Дария. Но преемникам Александра оказалось сложнее достичь такого же результата, сражаясь с армиями, действующими в македонском стиле – с такой же тактической доктриной и более компактным построением войска. Еще важнее было то, что распад империи Александра привел к разделению личного состава армий и возможностей самого Македонского царства. Цари-преемники предпочитали по возможности набирать основное ядро армии из потомков «истинных» македонцев, практически до конца исчерпывая ресурсы, и без того истощенные войной и колонизацией. Одним из результатов таких действий была невозможность быстро восстановить боевую мощь после серьезных потерь в бою. Таким образом, высоко профессиональные армии становились слишком уязвимыми.
Любое из этих царств не могло собрать большого количества кавалерии. Ограниченное количество людей и еще более ограниченные поставки подходящих лошадей делали эту задачу трудно выполнимой. У Александра было около 7000 кавалеристов и 40 000 пехотинцев в битве при Гавгамелах, соотношение получалось приблизительно один к шести. Это был очень высокий показатель, хотя он и уступал соотношению пехоты и кавалерии в армии Ганнибала в битве при Каннах – там это число достигло один к четырем. Армиям эпигонов редко удавалось достичь соотношения намного большего, чем один к десяти. Меньшая по численности, эллинистическая кавалерия во II и в III веках до н. э. также в целом уступали в маневренности, дисциплине и агрессивности всадникам Филиппа II и Александра.
Многие эпигоны пытались использовать необычное или экзотическое оружие, такое как слоны и колесницы скифов, надеясь приобрести за счет этого преимущество над противником, поскольку все армии были почти точной копией друг друга. Это повышало зрелищность военных действий, но не давало постоянного преимущества, к тому же удачные приемы вскоре копировались противниками.
В эллинистические армии данного периода входили различные типы войск, но между ними не было той согласованности в действиях, которой отличалась армия Александра. Можно сказать, что они больше напоминали дубину, чем рапиру. Как уже говорилось, Александр редко пользовался резервами и вместо этого развертывал свою армию таким образом, чтобы обеспечить согласованную последовательность атак, и сокрушить врага. Поскольку он обычно сам возглавлял атаку кавалерии, у него не было возможности посылать резервам приказы о вступлении в бой. Большинство его преемников руководили своими армиями в подобном стиле, тем самым значительно ограничивая свою способность отдавать приказы и реагировать на изменение ситуации после того, как сражение уже началось. Очень редко эллинистическая армия начинала бой, имея большой контингент в резерве, а не расположив все войска на линии фронта.
Из-за нехватки хорошо подготовленной кавалерии и невозможности полагаться на необычные виды вооружения фаланга приобрела еще большее значение в качестве основной тактической силы. Для увеличения ее мощи – особенно когда врагом выступала другая фаланга с пиками – стали использовать очень глубокое боевое построение. Большинство фаланг были, по меньшей мере, в шестнадцать рядов глубиной, а копейщики Селевкидов в битве при Магнезии образовали строй в тридцать два ряда. Более глубокие построения обладали большей выносливостью в бою – просто потому, что бойцам первого ряда было очень трудно отступать. К тому же такая фаланга выглядела устрашающе, даже если в действительности ее боеспособность была ничуть не больше, чем у менее глубокого построения с такой же шириной фронта.
Хотя ко времени начала войн с Римом эллинистические армии стали неповоротливыми и действовали примитивно, они все же могли при соответствующих обстоятельствах провести мощную атаку на передовые порядки врага. Такими важными условиями для успешных действий являлись плоская, открытая местность и сохранение боевого построения, а также надежная защита с флангов, потому что сами копейщики могли сражаться только с врагом, который находился прямо перед ними. {67}
Римляне впервые столкнулись с эллинистической армией в 280 г. до н. э., когда царь Эпира Пирр поддержал Тарент в его войне с Римом. Пирр считался самым способным военачальником своего поколения, и его стиль командования чем-то походил на александрийскую модель. Он разбил легионы при Гераклее в 280 г. до н. э. и на следующий год в Аускуле, но в конце концов потерпел поражение при Беневенте в 275 г. до н. э. Все эти битвы проходили очень упорно и обе стороны несли большие потери, когда мощь фаланги сталкивалась с природным упрямством и системой трехрядного построения, которая позволяла римлянам вводить в бой свежие силы.
Первым двум победам Пирра способствовали боевые слоны – эти животные были совершенно не известны римлянам и выглядели устрашающими [15]. Любопытно, что во время Третьей Македонской войны у Персея не было возможности получить боевых слонов, в то время как римлянам подобных животных поставили их нумидийские союзники. Более важным отличием конфликтов II века до н. э. от войны с Пирром был совершенно другой уровень римской армии. Многие легионеры, как и их командиры, участвовали в войне с Ганнибалом. Они также были хорошо вымуштрованы и уверенны в себе, как и подобает профессиональным солдатам. Во время Македонской и Сирийской войны мы больше не увидим столкновений между неопытным ополчением с одной стороны и закаленными профессионалами с другой. Более того, македонские и селевкидские солдаты, пожалуй, обладали куда меньшим боевым опытом, чем большинство легионеров того времени.