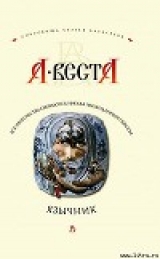
Текст книги "Язычник"
Автор книги: А. Веста
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 21 страниц)
– Быстро, клеим на форточку, – скомандовал он.
Вдвоем мы прилепили дымящуюся тряпку к решетке и подержали с минуту, пока она накрепко не примерзла к прутьям. Сразу стало тише и теплее.
Снаружи скрипнула дверь. Мы с надеждой дернулись к форточке, оторвали тряпку: один из азиатов зачем-то вернулся, мы вновь принялись заклинать выпустить нас.
– Нет ключи, – объяснил азиат, – офицера забрал…
– Спички, спички хоть оставь или зажигалку…
Азиат мотнул головой и побежал догонять товарища.
Наверное, солдаты собирались вернуться в лагерь по колее, ее еще можно было угадать посередине ровного, как стол, поля. Но снег валил все сильнее, шансов куда-то выбрести у них было мало. В заке вновь гулял ветер. Фокус с тряпкой зэки повторили самостоятельно.
– Что делать будем, сябры?
– Давай на фонт выкладывай, что у кого есть…
Заключенные выложили на пол вещи, заныканные при обыске: спички, заточки, сигареты, нож, сложенные в восемь раз купюры, «лапти» – бурые брикеты чая. У меня оказался полный пузырек йода, марганцовка и широкий бинт. Кто-то припрятал пару варежек из мешковины.
– Ну, у кого какая маза? Как будем отсюда выбираться? – как старшой «на дубке» повел речь Верес.
– Отсюда не уйти, греться надо. Когда-нибудь отроют.
– Нет, кисляк дело, замерзнем…
– Надо зак разломать или взорвать, пироксилинчику бы, мы бы его враз расчикали…
– Слушай, Верес, есть марганцовка, вату из «телушек» надергаем, нашкрябаем алюминиевых опилок, добавим сериков, небольшой взрыв устроить можно…
Пока мы совещались, стены и потолок зака проросли сосульками и хрупкими ледяными иглами. Я никогда не видел такого длинного густого инея. В складках одежды, в пазухах у горла и рукавов заискрился белый мох. День помутнел от метели. Света становилось все меньше.
Дистрофика, самого маленького и болезненного зэка, начал бить колотун. Его торчащий из-под шапки утиный нос побелел и заострился.
– Замерзаю, товарищи, помогите.
– Тамбовский волк тебе товарищ, бери лезвие, шкрябай стенку, авось согреешься.
– Варежки дайте, – и терпигорец принялся царапать алюминиевую стену автозака.
– Да ты не где попало бей, а на стыках, видишь, где клепки…
– Там и будем рвать, не пропадет твой скорбный труд.
– Нет, будем рвать пол, он тоньше стен, под ним – обапол, как-нибудь прорубим.
Маленький зэк с отчаянным всхлипом бросился на пол и принялся крошить алюминиевый лист.
Я разделил бинт на квадратики. На каждый лепесток мерзнущей щепотью отсыпал чая и завязал кульком. Это простое средство, положенное за щеку, в крайних случаях могло действовать как сердечный стимулятор. Лицо и руки уже драл мороз. Но вскоре ладони обморозились, онемели и лишь отдавали тупой болью. Сначала судорогой свело самые крупные и длинные мышцы, потом все тело зашлось в дробной тряске.
– Стоп, кодляк, кромсаем «телки»! Хоть руки погреем, – скомандовал Верес.
Он ножом отпазанчил клок ваты снизу телогрейки, так же поступили остальные.
Скудное синеватое пламя пожирало клочки зэковских ватников. Мы зачарованно смотрели, как горит, желтеет и бездымно исчезает вата, как пламя обиженно рыщет и, сглотнув последние остатки, нехотя угасает. Как только погас огонь, сразу резко стемнело, как это бывает зимой. В любом случае ждать нам до утра. Но до утра мы вряд ли доживем.
Нам все же удалось наскрести алюминиевых опилок со стен. Опилки смешали с марганцовкой и серой, нащипали ваты, туго завязали все это бинтом и засунули в щель под обшивку пола. Верес поднес спичку. Раздался легкий хлопок, взрыв слегка отогнул металлический лист. Несколько алюминиевых клепок выбило. В образовавшеюся щель легко заходила ладонь. Зэки по очереди принялись отгибать лист, чтобы расширить получившуюся расщелину. Но сорвать остальные клепки не получалось.
Часа через четыре отлетели еще две клепки, потом две последние. Сложив усилия, мы вручную выломали лист. Под ним оказался сухой чистый обапол. Нашей радости не было предела. Мы долго выжигали доски, запасаясь сладостным теплом. Ободренные удачей, мы выжгли пол и вывалились в образовавшуюся дыру.
Снежная буря продолжалась. Метров через десять видимость кончалась. Снаружи холод чувствовался сильнее и резче.
– Куда пойдем, братва?
– Все замело…
Не сговариваясь, мы побрели, как нам казалось, назад. Километрах в пятнадцати должен был проходить грейдер, по нему можно было вернуться обратно в лагерь.
Некоторое время мы держались кучно, слаженно ступая след в след. Снег был не очень глубокий, но ветер ревел и дул со всех сторон, сбивая с ног. О чем мы думали тогда? Из всех нас, пожалуй, только Верес мог года через четыре выйти на свободу, если продержится без драк. Большинство из нас уже давно выпали из мира, нас мало кто помнил, и почти никто не ждал. Кому были нужны наши жизни, этот мучительный безнадежный переход, неравная битва с холодом. Но каждый из нас любой ценой хотел сохранить свою каплю тепла. Мы шли уже довольно долго. Дистрофика мотало. Он шел последним, часто оседая в снег. Он-то и споткнулся о высокую темную кочку рядом с тропой.
Под снежной присыпью темнело нечто похожее на обрубок ствола.
– Никак бревно, погреться бы…
Мы наскоро разбросали снег. Выступило угловатое плечо с погоном. Это был «зяблик».
Косач быстро обшарил скрюченный пополам труп, кинул навзничь, достал из кобуры пистолет и запасную обойму.
– Пригодится, рвать так рвать… Ну, кто со мной, на свободу с чистой совестью? Эй, худышка, подгребай. До поселка добредем, приоденемся, билеты до Москвы надыбаем, и прощай, казенная фатера…
Дистрофик трусливо жался к нам, угадывая в приторно-сладком голосе недоброе. Все зэки знали лагерные былички про «побег с коровой», когда матерые паханы, сманив на побег простоватого урлака, несколько недель перехода питались его мясом. Тощий зэк наверняка болел и его, чтобы не лечить, сплавили в другой лагерь, но его теплая кровь и одежда могли ненадолго спасти Косача.
– Не… Я со всеми.
– Ладно, ништяк. Мне тебя в кипиш с собой тащить… Эй ты, «старшой, болт большой», ломай сюда кон, наводи макли и топай налегке, назад в светлое будущее.
Верес медлил. Жалкий общак был нашей единственной надеждой. Спички, чай, табак, нож, варежки. Косач навел дуло на Вереса.
– Снимай «телку», живо… и гнездо. Мне скоро костерок спонадобится, еще далеко пехать.
На пронизывающем ветру Верес снял телогрейку и шапку.
– Ништяк, не дрогни… «Зяблика» распетрушите, у него шинелка теплая…
Поводя дулом пистолета, Косач обобрал Вереса, на лету подхватил его куртку и шапку и пропал за снежной пеленой.
– Набрось, – я быстро стянул и отдал Вересу свою телогрейку и ушанку.
Вдвоем, стараясь не смотреть в лицо мертвого, мы расстегнули его портупею, вытряхнули из шинели труп, обыскали. Пожилой зэк забрал себе документы «зяблика». Я с трудом натянул твердое, ломкое от холода сукно и ушанку мертвеца. Но от движения я вскоре вновь согрелся. Теперь шинель грела не хуже телогрейки.
Загребая ногами сугробы, мы топали в снежное месиво. Ревела взбесившаяся пурга, идти становилось не под силу даже самым матерым и кормленым зэкам. Этот снежный переход спрессовался в моей памяти, и я уже не могу выделить отдельных событий, не могу вспомнить их очередность. Внутри провалов бушевала снежная буря. Это мог быть и час, и целая ночь. В памяти остались только минуты прощания. Обессиленные люди все чаще валились на снег. Дистрофик отставал. Он шел последним по рыхлой, пробитой в сугробах колее и часто вставал по-звериному, на четвереньки – отдыхал. Чтобы догнать нас, ему приходилось идти быстрее, не попадая в проложенные следы. Под конец он остался лежать. Он упал спиной к ветру, и над ним сразу вырос высокий сугроб-намет.
Я и Верес вернулись, подковыляли к нему. Дистрофик корчился на боку, уткнувшись носом в колени. Ресницы и брови его заиндевели, он громко сопел, жмурился.
– Оставьте меня, не хочу, – бормотал он.
– се, брат, отмучился… Лежи здесь. Все равно – амба!
Двое зэков тоже подошли и смотрели с брезгливой жалостью. Верес зачем-то потянул дистрофика за рукав, обтряс снег. Но тот отбоднулся из последних сил, плотнее свернулся, сжался, как утробный младенец, и спрятал кулачки на груди. Мы ушли не оглядываясь. Небо было темным, слепым, вьюжным, но снег подбеливал тьму, и мы видели впереди спину Вереса, он прокладывал путь.
– Все, привал, – выдохнул Верес. Он лежал на спине и тяжело дышал, хватая губами снег. Он даже ватник раскрыл на груди, словно ему не хватало воздуха.
– Кончается пацан, – сквозь вой пурги, прокричал пожилой зэк. – Не сберег силы-то, все впереди бежал.
Привалившись спинами, двое зэков уселись отдыхать. Вскоре пожилой подвалил ко мне и прогудел:
– Идти надо, замерзнем.
– Идите, я с ним останусь…
– Не дури, салажонок. Вставай, а то уснешь… Утром вертолеты пошлют…
Я помотал головой.
– Ну, как знаешь…Один пропадешь…
Я укрыл, как мог, Вереса от ветра. Он бредил, бился, рвал телогрейку и шептал, задыхаясь: «Люблю холод, лед… люблю…» Снег уже не таял на нем, а он все мучил ворот, словно ему не хватало воздуха. Если бы его зверски не избили летом, он бы не выбился из сил так рано. Помню, мне хотелось рыдать, выть по-волчьи, но Верес бы не одобрил. Я свидетельствую: смерть его была величава, как может быть величава смерть воина. Я знаю, он был лучше меня, смелее, чище, и от того жестче и нетерпимее к грязи. Он четко делил мир на черное и белое, а я был вечным пленником сумерек и полутонов. Перед смертью он ненадолго пришел в себя.
– Мамка будет плакать. А ты обязательно дойди… И еще… Стихи, читай…
В ладони его белел скомканный листок. Вокруг было темно, и я не видел строк, процарапанных на мятой бумаге. Я не знаю ни одной молитвы, но мне их всегда заменяли стихи. В тюрьме и в лагере они лечили и спасали меня. Достаточно было прочесть несколько стоящих строк, и я собирался с силами, сама собой распрямлялась согнутая страхом спина. Мерные звуки русской речи содержали в себе нечто священное, и я вспоминал, вернее, чувствовал гордость за то, что я русский, и меня невозможно растоптать, раздавить, уничтожить. Я вечен, как вечна Россия. Я прочел наизусть то, что выучил когда-то на пересылке. Губы леденели и не слушались.
– Спасибо, брат… Еще…
– …Мы русские, с нами Бог… – слова песни раздирали мерзнущую гортань, но изнутри от сердца приливала горячая сила, и я допел до конца. Я шептал ему на ухо «Пророк» Пушкина, «Выхожу один я на дорогу…» Лермонтова, Есенина, Рубцова и вовсе безымянные стихи. «Упал на пашне, близ высотки, суровый мальчик из Москвы. И тихо сдвинулась пилотка с пробитой пулей головы…», и снова есенинское, раздирающее душу: «…А меня, за грехи мои тяжкие, за неверие в благодать, положите в белой рубашке под иконами умирать…»
Он хотел еще что-то сказать, мучился, подбирая слова… Внезапно снег кончился, лишь редкие снежинки сыпались с угольно-черного неба. Небо изнутри вздрогнуло, полыхнуло зарницами. И над заснеженной тундрой, над волнистым саваном заиграло Северное сияние. Зеленые полосы разворачивались во всю ширину неба и трепетали, как флаги на ветру. Когда я вновь взглянул на Вереса, он уже не дышал. Я распрямил его тело, сложил руки на груди. Подумав, снял с него шапку. Из-под нее волной высыпались на снег золотые пряди. Три года я видел его бритым, и еще несколько часов назад, влезая в зак, он был настоящим скинхэдом, и эта охапка волос цвета спелой ржи была чудом, которое иногда являет смерть. Северное сияние скользило по его лицу резкими всполохами, словно оно еще жило мучительной и страстной жизнью. Стоя над ним, я хотел запомнить, унести с собой его последний облик. Лицо его крупно вспотело и разгладилось, потом лед оковал его прозрачной стеклянной корой, золотые пряди смерзлись и заискрились…
Я пытался воскресить его в памяти таким, как в нашу первую встречу; задиристым, злым, готовым весь мир перекроить и вызвать на бой. Но запомнил другим: ледяным, бескровным, но не побежденным. Уходя все дальше, я думал, как он спит посреди тундры в ледяном саркофаге, думал о том, что он заслужил красивую смерть.
Откуда мне было знать, что в первый же спокойный от вьюги день сюда нагрянут песцы, они перевернут и растеребят смерзшееся тело. Вереса найдут ближе к лету, когда по тундре рванут на вездеходах промысловики и старатели. По единственной уцелевшей на груди лагерной сичке с моим номером его примут за меня, наскоро опознают, невзирая на разницу в росте. Его захоронят по моим документам, а меня навсегда вычеркнут из списка разыскиваемых милицией особо опасных преступников.
* * *
Пьяный голос Глинова разбудил меня. Я вновь был на крохотной закопченной кухне, сизой от табачного чада.
– Только вот зачем тебе соваться в это кровавое дело, понять не могу. Жил бы да радовался, что на воле… Нет, ты снова туда лезешь, где с потолков кровь капает…
– Я должен правду узнать…
– Ну, ты и впрямь маньяк… Где же ты правду-то эту живьем видал?
– Скажите, Никанор, а что можно узнать по отпечаткам пальцев?
– Ну, само собой, первым делом идентифицировать личность. Пол, возраст, состояние здоровья. Теперь по ДНК смотрят, еще год назад этого не было. Отпечаток, капля крови, пота, – и уже полная картинка… Сейчас у розыскников такие программы запущены, за минуту все раскумекают. А если «пальчики» в картотеку занесены, то и фотку и домашний адрес выдадут… Да не кисни, все будет елочки…
Я простился с Глиновым. Он обещал мне позвонить, но не раньше, чем недели через две. Деньги он все же взял «на подмазку» специалистов в Управе, дело-то, практически, «личное»…
Несколько недель я бился с созданием «феникса» белой крысы. У меня была всего одна капюшонная крыса, белая, с бурыми пятнами на боках. Я звал ее Белоснежкой, за неприхотливый и ласковый нрав.
Для видимости я тщательно вел дневник с подробным описанием опытов, аппетита, реакций и анализов Белоснежки, скрупулезно записывал составы белковых препаратов и растворов. Но кровь, взятая у Белоснежки и погруженная в эликсир жизни, не обладала способностью к восстановлению. В результате у меня имелись несколько лампад ее жизни и ни одного воскрешенного «феникса».
Страшная догадка посетила меня внезапно. Пока Белоснежка жива, ее кровь не может вести себя иначе. Значит, был какой-то еще не познанный мною закон, о котором не знали или умалчивали алхимики прошлого.
«Аще зерно падши в землю не умрет, то будет одно… А если умрет, то принесет много плода», – бормотал я, как заклинание. Моя Ная мертва, значит, ее существо, ее призрачный план заключен в капле крови, которая хранится в эликсире жизни вот уже семь лет. Чтобы перевести астральное тело, «феникс», Белоснежки в частицу ее крови, надо умертвить ее.
Кто-то из французских натуралистов, кажется, Кювье, мог по одному-единственному зубу или фрагменту кости восстановить облик живого существа. Я как мистик-самоучка могу утверждать, что каждая капля нашей крови, каждая клетка сохраняют голографическую матрицу нашего внешнего облика и внутреннего строения, это «тело света», которое умели вызывать средневековые оккультисты в виде привидений и «фениксов».
В моих опытах частицы земного вещества собирались вокруг «тела света», они намагничивались и уплотнялись по вполне естественным и изученным законам. Теоретически таким могло быть таинственное воскрешение перед Страшным судом. Ученые древности знали о его реальности.
Воскрешение бередит умы с тех пор, как существует человечество. И каждый народ и новая эпоха привносят нечто новое, свое в эту мечту. Русские – народ миссионерского прорыва в неизвестность, и идея воскрешения была всегда близка нам, как ведическому и православному народу. Воскрешением бредили многие русские ученые. Не зная путей к нему они тем не менее считали его реальным и осуществимым. Сто лет назад философ Федоров призывал воскресить всех предков человечества и расселить их на ближайших к Земле планетах. Он считал это святым долгом потомков по отношению к отцам. Насильно оторванная от христианства идея воскрешения, как вещая птица, носилась в воздухе революции среди столь же сумасшедших и странных идей. Но человечество двигают вперед именно безумцы. Это уже потом толпы «разумных» бездарностей возводят храм прогресса и пользы на костях затоптанного первооткрывателя.
Услужливая память подбрасывала в мой горящий мозг все новые «поленья». Как там у поэта? «Не листай страницы, воскреси!..»
…когда-нибудь,
дорожкой зоологических аллей
и она —
она зверей любила —
тоже ступит в сад,
улыбаясь,
вот такая,
как на карточке в столе.
Она красивая —
ее, наверно, воскресят.
Ваш
тридцатый век
обгонит стаи
сердце раздиравших мелочей.
Нынче недолюбленное
наверстаем
звездностью бесчисленных ночей…
Значит, и Маяковский, неуклюжий громила, такой же одинокой, выпитой до дна ночью страдал и знал настоящую, «безумную» любовь.
На Востоке безумствующего от любви называют «меджнун». В наших северных широтах этот вид безумия встречается редко. У меня он принял форму напряженных научных поисков.
Мои руки тряслись, когда я делал Белоснежке усыпляющий укол. Жизнь лабораторного животного коротка… Я похоронил ее в саду, под кустами поблекших, осыпавшихся гортензий. Был конец октября. Лил бесконечный осенний дождь, предвестник снега. Я вымок и дрожал в ознобе, из носа текло. Чтобы немного успокоиться, я зашел к себе во флигель, встал под горячий душ. Потом, мокрый, трясущийся, завернулся в одеяло и пролежал так всю ночь.
К утру я вернулся в лабораторию, разжег горелку и нагрел донце просторной колбы, где на самом дне, растворенная в эликсире жизни, алела кровь Белоснежки. Она явилась так же, как являлись все прочие «фениксы». Немного прозрачная, слабо-окрашенная. Но в целом совершенно такая, как была при жизни. Она суетилась и лапами пробовала на прочность стекла колбы, волоски коротких усов подрагивали в усмешке, а розовато-прозрачный хвост не помещался и загибался вверх.
Ее призрачное бытие в «хрустальном гробу» было промежуточной реальностью между грубоматериальным и «небесным» существованием. Энергично двигаясь, она словно спала с открытыми глазами. Такими же эфирно-воздушными, еще не облеченными в кожаные ризы плоти, могли быть первые райские сущности, первые звери, первые люди. Вероятно, так же выглядели призрачные «гомункулусы», которых умели являть алхимики прошлого. Этим занимался и великий чародей Джузеппе Бальзамо, и граф Калиостро, и Франческо Прелати, личный маг барона Жиля де Ре, и знаменитый алхимик Фламель. К сожалению, алхимия лишь в редких случаях оставалась безгрешным искусством, и многие, столкнувшись с первоначальными трудностями, обращались к помощи потусторонних сил. Моя «генезия» теней оказалась сродни утонченной некромантии. Когда-то на магической заре человечества некромантией называлось вызывание духов умерших для пророчеств и гаданий. В средние века, с рассветом алхимии и проникновением ее в умы высшего сословия, некромантами стали называть дерзких магов. Так в «Декамероне» Боккаччо (десятый день, пятая новелла), влюбленный сеньор Ансальдос с помощью некоего некроманта создает в январе цветущий сад, чтобы исполнить желание своей дамы сердца, прекрасной Дианоры. Правильно поставленный опыт по растительной «генезии» вполне мог дать подобный эффект.
Мудрый Антипыч не понаслышке знал о некоторых приемах деревенских колдунов, довольно жутких, но всегда безотказных, таких, например, как составление «мумий». Описание этой практики мне попадалось и в трудах Парацельса. «Мумию» болезни полагалось зарыть на кладбище в день похорон, и болезнь «умирала». В отличие от Оэлена, старик никогда не пользовался внешними эффектами для достижения особого ража. Он всегда был «в силе», всегда добр, умиротворен, полон ровного благожелательства. Это отличительная особенность русского ведовства. Народная душа полностью раскрывается в рискованной игре с природой, оставаясь на стороне добра и света.
Куда заводит любовная тоска по умершим, я знал от своего старика. Антипыч был уверен в реальности такого демонического, но повсеместно известного явления, как «любостай»: темный дух, навещающий вдов и разлученных жен под видом любимого мужа. «Беда, если любак с собой звать начнет, а так ничо, мужик, как мужик. Вот что бабы-то, кто посмелей, сказывали. В войну часто бывало: если искры из трубы снопом валят, значит, в избе уж он – любак», – и старик лукаво усмехался в бороду.
Деревенский знахарь знал предел, отпущенный человеку, за который опасно переступать. Я же шел напролом. Первой наградой за мою смелость стало полупрозрачное существо, внешне неотличимое от крысы.
На этом этапе опытов и исканий я убедился, что, поддерживая в колбе постоянную температуру, равную температуре крысиного тела, а это немного теплее человеческого, можно круглосуточно наблюдать жизнь привидения. Белоснежка засыпала и просыпалась «вместе с солнцем», шевелилась, суетилась, словно выискивая нору или уголок потемнее, пыталась взобраться по гладким стенкам сосуда, умывалась и ухаживала за шерсткой, то есть имитировала все особенности жизни своего племени.
Животная душа, «анима» древних, присутствовала в созданном мной фантоме. Не хватало только физической жизни, напряжения нервной системы, импульсов, рефлексов, эмоций, бега горячей крови; всего того, что делает существо подлинно живым. Следующим этапом моей работы было облечение фантома в «грешную плоть», хотя у животных плоть, по всей видимости, абсолютно безгрешна. Я должен был вернуть ей плотное осязаемое тело, со всеми функциями, присущими живому. В эту область не заглядывал никто из известных мне алхимиков, и я был готов двигаться вслепую, на свой страх и риск. За этой гранью физика смыкалась с метафизикой и начиналась неисследованная область, территория Творца, куда мне с моими скудными познаниями вход был заказан.
Несколько дней я провел в торопливых предварительных опытах.
В одну из бредовых ночей, когда я, окончательно отупев, вновь и вновь вымучивал свой мозг, как загнанную лошадь, пытаясь нащупать дальнейший путь, в моей лаборатории раздался звонок. Я долго не слышал призывного теньканья, и когда все-таки взял мобильник, то различил только далекие всхлипы и сопенье. Номер был Лягин.
– Ляга, это ты? Что случилось? Ты что, опять напился?
В трубке раздался протяжный страдальческий стон.
– Нужна помощь?
Трубка призывно захрюкала.
– Сейчас еду, слышишь, еду!
Была вторая половина ночи, я растолкал спящих охранников и вывел машину на шоссе. Навстречу мне сквозь дождь ударили фары. Я успел прижаться к обочине. К имению на приличной скорости несся черный автомобиль, похожий на роскошный катафалк. В слабом свете внутри салона я разглядел Абадора.
Я долго звонил в дверь, стучал, пока дверь сама не подалась от моих беспорядочных усилий. В квартире было темно.
– Сашка, ты живой?! – позвал я в темный проем.
Что-то булькнуло и заерзало в дальней комнате. Я попытался включить свет, но электричество было вырублено. Ощупью двинулся на звук. Темнота хоть глаз коли. Я раздернул гардины и впустил немного света с улицы. На полу корчилось толстое тело Ляги, руки и ноги были скручены. Его рот от уха до уха был заклеен широким скотчем. Я быстро достал нож – я с ним не расстаюсь – разрезал путы.
Ляга плакал и растирал затекшие, вспухшие, как подушки, ладони.
Я принес воды, напоил его, потом перетащил на кровать.
– Умираю… пить…
– Что случилось? Ограбление?
– Да, да… Эти сволочи все унесли…
– Но все, кажется, на месте.
– Архивы, – прорыдал Ляга. – Они украли архивы. Трое в масках, я пришел, а они уже здесь орудуют. Твари… скрутили, избили…
– Тайник и тот осквернили, – рыдал Ляга. – Готовый роман унесли. Помнишь фильм «Гиперболоид инженера Гарина»?
– Помню.
– «Лучи Филиппова» могли стать открытием века!
– Ты успокойся, и все по порядку. Что за лучи?
– Они могли вызывать возгорание и даже мощный взрыв в любой точке пространства. Плесни-ка мне на донышко… Это же совершенный тип «чистого» оружия, – булькая горлом, продолжал Ляга.
К нему быстро вернулись обычное остроумие и ирония…
– Так вот, использование этого абсолютно нового вида передачи энергии сразу отменяло бы миллионы тонн артиллерийской стали. «Чистое оружие» действовало мгновенно, эффективно и не несло экологических последствий. Похоже, в начале прошлого века в околоземное пространство проник «вирус» гениальных идей и изобретений! Суди сам! Никола Тесла разработал и осуществил идею беспроводной передачи электричества на большие расстояния. Я уверен, что Тунгусское чудо было следствием одного из его экспериментов 1908 года. Ни одного метеоритного осколка в районе Подкаменной Тунгуски так и не нашли. Тогда же придумали радио, зеркальное телевидение с механической разверткой, самолеты, подводные лодки, торпеды, ракетные установки и первые конструкции космических аппаратов, родилась ядерная физика и многое, многое другое, на чем паразитировало человечество весь двадцатый век. Но вот штука: авторы многих изобретений исчезали бесследно, при загадочных и трагических обстоятельствах. Мой предок терпеливо копил подлинники и копии этих дел. Там были вырезки из «Ведомостей», «Нивы», «Журнала Министерства народного образования», «Артиллерийского журнала», «Трудов Академии наук»… Да я такое накатал! Представь: апрель 1903… Михаил Филиппов, профессор Санкт-Петербургского университета, найден мертвым на пороге своей лаборатории… После его смерти охранка изъяла всю научную документацию и оборудование… Я уверен, что тайные общества уже несколько столетий ведут настоящую охоту за изобретателями. Мой предок спрятал документы с личным умыслоАм. Может быть, продать хотел, а может быть, спасти от грязных рук. Ты представляешь, на каком сокровище я сидел!
– Скорее, на пороховой бочке…
Немного успокоившись, глотнув еще виски, Ляга рассказывал дальше.
– Дом этот старинный. В каждой квартире есть небольшой чуланчик, там раньше была «черная» лестница для прислуги. Чисто жили бары. По этим лестницам еще революционеры линяли от тупорылых жандармов. Любовники могли навещать свой «предмет», не тревожа швейцара. Лет семьдесят назад, в роковых «тридцатых», мой прадед заделал этот чулан из опасений. Ну, так и жили все годы. А в прошлом году женушка моя затеяла евроремонт, будь он неладен! Столько укромных уголков истребила, а там память жила, сверчки, домовые, призраки предков… Картины распродала, гравюры старинные подчистую вымела. Теперь все пусто, голо, все блестит и скука смертная – повеситься хочется… Но главное не это…
Когда перегородки сломали и до чулана добрались, там за кирпичной самодельной кладкой обнаружился тайник. А в нем – секретный архив. И кого бы, ты думал? Самого Бенкендорфа! Конечно не весь, но можно сказать, материалы государственной важности. Ты, наверное, знаешь, что после смерти Михайлы Ломоносова Тайная канцелярия вывезла весь его архив? И следы его с тех пор считались потерянными. Так вот, среди томов и папок различной толщины и ценности я нашел тетрадь Ломоносова: «Розыскание о генеалогии русских царей…» Ломоносов восстановил родословное древо русских царей Рюриковичей аж до середины XVIII века! Но эти материалы почему-то не были включены в его главное историческое сочинение: «Древняя Российская история от начала российского народа до кончины великого князя Ярослава I или до 1054 года», которое так и осталось незаконченным и было издано уже после его кончины. Заметь, тогда еще Ярослава величали «Первым», а не «Мудрым». Оказывается, на протяжении столетий существовала и даже здравствовала эта монархическая ветвь. Так вот самое интересное для нас в этой истории начинается уже после княжения Ярослава Мудрого. Если рассматривать наследование по материнской линии от дочери Ярослава Мудрого, изображенной на фреске Софийского собора в Киеве в образе «девы с золотой гривной»…
– Гривной?
– Ну да. Это украшение такое… Так вот, эту ветвь Рюриковичей можно рассматривать как тайную хранительницу крови. Многие секреты русской истории глубоко похоронены, и надписи на могилках давно и не без умысла подправлены. «Самозванцы и самозванки» могли иметь совсем другие причины появления, чем личные амбиции. Что-то здесь не так. Сакральная власть над Русью была утеряна со смертью последнего Рюриковича – царевича Дмитрия. Некогда Русь, Польша и Литва, и даже Швеция, были единым монархическим пространством. Ярослав Мудрый был женат на Ингигерде, дочери шведского короля. Есть свидетельство, что в шестнадцатом веке между Россией и Швецией был заключен династический договор, по которому, в случае прерывания королевской династии, Швеция должна была войти в состав России и наоборот. Оттого-то, может быть, и поперли поляки во главе с Сигизмундом в Смутное время, и шведский король Карл XII путал русский престол с собственным.
После всех вывертов Петра I, который сломал древние правила престолонаследия и умер, не оставив завещания, после череды морганатических браков и отречений – Романовы утратили сакральное право царствовать. Династия Романовых была обречена. Но и тогда тайная ветвь не вышла, не обнаружила себя. Ну а теперь самое главное, – ты знаешь, кто такая Денис?!!
– Нет… Да мне и не очень интересно…
– А жаль! Ну, я тебе раскрою эту тайну. Конечно, я не Ломоносов, но все же… Так вот, она – истинная царица, Рюриковна, единственная подлинная наследница престола русских царей!!! Но у нее, естественно, пока другая легенда… Я запрашивал о ней через «Интерпол». Наша принцесса, вернее, княжна, родилась и выросла в Швейцарии, среди эмигрантов, потомков светлейших князей, баронов и кавалергардов. Как положено, дома – только русский язык, балетная школа, благотворительность, православный обряд. Но главное не в этом. Дионисия – хранительница избранной крови. Она способна восстановить угасшую царскую ветвь подлинно русских царей. Она наследница княгини Ольги, Ярослава Мудрого и Александра Невского. В ее родословной насчитывается двенадцать святых! Ты видел ее? Царица! А сколько простоты и благородства! Так вот, в архивах Ломоносова названы все ее предки за пять сотен лет. Именно это могло возвести ее на российский престол, если таковой будет восстановлен.
– Прости, Ляга, но мне эти монархические грезы кажутся бредом. Истинная царица, да еще вооруженная гиперболоидом… Как сюжет для бульварного романа – сгодится. А так – кисляк дело… Сейчас это уже никому не нужно!
– Вот сейчас-то и пришло время, когда в мире не осталось ничего подлинного, а у людей не осталось веры и надежды, что их когда-нибудь перестанут обманывать, их душами и жизнями когда-нибудь перестанут играть. В надежде на духовные запросы народа в Россию привезли толстенького царенка Гогу Гогенцоллерна. Затаились где-то, как короеды, и ждут благоприятного политического климата. Ты веришь в пророчества?








