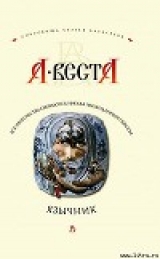
Текст книги "Язычник"
Автор книги: А. Веста
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 21 страниц)
– Вот как? Почему?
– Доказано, что все живые существа в процессе внутриутробного развития зародыша повторяют эволюционный путь своего вида. Так вот детеныши шимпанзе и горилл становятся обезьянами лишь на последнем этапе, а до этого они развиваются по людскому плану. Эти виды обезьян – бывшие люди.
– Неприятная новость… Это достоверно?
– Абсолютно… У приматов хромосом немного больше, чем у человека. Предки обезьян были людьми, но утратили признаки человека – речь, способность к труду, культуру, хотя у шимпанзе сохранились остатки дикарских обрядов. К тому же приглядитесь: гориллы – чернокожие. Они наверняка произошли от негроидов, а шимпанзе – белые.
– О, вы совершенно убедили меня. Я велю переставить клетки. Вот что, Демид… я предлагаю вам работу врача.
– Вы хотите сказать, ветеринара?
– Нет, уважаемый, берите выше – личного врача Денис. Она на редкость здорова. У вас будет мало работы, и вы сможете заниматься своими удивительными опытами. Но это еще не все. В дальнейшем…
– Я согласен, – слишком торопливо произнес я.
– Отлично! Я прикажу приготовить флигель. В случае успеха у вас будет собственный дом, прислуга, хороший автомобиль, яхта и тысяча мелочей, украшающих тусклое земное бытие. Ваш личный счет в банке будет открыт сегодня же весьма круглой суммой.
Этот день начался для меня с деревенской избы и пыльного сельского тракта, а закончился в имении нефтяного короля. Но я смертельно устал, поэтому предложение управляющего я воспринял с плебейской поспешностью.
Едва получив ключи от флигеля, я с облегчением покинул странный карнавал, пышностью напоминающий пир Валтасара.
Во флигеле оказалось три небольшие комнатки: кабинет, гостиная и спальня. Из спальни головокружительно пахнуло лавандой. Сквозь витражные двери теплился розовый ночник, белели высокие подушки. Не мешкая ни минуты, я переступил порог спальни и… споткнулся, как если бы под моей ногой внезапно раскрылась пропасть.
* * *
Я едва устоял на ногах: на полу лежало белое вафельное полотенце.
Такое же полотенце полетело мне в ноги семь лет назад, когда я впервые переступил порог общей камеры. К этому времени я уже прошел милицейский «аквариум», ИВС, но почти ничего не знал об обычаях тюремной «прописки».
После оформления «бирок», санобработки, досмотра, фотографирования и снятия «пальчиков» я оказался в помещении, напоминающим небольшой спортивный зал с лавочками вдоль стен. Это был сборный пункт, «вокзал» на тюремном жаргоне. Вокзал был набит под завязку. Атмосфера здесь была специфическая. «Ваньки», деланные психи, извращенцы со стремными статьями и те, кто уже успел «наломать дров» в общей камере, с особым сладострастием «выламывались» на сборке и корчили из себя невменяемых, чтобы избежать отправки по хатам.
Мой сосед по лавочке оказался неприметным человеком, но в движениях его сквозила неожиданная резкость и поджарая хищная собранность. Одет он был очень скромно, даже бедно, но как-то по-особому аккуратно. Я вспомнил, что уже видел его на досмотре. Когда конвоир заставил его поднять руки, он весь скривился от боли. Правую руку во время обыска он поддерживал под локоть левой.
После внезапного вечернего шмона обитатели сборки долго успокаивались, то там, то тут вспыхивали скандалы. Мне предстояло коротать ночь, скрючившись от холода, прямо на голом цементном полу. Меня взяли в предпоследний день мая. Наступил сентябрь, а на мне были только джинсы и серая от грязи спортивная майка.
– Болит? – тихо спросил я незнакомца, указывая глазами на его плечо.
Человек только зыркнул на меня пустыми серыми глазами и отвернулся. Я еще не знал, что любое проявление жалости или сострадания в тюрьме или на зоне влечет тяжелый позор и опускание в ранге.
– Я могу вам помочь, если это бурсит или застарелый вывих…
– Отвали, – без выражения ругнулся он, – лепила несмазанная.
– За что сел? – минут через сорок тихо спросил незнакомец. – Только не ври, по жизни фуфлыжник хуже педераста, пацаны все равно раскоцают.
– Сто семнадцатая часть четвертая и сто вторая часть «Е», – отбарабанил я. – Но, поверьте, я не убивал, я…
– И не насиловал, только ноги держал и свечку, – осклабился он, и во рту его заиграл ряд золотых фикс. – С твоей статьей в общак соваться – амба. Здесь «черная зона», правят авторитеты, в абвер стучать бесполезно. Гапоны обязательно стукнут обратно в камеру и тебе кранты.
– Так я же не виноват, ну совсем не виноват, понимаете…
– Дурак ты, студент… Вот для примера, какой-нибудь конкретный шпан на себя чужое дело погрузит – почет по понятиям. А дуриком сесть, да еще за бабу – это «бездорож», глупость, братва «шерстяных» не прощает. Ладно, костоправ, амбразуру прижми, может, и пронесет. И грабку посмотри, пока тебя всей камерой в дележку не долбанули.
Он расстегнул пиджак, рубаху и оголил обклеенное наколками плечо. Я ощупал дельтовидную мышцу. Обилие мастерски вытатуированных икон и церковно-славянских аббревиатур я понял весьма своеобразно, я еще не знал, что такой сюжет – принадлежность к высшей воровской касте, и решил, что передо мной оступившийся, но в душе глубоко религиозный субъект. Сустав лучевой кости был деформирован, и не вмещался в выемку. Артрит, или ревматизм… В этом случае нужно долгое и сложное лечение. Простой вывих я бы вправил, но здесь признал полное свое бессилие.
– Иди к ляду, живодер! – выругался страдалец. – Не умеешь, не лезь.
«Вокзал» готовился к ночи, кто-то выл и стучал о стену головой, симулируя помешательство, кто-то из «косарей» от нервов обгадился в штаны, и в этом углу стояла ругань и гвалт.
Я уткнул лицо в колени и зажал ладонями уши. Полтора месяца назад, на суде, я отказался от всех своих показаний и был отправлен на повторное освидетельствование в «спецпсихушку». Через месяц меня признали вменяемым. На последнем допросе взбешенная следователь прокуратуры Зуева в красках расписала мне мое будущее в «пресс-камере», пообещав, что в первую же ночь мне, как «отрицалу» с «шерстяной» статьей, выбьют все зубы и оприходуют – не таких обламывали. Ввиду такого будущего я собирался сделать что-то такое, чтобы меня почти сразу убили сокамерники. Может быть, плюну в рожу авторитету или…
Я долго не мог заснуть. За эти три с половиной месяца следствия, судебных заседаний и «лечения» я отупел и свыкся с допросами, неволей, но не с обрушившимся на меня ужасом и мраком. Я был живой, я думал, помнил, шевелился и даже временами безумно надеялся на что-то, а она лежала в земле, и ей было холодно и страшно. Я слышал ее голос, она все еще была где-то близко. И, возможно, она тоже спрашивала у неба: «За что?» В чем мы согрешили так страшно, что оказались разбиты и разметаны по разным мирам?
Но если радость и страдание должны в конце жизни уравновеситься и прийти к нулю, то, должно быть, сейчас в эту минуту я искупал радость наших встреч. И то прежнее счастье я не искуплю никакими страданиями тела и души. Я твой должник, Господи… Ты открыл мне сокровенное в любви этой девушки.
После отбоя охранники вырубили свет, и в темноте человечье стадо завыло и завозилось еще громче. А я, как всегда, когда действительность становилась невыносимой, отключился и убежал туда, откуда нас никто не в силах выгнать.
* * *
– Студент, проснись… Не спится что-то, давай покуликаем по-свойски…
Вокруг была слепая тьма, нестерпимо воняло дерьмом, тяжело, натужно дышали люди, бились в судорогах, стенали во сне.
– Что?.. Может, утром?
– Утром меня здесь не будет… Расскажи дело, как попу, а я, глядишь, и отпущу твой грех, если потрафишь…
Я как можно суше рассказал ему о своей последней майской встрече с Наей, в ночь на тридцатое мая, о том, как проводил ее до оврага, и утром проснулся на той самой коечке, в ворохе душистых, пахнущих ею простыней. А проснулся от резкого толчка в спину.
– Вставай, козел…
В окна било полуденное солнце, вокруг толпились люди в сером. Я не сразу понял, что это милиционеры. Амбулатория и маленький больничный сад были полны милиции, захлебывались яростью серые псы, пыхтели милицейские «канарейки».
Опер почти голого выволок меня в приемный покой и бросил лицом в окровавленные тряпки. Выкручивая руку, он шипел мне в ухо, что я изнасиловал и убил девушку. На меня надели наручники, пристегнули к спинке чугунной кровати и стали лупить дубинками. Били в пах, с корнями рвали волосы, долбили по щекам, выкручивали руки, я пускал кровавые пузыри и мычал, что ничего не знаю.
Меня кое-как одели. Привели понятых, какая-то старуха в черном бросалась на меня, царапала лицо и плевалась. Оказалось, что месяц назад я изнасиловал и убил школьницу в соседнем поселке Соколово. Там на месте преступления остались изобличающие меня бумаги и даже личные вещи. Опер истерично давил, обещая отдать меня на растерзание родственникам убитой, если я вздумаю отпираться.
В амбулаторию ментов приволокла служебно-розыскная собака, она и вытащила из-под крыльца одежду убитой Натальи Васильчиковой. Когда я наконец-то понял, что убитая и есть Ная, я «отключился»… Спустя годы помню только бешеные глаза опера Глинова и его хриплое: «Ну что, мудак, показания давать будешь?!!»…
«Вольтанувшегося» на первом допросе преступника опер сдал на руки следователю Зуевой. Меня бросили в уазик зверски избитым и, как думали, раскаявшимся. Все мои последующие попытки отрицать свою вину, встретиться с адвокатом или с Лягой, были безуспешны. Зуева твердила, что если я не признаюсь в совершении преступления, моя смерть в камере уголовников будет мучительной и долгой. А если признаюсь, то ни в СИЗО, ни на зоне никто не узнает о моем «букете».
Говоря тюремным языком, «на мне горели бусы». В моей лаборатории на стенах и дощатом полу была обнаружена кровь убитой Натальи Васильчиковой. Экспертиза показала, что именно я садистски насиловал девушку перед тем, как убить ее. Потом, по версии следствия, я сбросил тело с обрыва, отчего и последовала ее смерть от кровоизлияния в мозг, но и этого мне показалось мало. Я раздел ее и забросал тело валежником, после безуспешно пытался сжечь, облив бензином. Но после ливня все было мокрым, и костер сразу потух. Вода спасла ее красоту для последних, смертных объятий.
Милиционеры живо разыскали в сарае бензиновую канистру с моими отпечатками. Ее оставил Ляга во время одного из своих наездов, и я много раз переставлял ее с места на место.
Наташа погибла тридцатого мая, в день святой Жанны. Наша жизнь полнится предчувствиями, но мы почти никогда не успеваем их прочитать. Ее вещая душа уже тогда знала все. Потому она жалела и несчастного Синюю Бороду, невесть как затесавшегося в ее сердце.
Жиль де Рец, рыцарь-хранитель Жанны Д’Арк, сначала отпирался, а потом все же сознался под зверскими пытками в совершении ста сорока детоубийств, а также в колдовстве и содомии, в совершении черной мессы и чернокнижии. По обычаю, он был сначала удавлен, а затем сожжен. Могу представить его прижизненные и смертные мучения.
Во время следствия я был как человек с содранной кожей. Весь мир для меня обратился в боль, и даже летящие мимо секунды, как песчинки, оставляли на мне кровоточащий, царапающий след. Боль от пыток и побоев не шла ни в какое сравнение с этой парализующей душу болью.
На следствии оказалось, что мне «пришили» еще одну жертву, семиклассницу из Соколовской средней школы. Забитый до животного состояния, я был признан виновным в двух убийствах и изнасилованиях. Я был изобличен по всем пунктам и тупо соглашался с обвинениями, лишь бы это поскорее кончилось. Я «добровольно» согласился сотрудничать со следствием и даже показал омут на Варяжке, куда бросил какие-то недостающие милиционерам улики…
Свою «первую жертву», девчушку из Соколова, я действительно видел один раз, в начале апреля она приходила за простым лекарством, вроде аспирина, и с любопытством осматривала больничку. Я подарил ей старый стетоскоп, бинты, несколько амбулаторных бланков с моей подписью и пару пипеток, полагая, что она все еще играет в куклы. Что-то из этих предметов нашли рядом с ее телом, и я, оказывается, уже месяц был на подозрении.
С оперуполномоченным Глиновым я познакомился тогда же. Он выезжал на место убийства школьницы. Почему-то в его бригаде не оказалось врача. Он заехал за мной на милицейском уазике и привез к речной балке за Соколово для освидетельствования тела. Я помню, как дрожали мои руки; мне навязчиво хотелось одернуть ее подол, спрятать, укрыть от взглядов, от яркого апрельского солнца этого ребенка, растерзанного зверем. Труп девочки был наскоро закидан молодой травой и одуванчиками. За ремешком ее сандалии тоже желтел весенний цветок. Глинов заметил мое состояние.
– Робеешь? Я и сам долго привыкал. Жалко девку, соплячка совсем…
Когда я «взбрыкнул» на суде и отказался от своих первоначальных показаний, вся машина завертелась снова, только еще быстрее и жесточе. Я упрямо «держал стойку», и мое дело вновь передали следователю Зуевой. В сравнении с ее приемами и ухватками методы ведения следствия Никанора Глинова выглядели кодексом рыцарской чести.
Незнакомец внимательно слушал, цокая языком в особо драматичных местах.
– Да, студент, ты бесплатно пропал… Ну, а теперь меня послушай…
И он вкратце преподал мне основы тюремного этикета и почти скаутский набор добродетелей:
– Слушайся старших, будь аккуратен. Не свисти в камере, не крысь, не жмись, не жухай, не закладывай. Не ходи на дальняк, когда другие едят, и сам не ешь, когда кто-то корчится у параши. Никогда никого не жалей. «Две собаки грызутся, третья – не лезь…» Бойся зашквариться об «козла опущенного». Опасайся плохих слов. Запомни: «просто» – очко, «чувствовать» и «обижаться» – стремные слова, годятся только для опущенных. Вместо «не обижайся», говори «не прими в ущерб», и так далее, будь осторожен, как попадья на именинах. «Будь безупречен», живи и говори по понятиям, и будешь «жить положняком». А спросят, кто научил, скажи, «на вокзале» с Воркутой перемолвился, братва оценит.
* * *
Первым инстинктивным интеллигентским желанием было поднять чистое полотенце с пола камеры. Но по ударившей в меня волне недоброго напряжения я догадался, что это ожидаемая кульминация какого-то действа, и в растерянности наступил на полотенце, а потом отбросил его ногой подальше. Поздоровался, как научил меня Воркута, и шагнул в густую, теплую вонь камеры.
Сквозь густой табачный дым камера просматривалась с трудом, дальний конец ее тонул в сизом угаре. Мне показалось, что все полки, по тюремному, «шконки», заняты. Человек сто, протухших, небритых, валялось на многоэтажных нарах, устроенных в несколько рядов от пола до потолка. В углу, прямо на полу, под шконками корчились отщепенцы.
– Гляди, Бабай, во курва штопаная! Здоровается по понятиям, буром прет, как крутой, а ноги-то шерстяные…
С верхней полки спрыгнуло маленькое костлявое существо в линялой тельняшке и с размаху ткнуло меня в солнечное сплетение. Мои очки с треснувшим стеклом отлетели в угол, но я устоял на ногах.
Следователь Зуева выполнила свою угрозу, и мой расстрельный букет был известен сокамерникам. Оставалось только драться, лупить «тельняшку» с остервенением смертника.
Кулаком с разворота я двинул тельняшку в скулу. В камере поднялся гвалт и свист, все были рады неожиданному развлечению, науськивали и натравливали опешившего «тельняшку».
– Бацилла, бей очкарика, бери на калган, руби ему витрину…
– Порву-у-у… – сквозь хрип выл Бацилла. От резких бросков у него горлом шла кровь.
В голове звенело, но я держал на своем лице твердый, радостный оскал, когда молотил, рвал зубами, впивался пальцами в худую цыплячью шею, пока удар по позвоночнику не выбил сознание.
Очнулся я в углу. Дубасили меня долго, и скорей всего, ногами. Внутренности были отбиты, лицо вспухло. Я пошевелил онемевшими конечностями и с трудом сел, привалившись спиной к стене.
Мимо, как во сне, проплывали размытые тени, некоторые подходили ко мне, чтобы пнуть кроссовками под ребра или между ног.
– Еще раз ударишь, тварь чернозадая, рожу размозжу, животное.
– Кынжал захотэл, – с кавказским акцентом огрызнулась тень и куда-то сгинула.
Я с трудом разлепил глаза: невысокий паренек, походя, отпихнул плечом «чеха», дольше всех изгалявшегося надо мной. Я этого джигита уже запомнил: пнет, плюнет и весело, по-лошадиному, заржет.
Поздним вечером я с трудом перебрался на свободную шконку в конце камеры и едва донес голову до гнилой подушки.
Несколько дней я приходил в себя. «Блатные», казалось, про меня забыли. Бацилла отлеживался на нарах для почетных гостей. Проходя мимо меня, тот самый паренек несколько раз ставил мне на грудь шленку с супом, клал ложку и хлеб. Все это он старался делать незаметно. В этой части камеры обитали в основном «фраера», палаточники и «мужики», ближе к туалету, то есть рангом ниже, располагались бомжи и чушки.
Недели через две я «отошел», следы от побоев зажили довольно быстро. Несколько ночей я спал вполглаза, ожидая нападения. Бацилла окончательно оклемался и целыми днями резался в «стосы», самодельные карты, партнерами его были верзила по кличке Рогомет и бледный ушастый заключенный с неблагозвучным «погонялом». Такие странные клички клеят на малолетке, где еще нет взрослых «табу». Я не догадывался, что они играют на меня.
– Ночью не спи, – шепнул мне белобрысый паренек, проходя мимо меня к дальняку. – Если что, ори, бейся, зови охрану…
Я долго лежал на спине, слушая сонное сипение, храп, вскрики сокамерников, потом перевернулся на живот и заснул. Сквозь кошмар удушья я все не мог проснуться. Ко мне, как и предупреждал паренек, среди ночи подкрались несколько человек. Один уселся на плечи и накрыл подушкой голову, другие держали за ноги.
– Не воркуй, не воркуй, голубок, сейчас распечатаем и отпустим, – ласково приговаривал Рогомет, – Бацилла от тебя в ущербе, ему и первинки сымать…
Я мычал и бился, не в силах сбросить даже тщедушного Бациллу.
– Назад, сволочь! Всех порежу!… – заорал высокий мальчишеский голос, кто-то спрыгнул с верхней полки на моих мучителей.
– Отвали, ососок, – захрипел сбитый на пол Рогомет.
Под бешеные крики я кое-как освободился, и возня переместилась на пол. Заключенные проснулись, посыпались с нар в «ущелье» – узкий проход между нарами. Во всеобщей неразберихе кто-то вызвал охрану. На стене замигал красный «клоп», в камеру с грохотом ворвались дежурные. «Бацилла», ковыляя, успел взобраться на свою шконку, а мне и белобрысому, как не успевшим «зашкериться», досталось несколько ударов дубиной и пинков в живот. Во всеобщей потасовке ворвался весь суточный наряд охранников и принялся лупить дубинками всех без разбора. После построения всех зачинщиков «махаловки», то есть меня и белобрысого, вытащили из камеры в наручниках и отвели в кандей.
Я впервые был в тюремном карцере, узком «стакане» метр на метр. Стены здесь были покрыты бетонной «крокодильей шубой». Шипы царапали даже сквозь одежду. Вдобавок здесь было так холодно, что, разгоряченные дракой, мы сначала дымились, а потом одежда начала леденеть. На полу хлюпала жижа. Под потолком шипела и моргала тусклая лампа.
– Спасибо, друг, – прошепелявил я разбитыми губами.
– Сочтемся, – усмехнулся тот. Сейчас он выглядел старше, чем в первый раз. Ему тоже досталось, на скуле наливался синяк.
– Демид, – я протянул ему руку в «браслете».
Он с некоторым сомнением посмотрел на нее, а потом пожал своей закольцованной рукой.
– За что сел? – спросил он.
– Менты подставили.
– Я так и думал.
– А ты?
– Город чистил железной метлой, да пару прутьев сломал о черно…
– Скин?
– Ага. Наших по камерам раскидали, но блатные нас не трогают. Уважают, наверное. А тебе трудно будет. Они на тебя зуб завели. А мне вот-вот на зону, семь лет париться за «непредумышленное». Я тебе свою заточку оставлю, для себя ныкал.
– Да здесь от холода сдохнуть можно, а потом, стоя только кони спят.
– Ничего, не в первый раз. А ты, если правильно жизнь понял, то и не в последний.
Его бесшабашная, разбойничья удаль передалась и мне.
– Наци, а тебя-то как зовут? – спросил я.
– Зови по прозвищу, Верес… Северная трава такая, вечнозеленая.
– Так, может, Ягель?
– Сам ты ягель. Ты мне жидовскую кликуху не клей… Меня мамка Ильей назвала, так я на Всеслава переписался… В восемь у гапонов пересменка, немного осталось…
– А почему на Всеслава?
– Так захотелось…
Мы встали спинами, прислонившись друг к другу, носками уперлись в стены, согрелись и, кажется, даже задремали, но под утро ледяной холод пролез под одежду и нас начало колотить. Когда-то я был сведущ в русской истории и даже сумел припомнить предание: князь Всеслав родился от волхвования и оттого был на кровь лют и немилостив.
– Откуда ты такой взялся, наци, где тебя замесили?
– Ха-ха, ты правильно заметил. В человеке все решает изначальная природа, кровь.
Так и быть, расскажу, пока время есть. Бабка моя, еще лет шестнадцати, попала в оккупацию, и ее взломал какой-то эсэсовец. А потом он уже к ней по-доброму ходил, семью ее подкармливал. Короче, любовь-морковь… А она еще с соседями делилась. Голод же… Немцев выгнали, а она с пузом осталась. После войны проходу ей не стало от тех же соседей, что немецкий «зальц» за обе щеки хавали. Еще бы, «эсэсовская подстилка», да еще с нахаленком, папкой моим. Отец мой был белым, синеглазым, бабка говорила, крупным был, как кукушонок. От позора бабка аж в Казахстан сбежала, и там с перепугу вышла замуж то ли за казаха, то ли за татарина, и за пять лет нарожала целый выводок, чтобы, так сказать, вину искупить. Дядья и тетки мои все по юртам сидят, кумыс дуют. В человеке все решает кровь. А отец-то по паспорту стал Жуймудинов, это с такой-то наружностью. Я-то поздно у них получился. Потом отец погиб… Ну, чего загрустил? Давай прыгать, а то окочуримся…
Новый день начался для нас с бряцания замка. Дежурный наряда снял с нас «баранки» и отвел обратно в камеру, где без нас случился внеплановый обыск. Во время шмона у чехов изъяли «дурь», у блатных водку и «стосы» и еще десятки необходимых для тюремной жизни предметов. Теперь все были злы на нас.
Около полудня Вересу передали посылку. Его вольные друзья и подруги знали толк в тюремной жизни, и Верес щедро поделился «гревом» с «блатными» и, чтобы немного задобрить хозяина камеры, отстегнул сигарет и продуктов на «воровское благо».
Через неделю Вереса-Всеслава забрали на этап.
– Жуймудинов, на выход!
– Держись, брат, может, еще и свидимся.
Я и сейчас вижу его. Подтянутый, длинноногий, ловко сбитый, в черном спортивном костюме, он обходит камеру. Шаг упругий, молодой, звериный, глаза яркие, веселые. Уже на пороге прощально вскинул правую руку, послал мне ободряющий жест и скрылся за металлической дверью с волчком.
Я понимал, что без поддержки и заступничества Вереса за мою дальнейшую житуху никто не дал бы гроша ломаного. Было видно и слышно, как нетерпеливо ожидает ночи блатная камарилья.
– Ша, отвали, братва… – крикнул откуда-то с верхней полки «вор», хозяин камеры. Я даже лица его ни разу не видел. – К первоходу будут вопросы. Зашкварить пацана недолго…
Камера готовилась к ужину, позвякивала посуда, заключенные сползали с полок и усаживались к столу строго по ранжиру. Есть не хотелось. Меня старались обходить. После ужина мою дальнейшую судьбу должен был решать «общак».
– Встань, старшие базарить будут, – после ужина «мужики», подгоняемые «шестерками», быстро освободили от посуды и вымели стол, и теперь трое заключенных сидели вокруг «дубка». Это были «отцы», равные по масти воры-рецидивисты.
Я поднялся. Я впервые видел Бабая, авторитетного вора, хозяина камеры. Смуглый, похожий на калмыка, узкоглазый и дебелый, как разжиревший атлет, он сидел, опершись о дубок сжатыми кулаками, и вел «правильную» речь. Шея его была настолько могучей, что голова терялась и выглядела досадно маленькой.
– В наш дом родной пришла малява. Уважаемые люди пишут, что ты невинен, как Дюймовочка, и в хату попал случайно, – камера залилась зоологически хохотом. – Так что же решим? Не место тебе в нашем уважаемом обществе и спать тебе «не ближе дальняка». Но, с другой стороны, уважаемые люди пишут, что ты отменный коновал, любой бубон плевком лечишь. А у нас тут что ни болт, то бубон. Значит, будет тебе от нас испытательный срок, не выдержишь, отправим к чушкам. Станешь полезным – будешь и в тюрьме достойно жить.
Вечером «отцы» чифирили. Камера замерла. В углу посапывали, притворяясь спящими, «опущенные», смирно лежали «мужики». «Чехи» держались развязнее, но и они сидели тихо. Главе общака подали высокую толстую кружку, он сделал первый хап и передал кружку по кругу. Чифирь заедали сгущенкой с «белинским», белым батоном, который протолкнул в «форточку» купленный вертухай. К ритуальному чаепитию допускались только достойные, те, у кого была подходящая масть, воры в законе, карманники, медвежатники. Прочее быдло не смело даже взирать на трапезу богов.
Мое осуждение общак признал «солдатской статьей», иначе – милицейской «прокладкой», когда засуживают заведомо невиновного, подкладывая доказательства, и фабрикуя недостающие материалы.
За новое дело я взялся с размахом и энтузиазмом. И вовсе не для того, чтобы заслужить одобрение Бабая. С некоторых пор я был довольно равнодушен к самому процессу жизни и ее качеству. Меня больше заботила достойная, истинно мужская смерть.
Терапевтом я оказался довольно слабым, многое забыл, но через день я все же составил список необходимых лекарств и витаминов, которые заключенные могли заказать в больничке, выморозить у охраны или получить в передачах родственников. «Брикеты» – лекарства в упаковках – выменивались на чай и курево в других камерах, и приходили к нам по веревочным «дорогам» из окна в окно.
Тяжелее всех болели «чехи». Все они были поголовно наркоманы и в услугах «кафира» не нуждались. Однако за порцию «божьей травы» у них можно было выменять с десяток одноразовых шприцов для уколов.
Узнав, что я хирург, Бацилла полностью переменился ко мне и стал заискивающе предупредителен.
– На, док, хайни.
Принято считать, что тюремные законы пишутся подонками. Но это как посмотреть. «Иерархия скверны» просто перевернута по отношению к обычному миру, это параллельная вселенная, со своими доблестями, законами, заповедями, ритуалами, с особым языком, критериями и ценностями, а воровские «авторитеты» вообще обитают по ту сторону добра и зла. Эти «суперзвери» по-своему честны: блюдут корпоративную тайну, чтут воровские законы и живут «положняком», даже в переполненной камере, сохраняя особое достоинство хищника в стаде травоядных. Это людоедское племенное братство. Здесь есть свои, часто необъяснимые табу и свое понятие священного, как «общак» или «слово старших», есть свои опознавательные знаки, символы власти и унижения.
Через месяц меня погнали в «блок», то есть переслали по этапу в отдаленную северную колонию строгого режима. Это была легендарная «Воркутинская Вышка», тюрьма в тюрьме.
* * *
Рядом с флигелем грохнул раскат салюта, стены вздрогнули. Я очнулся, поднял полотенце, положил его на кресло. Кто-то знал о моем прошлом и давал понять, что я под колпаком. Но на сегодняшний день это ничего не меняло. Может быть, эта злосчастная тряпка просто вывалилась откуда-нибудь? Нет, вышколенная прислуга вряд ли роняла полотенца под ноги гостям.
Я принял горячий душ, завернулся в простыни, согрелся и заснул, пока какой-то внутренний толчок не разбудил меня. Все так же розово теплился ночник. Под кроватью валялась моя сумка с шаманским имуществом и книгой Антипыча.
Спать не хотелось. Я оделся и вышел из флигеля.
Праздник стих, усадьба опустела. Тревожно шелестели деревья старинного парка. Вдоль пологого берега я спустился к воде. Залив рябило от легкого ветра, лунная дорожка дрожала, как светлая чешуя. Я торопливо разделся. За семь лет я почти забыл ощущение упругого полета в ласково-прохладной воде.
Плоский каменистый берег через несколько метров круто обрывался в глубину. От холода заломило мышцы и грести стало тяжело. Я все же заплыл довольно далеко, и холод немного отступил. Лежа на спине, я смотрел на Млечный Путь и покачивающиеся августовские созвездия. Справа от меня, в нескольких километрах от имения, моргал сонными огоньками поселок. Может быть, Петергоф. И тут я увидел пляшущие огни, целую россыпь факелов, которые стремительно летели вдоль берега в мою сторону. Я торопливо поплыл к берегу, разрезая волны острыми саженками, но огни приближались быстрее, они летели над землей. Задыхаясь, я успел выползти на мелкий берег и остался лежать, подняв из воды голову. Раздался топот невидимых коней, берег дрожал от ритмичных ударов копыт.
В свете косматых факелов по кромке воды неслись всадники на огромных черных конях. Первой я увидел Диону. С каждым тяжелым прыжком лошади распущенные волосы вздымались за ее спиной, как ведьмин плащ. Я разглядел венок из багровых измятых роз. Лицо ее было жестоким, почти безумным. Развивающаяся прозрачная туника сползла с плеча и обнажила грудь. Точеные бедра сжимали лоснящуюся конскую спину. Следом за ней скакал обнаженный Абадор, он казался черен от густой, клокастой шерсти, покрывающей грудь, плечи и даже спину. Этот джентльмен оказался гораздо более волосат, чем можно было предположить при его рафинированной породе.
Сонм балетных фавнов и вакханок с чадящими факелами в руках завершал ночной выезд. Все были пьяны или одурманены оргией, одежды разорваны, многие почти спали в седлах, их головы запрокидывались от скачки, и белки глаз пусто блестели в лунном свете. Но худосочная нагота балетных дев не шла ни в какое сравнение с роскошной красотой Дионы. Кони закружили по берегу. Абадор приблизился к Дионе, рискованно перегнулся в седле и привлек ее, целуя в грудь. Играя, она дернула повод, едва не выбив Абадора из седла.
Я долго собирал по берегу растоптанную одежду. Кое-как добрел до флигеля – в глазах пылали факелы и бились под ветром бесовские гривы. Дьяволица на черном коне призывно улыбалась.








