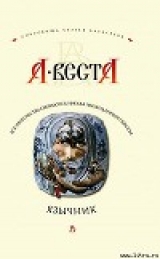
Текст книги "Язычник"
Автор книги: А. Веста
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц)
Вот как! Она не была хозяйкой миллиардов, и вся моя классовая ненависть к ней вмиг улетучилась. Я был тронут ее благородством. Вот парадокс: суточный рацион одной только лошади из конюшни Денис наверняка стоил дороже, чем дневное пропитание всей этой большой семьи, но она была вынуждена отдавать свои драгоценности, чтобы достроить церковь, накормить и обогреть маленький детский дом. Матушка заплакала, и я поспешил оставить женщин одних.
В два прыжка я взлетел обратно на колокольню, где через силу, словно мухи в меду, возились строители под надзором «старшого», здоровенного «чурека» с вороватыми, равнодушными глазами. Не давая опомниться, я сгреб его за грудки и прижал к стене.
Строители угрожающе придвинулись к нам. Устроить мое случайное падение с колокольни было плевым делом. Но я не с голыми руками полез на «кодляк». Оэлен назвал этот прием «сорк». Полярная ночь и Северное сияние сильно искажают образы и помогают «сорку». «Сорк» достигается одновременным напряжением всех лицевых мышц. После лицо долго ломает судорога, и зубы отплясывают с костяным лязгом. Эта маска и сопровождавшие ее заклятия предназначались для обращения вспять злых духов. Один из них засел на церковной колокольне.
Уставившись в правый зрачок бригадира, я стиснул пальцами его загривок и прошипел в дремучее ухо:
– Стоять, шныряла, жабры порву. Ну что, жлобина, сам кодляк застроишь или каждому отдельно дымоход прочистить? Шевели рогами, животное, сумеешь до сознания довести или помочь? Еще раз попа кинешь – заживо сгниешь…
– Понял, понял, командир, все будет в ажуре, – бормотал «старшой», оползая на пол. Ошалелые строители расступились, давая мне дорогу. Было слышно, как корчится в припадке бригадир, уверенный, что его «сглазили». Порча, и вправду, оружие «самонаводящееся», и оттого особенно опасное. Мой подарок не был столь драгоценен, как перстень Денис, но, думаю, в хозяйстве он сгодится.
На прощание черный стражник уже вполне по-приятельски помахал мне хвостом.
– Скажите, матушка, а как зовут святого с собачьей головой?
– Это может быть только святой Христофор.
– Но почему он в зверином обличье? След Египта?
Матушка перекрестилась и с некоторой неохотой созналась:
– Да, очень древний канон. В древности монахи-отшельники искали спасения в египетских пустынях. Они ютились в заброшенных гробницах. На западных стенах погребальных камер обычно помещали изображения загробного мира. Человек с песьей головой перевозил в ладье душу умершего.
– Но при чем же здесь христианство?
– Добрый кормчий перевез Христа через реку во время его «сошествия во ад». В православии это Духов день.
– Но почему у святого голова животного? – бестактно допытывался я.
– Святой Христофор попросил придать ему звериный образ, для более успешной проповеди среди язычников.
Матушка перекрестилась, боязливо оглядываясь, и я понял, что проявил «рвение не по разуму».
– В Бельгии есть обычай, – попыталась замять неловкость Диона, – держать на речных корабликах и катерах черных собак. Они небольшие, остроносые, чуткие. Эта порода зовется Шипперке. По-русски это все равно, что «корабельщик», или «маленький капитан». Странное совпадение… Лодка, черный пес, река…
На прощание я попросил матушку найти для меня образ святого Христофора.
Весь обратный путь Денис была печальной и молчаливой. Тропинка петляла между соснами. Я почтительно подставлял ей руку, когда она спускалась к заливу по крутым песчаным склонам. На этот раз на ее руке не было перчаток, и ее живое тепло проливалось в меня сладкой отравой.
Я карабкался за ней по кручам, и думал о том, что святой Христофор, столь опрометчиво выбранный мной в покровители, по странному закону совпадений, оказался проводником в Царство мертвых. И писали его по жуткому, полузабытому канону «мистерий пирамид».
Египетский Анубис и греческий старец Харон служили перевозчиками мертвых. Но иногда они возили и живых. Похоже, лодочники хорошо знали, что такое любовь, во всяком случае, Орфею, Деметре-Рее, Иштар и Инанне, потерявшим любимых, удалось их уговорить.
Черный пес – мой шаманский проводник, «страж порога». Он охраняет границу миров, не принадлежа ни одному из них. Богиня Луны Геката держала при себе целую свору яростных черных псов. Должно быть, оттого большая черная собака до сих пор считается спутником ведьмы. Мага Агриппу Неттесгеймского охраняли огромные черные псы. По другим легендам, когда Агриппа умер, он проклял их, несчастные животные с воем пронеслись через весь город и бросились в реку. Но, возможно, они просто вернулись к месту службы, на границу миров.
По фразам, вскользь оброненным Дионой, я понял, что она готовит крещение Леры. Болезнь девочки, несомненно, была душевного происхождения, и Антипыч не преминул бы назвать ее одержимостью. В ее припадках наблюдалась странная закономерность. Всякий раз при приближении батюшки к усадьбе буйство Леры приобретало опасные для окружающих размеры. Она рвала на себе одежду, ломала игрушки, кусалась, выла. В довершение всего она страдала недержанием. Все вещи ее оказывались выброшенными из шкафов и перепачканными. После припадков, обессиленная, бледная, она спала больше суток и, немного придя в себя, почти ничего не помнила.
В одну из безлунных, грозовых ночей в усадьбе случилось непоправимое. Золотистый петушок, Купидон прерий, был задушен, а несколько драгоценных яиц насквозь проколоты булавкой. Обезумевшая от страха пеструшка спаслась в вольере капибары, гигантской морской свинки. В клетке осталось множество следов босых детских ног. Мымра и Горгулья вновь прокараулили девочку, и она, вдоволь нагулявшись по ночному парку, исцарапанная и замерзшая, сама вернулась в постель.
Я был в пылу исследований, когда ко мне неслышно вошла Денис. Я ощутил ее присутствие по легкому ознобу и мужскому волнению. Признаюсь, я старался как можно реже встречаться с ней.
Стояли прощальные теплые дни, золотистые от усталого солнца, от поздней блеклой травы и вянущих листьев. На ней было легкое, почти летнее платье из светлого ситца, отделанное черным узким кружевом, маленькая шляпка из соломки и черные кружевные перчатки. Она одевалась по застывшей моде королевских дворов Европы, и за все время нашего знакомства я ни разу не видел на ней не только вульгарных джинсов, но даже брючного костюма. Ее воспитание и каста требовали спокойствия, но тусклая бледность, едва заметная дрожь и сдвинутые брови выдавали тревогу. Она молча подошла и разжала ладонь; в черной кружевной ямке лежало крохотное пестрое яичко, единственное из уцелевших.
Я взял яйцо, оно было еще теплым от ее рук, но наверняка уже остывшим, мертвым.
«Ну, сделай же что-нибудь», – молили ее глаза.
Я подумал, что Антипыч не преминул бы обложить яйцо осокой. По его мнению, эта речная трава дольше других удерживала Живу.
Я был еще ребенком, когда к Антипычу заявился бригадир лесорубов. Едва держась на ногах, он протягивал чей-то отрубленный палец, завязанный в носовой платок. Следом бригада почти трезвых трелевщиков волокла своего несчастного товарища. Он был мертвецки пьян и уже перестал оплакивать свою потерю. Антипыч погнал меня к Варяжке за осокой, и пока он готовился к «операции», палец лежал в глиняной миске переложенный свежей речной травой. Я слышал, как Антипыч заговаривал «кровяные раны», после он присадил палец на прежнее место, прикрутил льняными полосами и оставил бедолагу в избе. Недели три он отпаивал его травами и менял компрессы из листьев подорожника. Никто и не удивился, что палец прирос, правда, держался несколько кривовато, но был вполне рабочим органом.
– Диона, пусть принесут свежей осоки.
Забыв о своем ранге, Диона бросилась делать необходимые распоряжения.
Осоку доставили быстро, и пока я распечатывал новехонькое оборудование и искал препараты, пока бегал во флигель за «эликсиром», своим секретным средством, яичко живописно лежало в озерной траве.
Я заперся в лаборатории и углубился в исследования. Яйцо действительно было мертвым, что явственно показал компьютер, сделанный по аналогии с лучами Кирлиана. На экране было видна внутренняя структура яйца, крошечный скомканный большеголовый птенец и более светлая слоистая жидкость, со всех сторон окружающая его. Сияющая жизнь покинула яйцо, птенец был мертв, но его дом, похожий на космический аппарат Циолковского, был цел, и смерть еще не нанесла ему необратимых изменений.
Я погрузил яйцо в эликсир жизни, не хватало неуловимого волшебства, «дыхания Святого Духа», молитвы о возрождении, шаманских прыжков с бубном, еще какого-то усилия души, которое называют чудом. Я читал дикарское заклинание, которому меня научил Оэлен, наполовину не понимая его слов, но всем своим существом я молил духа жизни вернуться в крошечный зародыш, в птицу, дважды истребленную людьми. Через час слабый радужный венчик плясал вокруг голубого эллипса, тепло жизни расходилось волнами в такт моим заклинаниям. Крошечное сердечко внутри яйца, похожее на прозрачного головастика, ритмично шевелило хвостом.
Поздно ночью, усталый и почти счастливый, я выбрался из лаборатории. У кустов поблекших гортензий я заметил силуэт, едва различимый среди тьмы ночного парка. Женщина была одета в темное бархатное глухо застегнутое платье.
– Диона, – окликнул я. – Пойдемте, я покажу вам, что получилось.
Мы вошли в полутемную лабораторию, где, словно иллюминаторы подводной лодки, слабо светилось аварийное освещение, и склонились над аппаратом. Ее дыхание обожгло мою шею. Гибкие, сильные руки скользнули под свитер. Она прижалась щекой к моей спине, как это делают очень любящие жены. Но поцелуй напоминал жгучий укус, удар электричества. Я резко разомкнул ее руки и обернулся. Она часто дышала, тонкие ноздри дрожали, приоткрытые губы влажно блестели. Она не сводила с меня потемневших глаз, притягивая, гипнотизируя. Медленно, пуговка за пуговкой, она расстегнула глухое черное платье. Платье распалось надвое. Сияние ее кожи и теплый томящий запах оглушили меня. Удерживая у бедер скользившее платье, Диона потянулась ко мне со странной страдальческой улыбкой. Сквозь обморочное блаженство я заметил темную родинку на ее груди: перед моими глазами запрыгал похотливо вздыбленный Абадор. Я бы не удивился, окажись вся балетная свита, включая черных вспененных коней, ее любовниками. Я выдернул свои сожженные реактивами руки из ее холеных пальцев.
– Оставьте, Диона…
Я говорил еще что-то издевательски, злобно, дрожа от ее душистой близости. Она погасила свою невыразимо сладкую кошачью улыбку, пожала изящными плечами и вышла из лаборатории не застегнувшись.
Не знаю, была ли так же красива жена египтянина Патифара. В Библии не сказано, каким образом она покушалась на целомудрие праведного Иосифа, но от близости Дионы плавились мои кости. Несмотря на доводы рассудка и совести, его подвиг дался мне с большим трудом.
На зоне единственной доступной мне книгой была синодальная Библия. Примечательно, что особой популярностью у зэков пользовались приключения партизанки Юдифи и контрразведчицы Эсфири, а также внутрисемейные истории из жизни первых патриархов. Прочие листы зэки не стеснялись пускать на самокрутки и вскоре извели половину книги на «тарочки»…
Лунная ночь была бессонная для меня. Я впервые после возвращения из Бережков, раскрыл книгу Антипыча. Она состояла из трех тетрадей в общей обложке. Первая – рецепты снадобий, вторая – знахарские заговоры, третья – общие рассуждения о жизни. В конце книги, уже на обложке, я впервые заметил бледную приписку карандашом: «Дема, сынок, планшетку нашла Марья Филидоровна, когда мыла твою больничку, под шкафом, глубоко под днищем. Я всегда знал, что ты невинно страдаешь, да помочь не мог. Этого злодея уж после тебя споймали, когда он еще одну юницу сгубил. А планшет под шкаф положил, чтоб на тебя вину…» Дальше шло неразборчиво.
Я вновь достал и осторожно развернул сумочку, повернул к ночнику так, что на ее лакированной поверхности проступило множество размазанных отпечатков… В одном месте они были гуще и явственней. В этом месте сумочка когда-то была испачкана кровью.
Бедные мои, наивные старички. Сколько вечеров они, должно быть, обсуждали страшную находку, решая, что делать с ней, чтобы не навредить мне, хотя мне уже навредить было невозможно.
* * *
На зоне я встретил существо, о котором писал Антипыч. Он был почти дебил, «стебанутый» – водянистые глаза, полуоткрытый рот. Хотя, возможно это было притворство… Что-то выморочное, подводно-пучеглазое почувствовали в нем и зэки, оттого и дали ему кличку Гоблин. Выйти на него мне помог Верес.
Но, пожалуй, все по порядку…
После тюремной камеры зона показалась мне местом относительно спокойным и чинным. Здесь отбывали наказание осужденные на срок свыше пяти лет. В бараке были и воры-рецидивисты, и братва, и расхитители в особо крупных размерах, и наркоторговцы, и бытовые убийцы. Под последние три категории попадали самые разные люди. Лично я был знаком с бывшим адвокатом.
Блатные называют адвокатов «дорогой игрушкой» и жестоко преследуют попавших в лагерь служителей Фемиды. Поэтому о вольной жизни «адвоката» знал только я.
Куравленко преуспевал, имел шестисотый «мерс», две пятикомнатные квартиры, какие-то часы за пять тысяч баксов, о которых он вспоминал с особой нежностью. То ли принципиальность подвела некогда рьяного сотрудника секретных служб, то ли жадность сгубила, но он взялся за одно каверзное дело, не внемля угрозам и предупреждениям коллег. В результате в багажнике его «шестисотого» нашли пять килограммов героина и прокурор вмазал ему «три Петра» с конфискацией имущества. Так что из «дорогой игрушки» Куравленко сразу стал лагерной «акулой», благодаря своей тяжеловесной статье. Люди тонкой души, попав в лагерь, всеми силами стараются оградить свой внутренний мир, спастись от вторжения отвратительной действительности. И делают большую ошибку. Отрешенность и неприятие реальности наказываются в лагере довольно жестокими методами. Заметив в адвокате остаточную привязанность к материальным благам, мечтательность и меланхолию, братишки взялись его перевоспитывать, для чего ежевечерне кромсали на куски адвокатское одеяло. Одеяла горят практически бездымно, и небольшого клочка хватает, чтобы после отбоя вскипятить кружку чифиря. За испорченное одеяло адвокат расплачивался с «гадиловкой» из своего кармана, но и этого оголтелым «воспетам» показалось мало.
– Эй, брателло, подбрось сигареты в карман. Вон моя шаронка, слева… – как-то невзначай окликнул адвоката Смерш, вечно ухмыляющийся «балдежный пацан», шустрила рулевого. Смерш был соседом адвоката по нарам.
– Потом выйдем, покумарим вместе… – простодушно улыбаясь, продолжил он.
О том, что у адвоката водились «бабки», было известно всему бараку. Даже свое, по понятиям, роскошное место на нарах он выкупил у рулевого за чистую зелень. В карты адвокат не играл, «на спор» не покупался и выманить у него деньги законными способами не представлялось возможным. Оставался розыгрыш.
Адвокат уныло поплелся класть сигареты.
Молодые зэки азартно задвигались на нарах, предвкушая спектакль. Бывалые, из мужиков, с отвращением отвернулись, чтобы не видеть того, что будет дальше.
Минут через десять Смерш соколом слетел с верхней полки и, запустив пальцы в нагрудный карман, аж перекосился от отчаяния.
– В натуре, братва, бобло пропало! Вот здесь триста баксов лежало… Кодляк свидетель, – Смерш рыдал и комкал на груди майку.
«Да, беспредел…» – качали головами блатные.
И адвокат безропотно простился с кровными, заныканными глубоко в наволочку «зелеными», остатками своих астрономических гонораров. Позднее он оставил призрачный мир, потерянный навсегда, и стал обыкновенным заскорузлым лагерным работягой. Но в целом «белые воротнички» довольно редко попадают в зону, разве что за очень большие прегрешения.
В «Воркутинской вышке» не было узников совести, не считая нескольких ваххабитов, и, в основном, сидел самый что ни на есть густопсовый «криминал». Заключенных было больше двух тысяч. На две тысячи зэков стучали две сотни «гадов», доносителей, и о любой провинности или нарушении внутреннего распорядка сейчас же доносили сотрудникам режима. Из пятнадцати бараков один был отдан под санчасть. Бараком усиленного режима значилась «восьмерка». Это была так называемая «правиловка», где отменялись многие законы и обычные льготы лагерной жизни.
В каждом бараке было человек по сто пятьдесят. Шконки были устроены в три яруса с узкой «пропастью» между рядами. Но места всем не хватало. Тем, кто спал на холодном полу, по лагерному, «ковре», постельного белья не выдавали, полагались только байковое одеяло, матрас из опилок и подушка-гнилушка. С октября по апрель я корчился на холодном полу, пока не освободилось место на шконке. В сильные морозы тонкое «армейское» одеяло хрустело от наледи, подушка примерзала, и я не мог отодрать ее от пола. «Сквознячок», нижнее белье, тоже не выдавали, но при наличии денег все это можно было купить на складе за наличные. Но именно в неволе, как нигде, узнаешь цену простым человеческим утешениям: полной пайке, бане, стрижке, белью из прожарки, свежей простыне, по лагерному, «невестке». А уж о «роскоши человеческого общения» и говорить не приходится.
Все же зима была относительно спокойным временем. Сонная охрана из солдат-срочников следила вполглаза: по зимней тундре далеко не уйдешь. И рацион с учетом морозов был покалорийней.
Мне повезло, блатных в бараке было немного, они держались особняком и не чинили особых неприятностей «быдлу». От работы блатные откупались, либо просто отказывались выходить, грозя беспорядками, и администрация закрывала глаза на эту особую касту. В промзоне делали кирпичи и тротуарную плитку. «Стрижи», пожилые заключенные, шили арестантские робы, варежки из мешковины и милицейскую форму для МВД.
Долгое время я работал в столярном цеху. Мы гнали сырую горбатую «вагонку», сколачивали гробы и дверные блоки, собирали филеночные двери. Перчаток у меня не было, вернее, их кто-то постоянно уводил из-под моего носа, поэтому руки у меня были в глубоких занозах и царапинах.
Ляга изредка баловал меня посылками. В одной из дачек даже оказались новые щегольские очки, взамен старых с треснувшим стеклом. Одев позолоченные «рамочки», я сразу «выложился» среди сокамерников, то есть обнаружил свое неоконченное высшее и, невзирая на затравленный лагерный вид, выглядел почти интеллигентом.
«У фрея должны быть гладкие руки», – загадочно обронил «наш рулевой», Умный Мамонт, когда в бараке засверкали мои окуляры.
– Вот что, бичок (бич – это лагерная аббревиатура, иначе «бывший интеллигентный человек»), хватит тебе веточки мозолить.
Вскоре меня перевели «придурком», то есть разнорабочим в «помойку», лагерную столовую, где я носил воду, таскал мешки с овощами, чистил картошку, мыл чаны и кастрюли и как бывший студент-медик был обязан еженедельно бороться с «сожителями»: крысами и тараканами.
Я катал шарики из буры, настораживал ловушки и раскладывал ядовитые приманки. Мой предшественник, «мокрый художник», задушивший подругу в припадке ревности, не удержался на хлебном месте и сыпанул отравы в бак с мурцовкой, за что был спешно отправлен в спецпсихушку. Говорят, там гораздо лучше и сытнее.
Умный Мамонт держал строгую «систему», распределяя полномочия между братвой и авторитетами. Он-то и заимел на меня виды. Следующим моим повышением должен был стать перевод в санчасть, где я был бы обязан снабжать лучших людей доступными наркотиками. В зоне были в ходу такие изобретения лагерного ума, как «крахмальные марочки»: марлевые примочки с йодоформом, и «лепестки»: носовые платки, смоченные эфиром. «Ручной коновал» должен был снабжать «дурью» «старших», помогать всем страждущим грамотно «ужалиться», при необходимости «заболтать дурь», или выпарить из безобидного кодеина забористую «гатагустрицу».
Заключенные, особенно из «мужиков», голодали. «Кормят хуже, чем собак…» – ворчали в столовой. Действительно, служебные собаки стояли на особом довольствии. За собак отвечали по всей форме. В случае смерти «списать» заключенного было гораздо проще, чем отчитаться за сдохшую псину.
Первая лагерная зима выдалась суровой. Уже в ноябре плевок со звоном падал на каменную от холода землю, значит, почти всегда было за тридцать. К Новому году ломанул настоящий мороз. Стоило на минуту выбежать из барака, и холод склеивал ноздри, обжимал лицо, отощавшую кожу насквозь щипало и жгло. Особенно знобило с недокорму.
В тот предновогодний вечер я скользил по высокой наледи между бараками, ноги в промерзших валенках разъезжались, за спиной у меня болтался холщовый сидор с подарками «от Деда Мороза». Я представлял, как, отжав плечом разбухшую дверь, вваливаюсь в свой жаркий, светлый от голых лампочек, гудящий, как улей, барак, и мой укромный заплеванный угол виделся мне лучшим местом на земле.
Небо над лагерем вызвездило к морозу. Силуэты «скворешен» чернели по углам, словно вышки охраняли не только воспаленный горизонт, но и дырявый лоскут черного неба. Я бежал, низко нагнув голову, чтобы не задувало через ворот, и с размаху налетел на какого-то зэка. В такое позднее время здесь мог оказаться только выкупленный у администрации резвый шпан, бегающий на посылках у рулевого, или такой же придурок, как я, задержавшийся на работах.
От резкого удара плечом в плечо я выронил мешок. Черные кирпичики хлеба посыпались на затоптанный снег. Не поднимая головы, я принялся торопливо запихивать их обратно в мешок.
– Привет, Айболит! А то смотрю, чья-то рожа знакомая в помойке мелькает…
Ветер со скрипом мотал фонарь, и лицо говорившего возникало из резкой смены света и тьмы. Это был Верес, исхудавший, одетый в черный ватник с белой номерной «сичкой» на правой стороне груди, но все такой же ладный и яростно синеглазый, с затаенным весельем и злой удалью озирающий мир: руки в карманах, ветер срывает с гладко бритой головы лагерную ушанку.
– Не сломали?
Я только помотал головой.
– Пока держусь… А ты где?
– В восьмом, в «правиловке». Там много наших, нормально…
– А я вот в пекарне и в помойке…
– Придурок? Повезло, – кисло усмехнулся Верес.
– На вот, возьми.
Я протянул ему пару паек и бумажный кулек.
– Ого, круто. Теперь гульнем! Все-таки Год Новый…
– Что так поздно? Борзеешь? – с угрозой просипел простуженный рулевой, высыпая на дубок хлеб пополам со снегом.
– Да братишку встретил… побазарили…
– А… це дило…. – и Умный Мамонт приступил к дележке новогодних благ.
Теперь изредка я встречал Вереса то в колонне, то в столовой, то на концерте в «день заключенного». И он всегда успевал подать мне приятельский знак. Блатные уважали «нацистов», вернее, героев национального сопротивления, и даже делились «дезой», сведениями о новоприбывших зэках, которые поступали по двум каналам: из Абвера и по «лагерной почте».
Заключенный по кличке Гоблин прибыл в зону через полтора года после меня. Это был узкогрудый тщедушный человечек, то ли крепко забитый на следствии, то ли тупой от рождения.
Перед следующим Новым годом, почти день в день, Верес поймал меня в клубе, где руководство лагеря готовило небольшой пикник для приехавших с концертом циркачей.
– Привет, братухан, все на кухне корячишься? Тут блатари шепнули, в твоем бараке брусок один приземлился.
– Гоблин?
– Знаешь, кто он?
– Да так, гнида. Всех обожрал…
– Нет, Айболит. Эта тварь еще попляшет. Он тех девах порешил, за которых ты сел. Все совпадает. Он в твоих Бережках ненаглядных о прошлом годе еще одну школьницу разломал. Так он еще дружкам их дневники спьяну показывал, хвалился. Тут его и взяли, козла шерстяного… Блатари узнают, в тот же день грызло начистят и обмашкуют, как миленького. У меня такая маза завелась… Пока абверовцы на концерте оттягиваются, этому кедру прожарку устроить. Раскоцаем гнилушку, тебе пригодится, на апелляцию подашь… Ну, шевели рогами…
В тот же день перед концертом я незаметно шепнул Гоблину:
– Заходи в хлеборезку, пока кодляк на концерте отдыхает. Я тебе ландриков и сухофруктов отсыплю, от циркачей заныкал. – В подтверждение своих слов я положил ему в карман несколько карамелек.
В мутных глазах Гоблина мелькнуло подозрение, но желание нажраться было сильнее, и моя приманка сработала.
С черного хода в столовую была натянута «запретка», колючая проволока. Но во время концерта там наверняка никого не будет, и я рассчитывал, что Гоблин без труда проскользнет под проволокой. Я даже успел посоветоваться с адвокатом. Прикинув все обстоятельства, он подтвердил, что меня обязательно «вытащат из тины», но на переписку уйдет не меньше года. Но что значил год с моим бессрочным сроком?
Из клуба доносились бравурные звуки парада-алле, ревели тощие медведи, пытаясь содрать слюнявые намордники, сдержанно, по команде, хлопали заключенные. Я мельком видел обсыпанную блестками почти голую гимнастку и пожилого испитого фокусника с зеркальным ящиком. Был приготовлен и особый полупристойный номер, пользующийся, по уверениям дрессировщика, задастого армянина в огненно-рыжем паричке, огромным успехом в женских колониях.
Едва на канате закрутилась девушка-змея, сводя с ума заключенных и конвой, я незаметно выскользнул из зала и просочился сквозь запретку. Верес уже был на месте.
Минут через десять в дверь хлеборезки просунулась голова Гоблина, Верес обхватил его за шею правой рукой и принялся душить. Глаза Гоблина полезли из орбит, рот раскрылся, как у рептилии, чуть ли не до внутренностей.
Верес ослабил хватку, втащил Гоблина в хлеборезку и пинком сшиб на пол. Потом схватил за шиворот и принялся возить лицом по бетонной стене.
В хлеборезке не было ножей. Хлеб крушили специальными тонкими пилками-струнами, натянутыми крест-накрест на квадратную раму – изобретение какого-то безвестного заключенного, после которого он ускоренно вышел «на свободу с чистой совестью». Верес схватил Гоблина за шиворот и навзничь бросил его на стол для разделки, так что багровое, исцарапанное лицо оказалось под натянутыми струнами. Глаза Гоблина подернулись рыбьей слизью. Стоило Вересу опустить рычаг – и его «афишка» разлетелась бы на геометрически правильные ошметки.
– Размозж-ж-жу… – шипел Верес. – Ты знаешь, кто перед тобой?
Я смотрел на Вереса, не узнавая его. Стоя над беспомощным, трясущимся Гоблином, он сам был смертно бледен, он дрожал и бился в припадке. Прижатый Гоблин елозил, скребся, как пришпиленный жук, безумные глаза вращались по кругу, пока не остановились на моем лице. Он что-то пытался сказать, хрипел, может быть, молил о пощаде. Искаженный ненавистью Верес медленно, вручную сдвинул раму хлеборезки и приблизил ее к Гоблину. Тот обреченно замер, по ботинкам его, на пол, потекла темно-бурая струя, резко пахнуло аммиаком.
– Что, очко заиграло? Обхезался, гребень….
– Отпусти его, Верес… Пусть идет… – Меня бил ледяной озноб. Я чувствовал усталость, равнодушие и сильнейшее отвращение к Вересу и к себе…
– Ты чего… Я его дожму, на апелляцию подашь, ты же не по делу сел… За эту гниду…
– Отпусти, я сказал. Ничего не хочу…
– Ну, как знаешь… Исповедуй тут этого ссаного некрофила, поплачьтесь, почирикайте в шаронки, твари… – голос его дрожал, готовый порваться.
Верес хлопнул дверью. Лампочка вздрогнула и погасла. В темноте было слышно, как подвывал, глотая сопли, Гоблин. Я корчился рядом. Моя голова раскалывалась от боли. Я тер виски, чтобы выдавить тупую боль и жар.
– Как же ты можешь жить после всего! Как, скажи, как?!
Он долго молчал, всхлипывал. Кажется, по-собачьи зализывал мелкие раны. Потом сказал с затаенным торжеством:
– А мне снится, что я с ними гуляю. Они больше не злятся. Будто бы весна, и на них банты белые, только они босые… Улыбаются, к себе зовут… Ну, бей, бей меня, убей совсем…
Он плакал, выл, рвал одежду, катался по полу и стучал о стену головой.
– А ту красивую девушку в овраге? – немного отдышавшись, спросил я с тайной надеждой на чудо.
– Какую? А, про которую говорили… Ту не трогал, не был я там… Алиби у меня…
Не помню, как я выбрался из хлеборезки, где бродил, очнулся только на концерте. «Он не убивал Ее… Он хилый и тщедушный, оттого и нападал на девчонок-недоростков. С Ней он бы не справился», – бормотал я и громко смеялся.
По традиции, концерт завершала лагерная самодеятельность, гордость «абвера». Концерты заключенных принято высмеивать в фильмах о лагерной жизни. Это Действительно смешно, когда матерые уголовники, у которых на совести не одна жизнь, и в активе не один десяток лет отсидки, блеют козлиными голосами какой-нибудь «Вечерний звон». Наши пели песню про атамана Кудеяра из поэмы «Кому на Руси жить хорошо» и исполняли ее с большим чувством и задушевностью, чем даже хор мужского монастыря, который однажды приезжал к нам «по обмену духовным опытом», потому что в нашем случае сама жизнь выступала критерием искусства. Хор с чувством выводил про «сорок разбойников» и пролитую кровь, про загубленную атаманом в темном лесу «девицу красу», так что даже лица закаленных абверовцев невольно вытягивались и затмевались светлой печалью.
Гоблин повесился весной.
Он сбежал с работ и вернулся в барак. Блатные курили «сено» на первом солнышке, и барак был пуст. Нашли его вечером. Он уже успел «отвисеться».
Смерть всегда вызывает зловещее напряженное любопытство, особенно лицо… Каждый мертвец знает больше живого, поэтому на египетских саркофагах мертвые всегда изображены с открытыми глазами, а живые – спящими. И самое страшное и одновременно влекущее в облике смерти – не неизбежность, а ее странное милосердие и отрешенный покой, один для всех: святых и грешных, жертв и убийц, лощеных богачей и вшивых бродяг.
Заключенные, как черное стадо, столпились вокруг трупа. Смотрели злобно, с презрением, словно Гоблин всех обманул: «отбросил хвост», ухитрился сбежать, не отсидев срока. И труп закачался, закружился под множеством тяжелых пристальных взглядов.
«Танцует, жаба… Гли-ка: ласты, в натуре…» – прошептал кто-то из блатных. Между пальцами ног Гоблина, действительно, виднелись кожистые лягушачьи перепонки. Довольно редкий атавизм для «двуногого без перьев».
* * *
В конце недели у меня выдался вынужденный выходной. В лаборатории заканчивалась отделка, и я не без удовольствия воспользовался новенькими «липовыми» правами и роскошной машиной. Мне предстояло проехать километров пятьдесят до города, навестить Лягу и потрясти за жабры этого толстого ленивого карпа.
Вот и Лягин дом. Всего месяц назад я вышел из этого подъезда бездомным и нищим. Теперь возвращаюсь, как сказочный принц на белом «коне»: он элегантен и немного загадочен, он путешествует инкогнито, его длинная артистическая грива и дорогая одежда заметны издалека, и лишь по темным очкам, можно догадаться, что этот чудак не хочет, а может, и боится быть узнанным.








