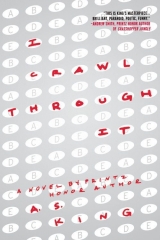
Текст книги "Я ползу сквозь (ЛП)"
Автор книги: A. S. King
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 11 страниц)
– О, Станци, – произносит Патрисия.
– Я никогда не позволяла ей одной переходить дорогу. Я не позволяла ей переедать сладкого. Я выключала звук во время рекламы, чтобы ей не промыли мозги. Я говорила ей, что никто и никогда не будет выглядеть как Барби. Я все время говорила ей, какая она умная. Однажды я научила ее делать бутерброды с сыром. Но она все равно не знала, что такое вомбат, и я сыграла нечестно.
Густав прижимается ко мне и обнимает одной рукой. На плечо мне ложится холодная рука Патрисии.
– Я хотела всегда быть Станци, – говорю я, рассматривая красные следы оплеух вокруг шрама. – Я хотела быть Станци, чтобы ты был Вольфгангом и все было хорошо. Я думала, что мы останемся там. Я думала, что это пойдет нам на пользу. Я думала, мы будем свободны.
========== Станци – утро субботы – семейный отдых ==========
Спать голышом на борту невидимого вертолета просто невозможно. Можно еще как-то притвориться спящей, но по-настоящему заснуть – ни за что.
Патрисия всю ночь пела. Она написала песню о том, как она свободна и летит, свернувшись калачиком посреди ночи на полу самодельного вертолета. У нее прекрасный певческий голос.
Густав выглядит раза в два более усталым, чем вчера. Он дрожит.
– Может, я сяду рядом или еще что-то придумаем? Ну, чтобы делиться теплом.
– Тебе нельзя шевелиться. У нас шаткое равновесие.
Патрисия смеется:
– Ничего, осталось немного.
– До чего осталось немного? – спрашиваю я.
– До приземления.
– Но туда мы летели почти два с половиной дня.
– Обратная дорога всегда вдвое быстрее, – замечает он. – Ты же сама всегда говоришь так, когда рассказываешь о вашем семейном отдыхе.
Я снова смотрю на шрам. Он открывает рот, прежде чем я успеваю накрыть его рукой.
– Это не отдых, – говорит он. – Я тебе врала.
– А куда вы ездите?
Я мысленно рассказываю Густаву и Патрисии все с самого начала. А вслух говорю:
– Я пишу тебе открытки, но никогда не отправляю.
– Но ты сказала, что соврала. Я не понял. Откуда ты берешь открытки, если не ездишь отдыхать?
Шрам снова открывает рот. И рассказывает про наш семейный отдых. Все с начала. Куда мы ездим. Зачем. Как мир разваливается на части. Я спрашиваю Патрисию, по-прежнему ли она довольна, что возвращается с нами.
– Вы жили в менее опасном месте, – замечаю я.
– Безопасность – ложь. Это как сэндвич с ветчиной без ветчины, – отвечает она.
– Как голубое небо в понедельник, если в среду идет дождь, – подхватываю я.
– Мне очень жаль твою сестру, – произносит она.
Я сплю наяву с закрытыми глазами. Я вижу четыре гроба. Мой красный, мамин синий, папин зеленый. Четвертый гроб вдвое меньше наших. На нем нарисован единорог и радуга. Мама с папой лежат с закрытыми глазами, но каждые несколько секунд они высовывают головы из гробов и проверяют, заснула ли я. Я притворяюсь спящей, и, когда они мне верят, они встают, берутся за руки и направляются к огромному гробу, стоящему у стенки в углу. Когда они открывают крышку большого гроба, оттуда раздаются голоса, смех и звон бокалов. Когда они закрывают крышку за собой, я приоткрываю глаза и вижу, что большой гроб – это «Чики-бар». А мы остались вдвоем. Я в красном гробу и она – в гробу с единорогом. И повсюду вомбаты.
========== Лансдейл Круз – утро субботы – серьезно ==========
Вчера вечером я поговорила с мужчиной из куста. Он сказал, что знает, что у нас было с мужчиной из новостей.
– Слухами земля полнится, – заметил он.
– Серьезно, – согласилась я.
Он сказал, что Станци и Густав вернутся домой. И привезут ему женщину. Он сказал, что женщина ночью написала песню о свободе. Он сказал, что ее зовут Патрисия. Я спросила, не пора ли нам уже перестать посылать предупреждения о бомбах.
– Когда процесс запущен, его уже сложно остановить, – ответил он.
– Это как с ответами, – заметила я. – Кажется, вы дали нам неправильные.
– Когда процесс запущен, его уже сложно остановить, – повторил он.
– Плевать.
– Плевать?
– Плевать. Я хочу перестать врать. Немедленно. За этим и пришла.
– Я буду скучать по твоим волосам, – признался он.
– У вас полные мешки моих волос. Давайте лучше сделаем мне какую-нибудь классную прическу. Например, боб.
– Хочешь, чтобы я надел тебе на голову горшок и отрезал все вокруг него?
– Вы скульптор, – ответила я. – Воспользуйтесь своим воображением.
Из-за куста я вышла с волосами в форме той женщины, Патрисии. С каждого угла обзора смотрела новая Патрисия. Ее лицо, ее бедра, ее груди, ее глаза. У меня на голове была сотня Патрисий. Я напоминала ходячий музей. Мужчина из куста вручил мне строчную «е», расшитую жемчугом. Он сказал, что теперь, когда мужчина и оператор вернулись в Лос-Анджелес, интервью придется брать мне.
Дома я помыла голову, потом залезла в интернет, нашла себе стрижку по вкусу, включила видео «Как подстричься самому?» и сделала себе приличный многослойный боб.
Сегодня все по-другому. Когда папа спрашивает, что я делала вечером, я отвечаю:
– Сходила в гости к мужчине из куста. Он сделал из моих волос сотню скульптур.
Папа даже не поднимает голову от газеты.
– Мог бы хоть на мою прическу посмотреть! – замечаю я.
Папа отгибает уголок газеты и прищуривается:
– Симпатично. Может, чуть коротковато, но волосы быстро отрастают.
У всех бывших миссис Круз волосы были до задницы. Всегда светлые, как у меня. Всегда осветленные и без отросших корней.
– А мне не кажется, что так слишком коротко, – возражаю я.
– Мужчина из куста? – переспрашивает папа.
– Вообще, я подумываю постричься еще короче.
– Ладно, это же твои волосы.
Я включаю на кухне телевизор и листаю каналы в поисках кулинарного шоу, но останавливаюсь, поймав лицо мужчины из новостей. При виде его мне хочется снова начать врать. Я прибавляю громкость, чтобы лучше слышать. Он рассказывает про китов. Про то, что в Калифорнии снова большой приток туристов, которые ездят посмотреть на китов. В конце сюжета у него над головой пролетает вертолет, мужчина произносит что-то неразборчивое и тыкает в него пальцем. Потом просит прощения у ведущего и объясняет, что это у них с оператором такая дежурная шутка.
– Я позавчера переспала с этим парнем, – признаюсь я.
Папа снова отгибает уголок газеты и опускает очки на переносицу:
– С ним?
– Ага. Тот еще позер.
– Похож.
– Он из Огайо, а говорит всем, что из Калифорнии.
– Это же канал с противным синоптиком? – спрашивает папа.
========== Чайна Ноулз – вечер субботы – обезьянка ==========
Меня зовут Чайна, я та девочка, которая вчера проглотила себя в портовом управлении, штат Нью-Йорк. Меня зовут Чайна, я та девочка, которая сегодня утром вывернулась обратно на правую сторону на кухне, прямо на глазах у родителей. Мои сестры поехали к тете. Шейн все еще спит на полу моей комнаты.
– Мама сказала, что ты сожгла ту обезьянку, – говорит папа.
– Да, прости.
– Я понимаю, что мы почти не видимся.
– Да, я помню, что тебе надо работать, – отвечаю я. – Правда, прости за обезьянку. Она мне очень нравилась. Спасибо, что купил ее.
– Я правда хотел бы приезжать почаще. Мне нужно больше знать о твоей жизни.
– Все нормально. У мамы все схвачено.
Я смотрю на маму. Она натягивает на лицо обеспокоенное выражение. Меня зовут Чайна, и у меня в спальне спит мой парень, но никто, кроме меня, об этом не знает. Родители, кажется, решили, что я сбежала из дома из-за обезьянки.
Я звоню Лансдейл, потому что она точно знает, что делать. Лансдейл отлично умеет пользоваться огнетушителем даже без инструкции.
– Это Чайна? – спрашивает она в трубку, как будто меня месяц не было.
– Да.
– Похоже, у нас были неправильные ответы, – произносит она.
Я отвечаю, что мне плевать на ответы:
– У меня тут Шейн. Еще спит в моей спальне. И родители дома.
– У меня осталось шестнадцать лишних ответов! – сокрушается Лансдейл. – Шестнадцать!
– Что мне делать? – спрашиваю я.
– Не пользуйся больше теми ответами.
– Вообще-то, я про Шейна.
– А, – отмахивается она. – Просто не выпускай его из комнаты. Закрой дверь.
– А если ему приспичит в туалет?
– Ну, в окно сходит, тоже мне проблема.
Меня зовут Чайна, и я сижу на полу спальни рядом с плачущим Шейном. Родители внизу готовят поздний обед и пританцовывают под кубинскую музыку. Они не слышат, как я прошу Шейна не выходить из комнаты. Как я советую ему помочиться в окно. Он уже не ящерица. Мы это обсудили.
.ьтакывирп ежу ароП .имагон хревв тунревереп тедуб адгесв риМ
Шейну нужно покурить. Он говорит, что может покурить в окно.
У меня звонит телефон. Лансдейл.
– Он что, правда писает в твое окно?
Я кошусь на Шейна: он писает в мое окно.
– Ну да.
– Его все соседи увидят, – говорит она. – Лучше было выбрать боковое окошко.
– Ладно, учту.
– Вчера я говорила с Кеннетом.
– Это тот парень из Лос-Анджелеса?
– Это мужчина из куста. Он дал мне неправильные ответы.
– А.
– Он сказал, что Станци и Густав скоро вернутся домой.
– Его зовут Кеннет?
– Да.
– Почему мне никто не сказал?
– Я думала, ты знаешь. Он теперь что, курит в окно? Ну серьезно, кто-нибудь позвонит твоей маме и наябедничает.
Я прошу Шейна подвинуться и закрываю окно. Увидев в трех домах от нас Лансдейл, я машу рукой. Она сидит на крыльце, а на подоконнике остывают два киша.
– Милый фартук, – замечаю я.
– А еще Кеннет сказал, что уже хватит, – добавляет Лансдейл.
– Ты про Фуэнтеовехуну?
– Да. У нас были неправильные ответы. Это уже неважно.
– Шейн хочет познакомиться с моими родителями, – говорю я.
– Пусть знакомится.
– Но…
– А что тебе терять? – спрашивает она. – Пусть знакомится. Но заставь его сначала сжевать мятную жвачку. И руки помыть. Курить при первом знакомстве всегда плохо.
========== Станци – вечер субботы – секрет Густава ==========
«Мы сейчас приземлимся и окажемся дома, правда? Там стоит моя кровать, правда? Там мои книги? Мой халат? Мой второй лабораторный халат?»
Я просыпаюсь под мягкий шум мотора. Мы все еще голые ледяные младенцы высоко в небе.
Глядя вперед, я представляю себе ветровое стекло и приборную панель, на которой Густав то и дело нажимает какие-то кнопочки и опускает рычажки. Но на самом деле я ничего не вижу. Сегодня суббота.
Десять минут назад мне показалось, что мне привиделся вертолет. Я видела красный корпус. Видела пропеллеры над головой. А теперь ничего не вижу, кроме нас троих, застывших в воздухе в невероятных позах. Патрисия по-прежнему лежит, свернувшись калачиком, как больная мокрица. Густав сидит, выпрямив спину, одетый только в шлем пилота. Он по-прежнему дрожит.
– Мне только что приснились четыре гроба, – рассказываю я. – Тебя в них не было.
– Это радует, – отвечает Густав. Он говорит серьезно. Думаю, он правда рад, что не лежит ни в одном гробу из моих снов.
Я замолкаю и разглядываю шрам. Он молчит.
– Мне нужно кое-что тебе рассказать, – произносит Густав. Я киваю. – Кое-что важное.
– Хорошо.
– Я взял две буквы у мужчины из куста. Месяцев пять назад.
– Ну?
Густав нервничает:
– Ну, ты догадываешься, как я за них заплатил.
– Да.
– Ну? И что?
– Ну а что?
– Ты понимаешь, что я сделал?
– Думаю, да.
– Я его поцеловал, – произносит Густав.
– Какие буквы он тебе дал?
– А есть разница?
– Есть.
– Голубую Б и черную Г. Обе деревянные.
– Интересно, какие слова можно сложить из наших букв… – задумываюсь я.
– Ты меня слушаешь? – кричит Густав. – Ты меня вообще слушаешь?
– Мне плевать, кого ты целовал до меня. Главное, кого ты будешь целовать после.
– Но он же мужчина! А что, если?.. Ну, что, если?..
– Я тебя люблю, – отвечаю я. – И мне правда плевать, отвечаешь ли ты мне взаимностью.
– Я тоже тебя люблю. С девятого класса, с того раза, как в столовой ты достала инструменты для препарирования, чтобы пообедать.
Я рассматриваю шрам. Он все еще молчит. Я не отвечаю Густаву пять минут. Я знаю, сколько времени прошло, потому что считаю. Вы когда-нибудь отсчитывали пять минут? Если отсчитывать, это долго. С того дня в девятом классе, когда я съела вегетарианские наггетсы скальпелем и пинцетом, прошло триста семьдесят пять тысяч восемьсот сорок раз по пять минут.
– В нас врезался грузовой фургон, – произношу я. – Он сбил знак «стоп», и папа ничего не заметил. Я сама увидела его, только когда обернулась сказать сестре, что загадала что-то на букву «В». Он несся прямо на нас.
– Как ее звали? – спрашивает Патрисия, свернувшись калачиком на полу.
– Да, – подключается Густав.
– Как ее звали? – переспрашиваю я. И смотрю на шрам.
========== Станци – вечер субботы – ее зовут… ==========
Я не помню, как ее зовут. Просто не помню. Вчера еще помнила. И помнила каждый день с тех пор, как она родилась и стала теплой. Но сейчас я вишу голышом в небе и не помню.
Густав говорит, что через пять минут мы приземлимся; кажется, ни его, ни Патрисию особо не волнует, что я не помню, как звали мою сестру.
В отличие от всех остальных пятиминуток в моей жизни, эта пролетает мгновенно. И вот я уже могу разглядеть овал нашего товарищества. Верхушки пятнадцатилетних деревьев. Детскую площадку. Параллельную улицу. «Лас Херманас». Дворик Густава. Вдалеке виднеется наш дом, с коричневой плиткой и двумя этажами.
Мы спускаемся. Спускаемся. Спускаемся.
И к нам бросается мужчина из куста. И отец Густава открывает дверь гаража. И его мама несет поднос с домашним печеньем. И вдруг я вспоминаю, что мы все голые. И что я не помню, как ее звали. И шрам не помнит, как ее звали. Никто не помнит, как ее звали. Она была девочкой, которая не знала, что такое вомбат. Она была гением географии. Она любила стишки. Она слишком громко разговаривала и устраивала истерики каждый раз, когда пора было спать. Она никогда не поцелует мужчину из куста. Никогда не пойдет на дискотеку. Никогда не посмотрит со мной «M*A*S*H» за разогретым ужином. Я никогда не скажу ей, что наша мать – Ястребиный Глаз Пирс. Она никогда не будет плакать и шептать мое имя посреди ночи и спать на полу моей комнаты в спальном мешке.
Мы садимся, и трава не знает, как ее звали. Не знают грязь и цветущие одуванчики. Никто не знает, как ее звали. Я не знаю, что будет потом. Не знаю, что будет потом. Стереть. Стереть. Стереть.
========== Интервью. Часть четвертая. Суббота ==========
Лансдейл Круз достает камеру, переключает в режим видео и кладет в карман фартука. Она бежит к месту событий – дворику Густава, – зажав в каждой руке по кишу. Добежав, она видит, что они все голые: Густав прикрывает причинное место чайным полотенцем, какая-то женщина завернулась в лист зеленого пластика, которым отец Густава на зиму прикрывает поленницу, а Станци, укутанная в одеяла, сидит на траве и смотрит куда-то на задний двор.
Интервью первое. Патрисия
– Почему вы все голые? – спрашивает Лансдейл.
– Ты что, снимаешь?
Лансдейл кивает камерой и отвечает:
– Да.
Опасный мужчина из куста отталкивает Лансдейл от Патрисии:
– Не сейчас.
Интервью второе. Опасный мужчина из куста
– Почему вы дали нам неправильные ответы?
– Выключи камеру, – отвечает он.
Лансдейл отключает камеру. Мужчина из куста уходит от Патрисии, которая пытается надеть хоть какие-то вещи матери Густава. Поднос с шоколадным печеньем лежит, целый и невредимый, на асфальте у двери гаража.
– Почему ты решила, что ответы неправильные? – спрашивает мужчина.
– Потому что у меня осталось шестнадцать лишних!
– И что?
– А это значит, что ответы были неправильные!
– Или ты неправильно вспомнила, – парирует он. – Ты же была занята другим, так?
– Думаю, да.
– Экзаменационная неделя была нелегкой.
– Ага.
– Тогда в чем был твой вопрос?
– Уже ни в чем.
Интервью третье. Густав
– Почему вы все голые?
– Иначе мы бы не взлетели, – отвечает Густав.
– А что случилось со Станци?
– Думаю, у нее шок. Или нет. Не знаю.
– Вы звонили ее родителям?
– Папа позвонил. Попал на автоответчик: «Ушли спать. Разогрей ужин из морозилки. Не забудь выключить свет».
– Они в «Чики-баре», – подает голос Лансдейл.
– Вот как. Пойду скажу папе, – решает Густав.
Интервью четвертое. Станци
– Станци, Станци!
Лансдейл смотрит Станци в лицо. Медленно проводит рукой перед ее лицом. Но Станци сидит и смотрит прямо перед собой стеклянными глазами. Лансдейл кладет камеру на траву и начинает мерять Станци пульс.
– Станци!
Станци не отвечает. Ее глаза смотрят в одну точку. Она часто дышит.
Лансдейл подходит к группе людей у открытой двери гаража:
– Она в каком-то ступоре.
Лансдейл достает свои два киша:
– Кеннет сказал, что сегодня вы вернетесь. Подумала, вдруг вы захотите подкрепиться.
Густав уже оделся в спортивный костюм, и она отдает один киш ему. Второй кладет на одеяло на коленях Станци, но та по-прежнему не шевелится. Киш падает на одеяло между ее скрещенных ног. Лансдейл наклоняется и пытается поставить блюдо с пирогом в фольге Станци на колени, но оно все время падает. Наконец она просто ставит его на траву рядом со Станци.
Лансдейл подходит к мужчине из куста:
– Видимо, не выйдет из меня журналиста.
– Да, выходит не очень.
– Вы обрекли меня на провал.
– Похоже.
– И неправильные ответы дали за этим же.
– Как скажешь.
========== Чайна Ноулз – ранний вечер субботы – подходит мне ==========
Меня зовут Чайна, раньше я была задним проходом, а сейчас я собираюсь познакомить Шейна с родителями. Папа уехал в очередную деловую поездку, не попрощавшись, но оставил открытку. Такой тупой кусок рельефного картона с псевдорукописным шрифтом. Снаружи написано что-то, что должно было напоминать стих, но оно называется «Я люблю тебя, доченька», а дальше идет столько прилагательных, что это совершенно нечитаемо. Внутри папа написал: «Для меня ты всегда останешься моей маленькой девочкой».
В моей комнате только что спал парень, и я собираюсь признаться в этом родителям… кажется, хорошо, что человек, до сих пор считающий меня своей маленькой девочкой, уже уехал. С мамой-то наверняка проблем не будет. Она расхаживает по дому в латексе и моет секс-игрушки в посудомойке, какие с ней могут быть сложности? Она наверняка что-нибудь придумает. Шейн уже разрешил мне рассказать его историю маме, чтобы она не ругалась.
– Я хочу кое с кем тебя познакомить, – начинаю я.
– Ты сказала то же самое, когда выиграла ту ужасную золотую рыбку у бойскаутов на вечеринке.
– На этот раз это кое-кто покрупнее золотой рыбки.
В комнату заходит Шейн и садится на диван рядом со мной.
– Мама, это Шейн, Шейн, это моя мама.
– Привет, – произносит Шейн.
Мама улыбается:
– Давно пора. Этот тупой Айриник тебе не подходил.
– Не подходил?
– Я мать, я вижу такие вещи, – отвечает она. – А еще после этой истории с побегом ты выглядишь куда лучше. Вегетарианкой стала, что ли? Кожа просто отпад. – Потом она обращается к Шейну: – Где ты учишься?
– Ну… сейчас нигде, – признается он. – Я… я только что переехал.
– О, какая прелесть. А как вы познакомились?
Мы оба на мгновение замираем, а потом одновременно отвечает:
– По интернету.
– Интернет-знакомства? – спрашивает она у меня.
– Не совсем.
Шейн хихикает.
– В общем, мне надо кое о чем тебя попросить, – продолжаю я. – Кое о чем очень важном.
– Очень важном, – повторяет Шейн.
– Можно Шейн немного поживет у нас? Ну, пока мы не найдем ему другое жилье, конечно.
Мама наклоняет голову.
– Месяц назад я сбежал от приемных родителей, – начинает Шейн. – Жил в Нью-Йорке с друзьями из нашей группы.
– Из группы в интернете? – спрашивает мама.
– Да. Но общаться с людьми в реальной жизни мне быстро надоело.
– Надоело общаться с людьми в реальной жизни? – повторяет мама.
– Ну да.
– А ты потом не сбежишь от Чайны, потому что с ней в реальной жизни тоже надоест?
Это очень хороший вопрос, и я рада, что мама его задала.
– Я люблю Чайну, – отвечает Шейн. – Я знаю, через что она прошла. Она знает, через что прошел я. Мы понимаем друг друга.
– У вас какой-то игровой чат? – спрашивает мама. – Я что-то о них слышала.
– Неважно, где мы встретились, – отмахиваюсь я. – Шейну негде жить.
– Я не приемный родитель. Вам обоим нет восемнадцати. Я не знаю, от кого Шейн сбежал и не в розыске ли часом. Немаленькие у вас запросы.
– Я понимаю, что мы просим очень много, – говорит Шейн. – Но, честное слово, меня никто не ищет. Я не завишу от системы. Я мог бы вернуться и попросить помощи, но приемные семьи особо не помогают. В смысле, мне. Другим-то наверняка.
Мама спрашивает меня:
– Значит, ты ездила в Нью-Йорк за ним?
– Я уехала в Нью-Йорк, чтобы там жить. А случайно получилось вот так.
– Ты не собиралась возвращаться? – переспрашивает мама.
– Нет.
– А как же твои сестры?
– А что сестры?
– Они бы места себе не находили. И я. И папа тоже.
– Прости меня, – отвечаю я. – Ты не все знаешь.
– Я не все знаю?
– Не все.
Тут раздается знакомый звук. Знакомый стрекот.
Мама идет на кухню и приносит мне лист бумаги и ручку:
– Напиши здесь то, чего я не знаю.
Она оставляет бумагу на кофейном столике и возвращается на кухню.
– Шейн, чего ты хочешь на ужин? – спрашивает она. – Вообще, я собиралась приготовить что-нибудь нам с Чайной, но в знак торжества мы можем заказать, скажем, пиццу или китайскую кухню.
– Она говорит это почти каждый день, – шепчу я Шейну.
– Не откажусь от пиццы, – произносит Шейн.
– Значит, пусть будет пицца, – провозглашает мама и скрывается в ванной на нижнем этаже.
А я остаюсь наедине с бумагой, ручкой, Шейном и вещами, которых мама не знает, и изо всех сил пытаюсь не проглотить себя. А над головой стрекочет.
========== Станци – ранний вечер субботы – говорить с экраном ==========
Я телевизор в вашей гостиной. Я наблюдаю изнутри. Вы вытащили меня из вертолета на траву. Вы скрестили мне ноги, чтобы я не упала. Вы завернули меня в одеяла. Вы положили мне на колено киш, но он упал. Вы измерили мой пульс. Проверили реакцию зрачков на свет. Вы шевелили моими руками и смотрели, как они безвольно падают по бокам. Вы все время называли меня Станци. «Станци-Станци-Станци». Вы знаете, что это не мое имя, но вы все равно называли меня Станци, а потом вызвали врача, она привезла санитаров, и вы увезли меня на скорой помощи. Вы нашли моих родителей и протрезвили их черным кофе. Вы сказали мне, что все будет в порядке, но вы не знаете, что именно не в порядке. Я сама не знаю, что не в порядке. Спросите у моего ДНК. У моей маленькой химеры. Спросите свой телевизор, что он будет на ужин, и он не ответит.
Мне снится сон. Там нет гробов. И вомбатов нет. Там есть голубое небо и два облака. На одном облаке я. На другом вы. Вас тысяча человек, а я одна. Вы один человек, а меня двое. Когда вы задаете мне вопросы, я понимаю их, но разве ответы имеют какое-то значение?
========== Чайна Ноулз – ранний вечер субботы – больница ==========
Я слышу сирены. Это не к добру.
Я звоню Лансдейл; Шейн садится за столик с бумагой и ручкой и предлагает все рассказать маме за меня, но я отказываюсь.
– Станци в ступоре, – рассказывает Лансдейл. – Ее отвезли в больницу.
– Она в ступоре? – повторяю я.
– Да.
– А Густав в порядке?
– Да. Он пошел в «Лас Херманас» с Кеннетом и женщиной по имени Патрисия. Сказал, что хочет тамале. Шейн уже познакомился с твоими родителями?
– Да. Станци в больнице?
– Да.
– Думаю, надо ее навестить, – говорю я и вешаю трубку.
Потом беру бумагу и ручку и пишу: «Мам, Станци в больнице, мы пошли ее навещать. О том, чего ты не знаешь, поговорим позже. Но я действительно стала вегетарианкой, рада, что ты заметила».
========== Станци – вечер субботы – доктор MASH ==========
Сегодня Чайна на правой стороне и не съедена. Она привела Шейна. Я в курсе, потому что она подходит ко мне вплотную и орет прямо в лицо, как будто мой экран из кожи мешает мне ее слышать.
– Это Шейн!! – кричит она.
Но я телевизор без пульта и не могу ничего ни сказать, ни сделать – только думать. Думать я могу. И думаю: «Я просто химические вещества на восемьдесят девять пенсов, одиноко бродящие по миру».
Лансдейл ходит взад-вперед. Ее волосы стали короче и не меняются, когда она разговаривает с Чайной или Шейном.
Мама с папой ушли домой. Они не стали оставлять мне записку, потому что знают, что медсестры не забудут покормить меня и выключить свет. У меня нет домашних заданий, и я немного об этом жалею. А еще мне хочется препарировать какого-нибудь червяка. Или птицу. Или лягушку. Может, если бы мне было чем занять руки, я бы заняла их. С тех пор, как мы приземлились, я раз сто пыталась дотронуться до органа вины, но не могу пошевелить рукой. У меня получается только моргать. Боюсь, у меня еще и слюни текут.
У Чайны обеспокоенный вид. Она подносит к моему лицу листок со стихотворением, и я вижу, что там что-то написано, но не могу прочесть, потому что мои глаза не двигаются.
Врачи спросили родителей, знают ли они, что так меня угнетает. Я смотрела, как мама положила ладонь папе на колено и рассказала им о долгих годах психотерапии. О ПТСР. О моих ночных кошмарах. О моей одержимости биологией. Они назвали это одержимостью!
Врач уточнила, ходили ли мы к семейному психологу.
– Мы в порядке, – ответили родители.
Я выглядываю изнутри телевизора, но даже мне было видно, что врач им не верит. А если у нее есть хотя бы половина обонятельной системы, она учуяла запах джина в двух дверях отсюда.
Входит другой врач и просит Чайну, Шейна и Лансдейл выйти. Он садится на мою кровать и произносит:
– _____, ты абсолютно здоровая девушка с огромным будущим. Насколько я понимаю, когда тебе было восемь, ты пережила травмирующий опыт, и я хотел бы с тобой его обсудить.
Я все еще выглядываю из телевизора. Забавный он, этот врач. Он напоминает Сидни, психиатра из «M*A*S*H». А я Ястребиный Глаз Пирс. Мы снимаем последний эпизод сериала, и я знаю его наизусть. Мы спорим о том, что случилось на заднем сиденье автобуса. Я говорю, что сидевшая сзади женщина задушила цыпленка, а он знает, что я лгу. Что она задушила собственного ребенка.
Он знает, что я сломана. Что я никогда не буду прежней. Он знает, что я состою из двух половинок, и ему для этого не нужны ни проверка ДНК, ни тетрагаметные химеры, ни биология.
А мне нужен только мой медицинский халат. У меня их еще два. Лежат в шкафу в спальне.
========== Чайна Ноулз – вечер субботы – Дом букв ==========
Меня зовут Чайна, и на моих ногах отныне расхаживаю я сама, а не части моего тела. Мы с Лансдейл и Шейном отправляемся поговорить с опасным мужчиной из куста. В кусте его нет, и мы идем к нему домой и звоним в звонок. Он открывает дверь в шортах и старой футболке и обрезанными рукавами и без плаща. Он приглашает нас войти, но мы стоим на пороге и смотрим, что происходит внутри.
Там сидит только что вышедшая из душа Патрисия и пальцами распутывает колтуны в волосах. Она голая, но ей идет. Перед ней стоит лампа и освещает ее горячим светом, а перед мужчиной из куста стоит глыба гипса, уже частично обтесанная в форме ее силуэта. Пол засыпан белой пылью
– Простите, – произносит мужчина из куста, – не могу оторваться от работы.
Он не закрывает дверь, мы стоим на пороге и смотрим, как он длинными, нежными движениями обтесывает гипс.
– Если все-таки зайдете, пожалуйста, не шумите, – просит он. – Наверху спит моя мама.
Мы не можем зайти. Его дом слишком набит буквами ручной работы. Каждая тарелка на кухне – буква. Каждая вилка – буква. Каждый стакан. Каждый сантиметр стены. Каждая трещинка на потолке, каждое пятно на ковре. Каждый предмет мебели – тоже буква. Патрисия сидит на перевернутой Г, а сам мужчина – на М. Дверь – высоченная Т. Не можем же мы войти в Т.
– Мой дом забит ответами, – замечает мужчина из куста. Тут мы осознаем, что не знаем вопросов.
Меня зовут Чайна, я девочка с кучей вопросов, но без ответом.
– Что не так с его домом? – спрашивает Шейн.
– Опасный мужчина из куста обожает буквы, – объясню я. – Это его фишка.
– А.
– Понятнее не стало, да? – спрашивает Лансдейл.
– Ага.
– Со временем поймешь, – обещает Лансдейл. – У нас очень странный город.
– Совершенно обычный город, – откликаюсь я.
– Что будете делать насчет вашей подруги? – спрашивает Шейн.
– Станци вернется, – отвечаю я. – Думаю, ей просто нужен психотерапевт.
– Халат ей нужен, – возражает Лансдейл. – Ей нужен ее медицинский халат.
– Ага, – соглашаюсь я. – Давайте ей его принесем?
Мы идем домой к Густаву, и я спрашиваю, пойдет ли он с нами и захватит ли с собой «Амадея». Теперь мы банда из четырех подростков. Мы идем по улице, как будто она принадлежит нам, потому что так и есть. Это наша улица. Мы родились. И останемся тут или уедем в зависимости от того, как с нами будут обращаться.
========== Станци – утро воскресенья – история психических заболеваний ==========
Вчера вечером меня запихнули в огромный пончик под названием КТ-сканер и еще что-то там исследовали. Я слышала, как они говорили между собой. Мастер ЭКГ был единственным, кто проявил вежливость и разговаривал непосредственно со мной. Парни на рентгене груди обсуждали концерт, на который хотели бы сходить, как будто я была просто кошкой на столе для препарации. Или лягушкой. По крайней мере, медсестра, ставившая мне катетер, вела себя мило.
Потом меня официально госпитализировали. Меня одели в бумажную одежду и назвали это «добровольной госпитализацией. Как будто я могу проявить добрую волю хоть в чем-то. Я бумажная кукла, которая писает в пластиковый пакет. Я история психических заболеваний под капельницей, которая питает меня соляным раствором. Морской водой. Слезами. Они не знают, что заполняют меня топливом для вертолета.
Густав, Чайна, Лансдейл и Шейн прячутся под моей кроватью. Пришла медсестра проверить капельницу и первый врач за день – психиатр, похожий на Сидни из «M*A*S*H». Он говорит, что скоро приедут мои родители, а потом меня переведут в отдельную палату.
– Можешь попросить друзей уйти?
Я внутри телевизора. Я ни о чем не могу попросить друзей. Я могу только пускать слюни.
– Классный халат. Вливаешься в обстановку? – спрашивает он.
Я пытаюсь пошевелить рукой, чтобы пощупать рукав моего медицинского халата, но ничего не шевелится. Я внутри телевизора и ясно все вижу. Густав во всем ошибался. Жуков нет. Мои сны ложь. Я умею вальсировать. Мы младенцы, и мы рождаемся. Я не чувствую своего халата, но помню, как Чайна и Лансдейл меня одели: перевернули меня, чтобы накинуть его на спину, подняли руки и продели в рукава, разгладили ткань под моей пятой точкой. Они знали, что его не надо застегивать. И что надо положить в нагрудный карман ручку; ручки здесь под запретом, но они притворились, что кладут туда ручку.
– Мы еще зайдем, – говорит моему экрану Чайна.
– Я принесу тебе торт, – вторит Лансдейл.
– Поправляйся, – желает Густав.
Шейн молчит. Он милашка. У него по всему телу, до кончиков пальцев, написано, как он сломан. Чайна никогда полностью не спасет его. Так утверждает мозг моего телевизора: «Чайна никогда не спасет этого парня».








