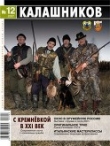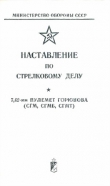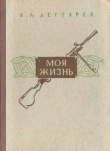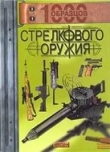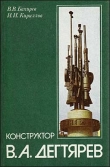Текст книги "Отечественные автоматы (записки испытателя-оружейника)"
Автор книги: А Малимон
Жанры:
Прочая документальная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 40 страниц)
– Никогда не мог бы подумать… Разговоры были еще до моего отпуска, но чтобы так быстро! Вот досада! Вот что значит не везет! Мне, конечно. За генерала ничего не могу сказать.
Офицером овладело чувство досады не оттого, что у полигона сейчас новый начальник Иван Тихонович Матвеев, бывший начальник первого отдела, а оттого, что он лишен возможности не только похвалиться, но и обрадовать генерала, который проявлял столько внимания и заботы об устройстве его личной жизни.
– Ну что ж, – сказал он, уходя из приемной, теперь придется представляться новому начальнику.
Вскоре до него дошла и другая неожиданная весть. Двое офицеров, недавних его подчиненных, решили в воскресный вечер сделать «вылазку» в ближайший поселок Шурово, чтобы немного развеяться и отдохнуть за пределами скучного в обыденной стандартной жизни военного городка. Но один из них вернулся в тот же вечер полураздетый и с телесными повреждениями (распухшей губой и синяками под глазами). Другой, это был Силыч, вышел на второй день на службу как ни в чем не бывало, целым и невредимым. Только шапка-ушанка была явно не его размера, наполовину закрывала глаза. На вопрос непосредственного начальника и товарищей по службе: «Где был вчера?» был один ответ: «Там, где я был, меня уже нет». Оба получили одинаковые взыскания. Новый начальник полигона без особых расследований случившегося «врезал» обоим на «полную катушку» в пределах прав, предусмотренных Дисциплинарным уставом по занимаемой генеральской должности. Как видно было из приказа по полигону, Силыч наказан за то, что оставил своего товарища на произвол судьбы.
Офицером, об устройстве личной жизни которого проявлял заботу генерал, как можно догадаться, был В.Ф. Лютый.
Был он уже в звании инженер-майора и исполнял должность ученого секретаря научно-технического совета полигона, а в то время, когда со своей «братией» оказался случайным «гостем» в квартире начальника полигона, был рядовым испытателем на 2-м «направлении» в звании инженер-капитана. Вскоре Лютый был переведен по службе в научно-исследовательский институт ГАУ, а в начале 50-х годов не прошла мимо него новая волна репрессий, связанная с событиями по «ленинградскому делу». На полигоне он отличался весьма свободной критикой в любой адрес – начиная от рядового пожарного до предсовмина. Но, учитывая его склонность к шутливым безобидным разговорам, на это никто не обращал сколько-нибудь серьезного внимания. А вот в новых условиях эта особенность характера Лютого не прошла незамеченной и была ловко использована доносчиками-интриганами. Инженер-подполковник Лютый стал их жертвой, лишившись свободы на несколько лет.
(Не раскрывал тайны дела вызывавшийся с полигона для снятия показаний «свидетель». Но шила в мешке не утаишь. Скрыть этого факта ему не удалось, в связи с чем пришлось оставить полигон и переехать на жительство в другой город.)
Как неожиданно был взят, так же неожиданно был отпущен на свободу. Еще до хрущевской антикультовой кампании, открытой им «антипартийной группы» и наступившей «долгожданной оттепели» Лютый был полностью реабилитирован. Восстановлен в воинском званий и занимаемой должности. Он продолжал работать в том же институте, защитив кандидатскую диссертацию по теме «Кучность боя автомата». Как и другие работники этого института – Остратенко, Иванюта, Терещенко, Селунский, Страхов, Барышев, он со своим «станком-стрекозой» под тяжелый пулемет часто приезжал на полигон для проведения опытных стрельб. Полигон для этой научно-исследовательской организации был главной испытательной базой.
Свою трудовую деятельность инженер-полковник Лютый закончил на преподавательской работе в военных и гражданских высших учебных заведениях по модным в то время дисциплинам, являвшимся теоретической основой новой военной техники.
Генерал-майор Бульба и на новом полигоне, где принял группу испытателей из расформированного оружейного, любил обходить свои испытательные точки пешком, не расставаясь, по унаследованной от прежнего полигона привычке, с тросточкой – лозинкой. Приближаясь к одному из испытательных рубежей, издали заметил, что с него стал уходить офицер и скрылся за рядом стоящим строением. Поскольку на огневой позиции никого больше не было, генерал направился туда, куда ушел офицер. Обойдя вокруг служебного здания и, никого не увидев, он повернулся в обратную сторону. И вдруг – лицом к лицу:
– Что же ты, батенька мой, от генерала убегаешь, – бросил он со спокойным укором опешившему от неожиданности офицеру.
– Никак нет, товарищ генерал, я вас догонял!
Генерал засмеялся, видимо удивленный проявленной офицером находчивостью, махнул рукой и направился дальше по своему маршруту.
Две снайперские винтовки, подошедшие к финишному решающему рубежу с практически одинаковым состоянием по конструктивной отработке, начальник полигона, питавший особую страсть пострелять из данного типа оружия еще по прежнему полигону, решил сам проверить новые винтовки в работе.
Первый образец – винтовка Драгунова – по удобству стрельбы прошел у него без замечаний. Неплохие были и результаты стрельбы на мишенях. После отстрела винтовки Константинова генерал сразу отдал ее испытателю и, приложив руку ладонью к правой щеке, резко произнес: «Не пойдет!»
Особенностью винтовки конструкции А.С. Константинова был спрямленный приклад, являвшийся продолжением штампованной из листовой стали ствольной коробки. По замыслу конструктора, спрямление приклада должно было обеспечить повышение меткости стрельбы по сравнению с деревянным прикладом классической изогнутой формы. Стреляющий из этой винтовки чувствовал щекой движение частей и их удары в конце отката, что и вызывало болевые ощущения у стрелка. Это хорошо почувствовал и генерал. Конструктору пришлось переделать свой образец по ствольной коробке и прикладу, что потребовало и других коренных изменений с перекомпоновкой всей конструктивной схемы винтовки, а следовательно, и больших затрат времени на доведение образца до законченного вида. Фактически работа начиналась сначала. Переконструированная винтовка Константинова при заключительных повторных полигонных испытаниях, естественно, показала худшие результаты, чем до переделки, уступив образцу Драгунова и по главной характеристике – меткости стрельбы. Это и облегчило выбор лучшего образца. Для принятия на вооружение полигоном была рекомендована самозарядная снайперская винтовка конструкции Е.Ф. Драгунова.
Членами комиссии, принимавшей окончательное решение, высказывалось мнение, что при дальнейшей доработке винтовка Константинова по своим характеристикам может только сравняться с образцом Драгунова. Получение же существенного превосходства маловероятно.
Система Драгунова впоследствии была принята на вооружение под наименованием: «7,62-мм снайперская винтовка конструкции Драгунова (СВД)».
Евгений Федорович Драгунов (1919–1991) после принятия его образца на вооружение положительно отзывался и о вкладе А.С. Константинова в отработку снайперской винтовки. «Александр Семенович, – отмечал Драгунов после заседания комиссии, где выступал и Константинов, – единственный раз нарушил наш уговор: критиковать образец „соперника“ только в глаза автору, но не прилюдно и тем более за глаза. А в целом мы честно соревновались на конкурсе и наши взаимоотношения были весьма дружественными, мы даже помогали друг другу чем могли».
Эта помощь, например, выражалась и в том, что на Ижевском заводе под наблюдением Драгунова для Константинова, по его личной просьбе, изготовлялись такие же по качеству стволы, как и для собственной винтовки. Константинов оказывал помощь Драгунову в отработке надежно работающего магазина. Проблема эта решалась непросто, так как патрон имел выступающую закраину на гильзе.
Это показательный пример коллективного творческого взаимодействия конструкторов при создании нового образца оружия, даже если они соревнуются между собою, выступая в одном конкурсе.
Глава 4Расформирование
Уход с оружейного полигона И. И. Бульбы, а вслед за ним и его первого заместителя Н. С. Охотникова болезненно отразился на жизни этой организации. В начале 50-х годов обозначился и некоторый спад в ее научно-технической деятельности, на что было обращено внимание и высшего руководства. Вопрос этот стал предметом обсуждения на партийном активе полигона, в котором принимал участие и руководитель Главного управления. Положение дел стало выправляться и работа полигона постепенно входить в нормальное русло с приходом на должность ее технического руководителя П. В. Панкратова, бывшего воспитанника «школы Охотникова», который к этому времени успел закончить обучение в аспирантуре научно-исследовательского института и защитить кандидатскую диссертацию.
Назначение его на должность первого заместителя начальника полигона произошло по рекомендации заместителя начальника Главного управления по опытно-конструкторским и научно-исследовательским работам А.А. Григорьева – также бывшего работника полигона. Павел Васильевич Панкратов исполнял должность первого зама вплоть до расформирования полигона, неожиданно состоявшегося в конце 1960 года.
Это было трагическое событие в жизни данной организации с многолетним опытом работы, сформировавшейся в течение десятилетий как высокоавторитетное специализированное военно-техническое учреждение армии по оружейной отрасли. За период своего существования полигон воспитал большую армию высокоэрудированных специалистов-оружейников, накопивших обширные знания технических проблем, связанных с отработкой различных видов вооружений.
Угроза расформирования стала нависать над полигоном во второй половине 50-х годов. С каждым годом усиливались разговоры о том, что в будущей войне все будет решать новый вид оружия – ракетно-ядерное, а стрелковое является уже бесперспективным и ему будет отведена второстепенная роль, что эра стрелкового оружия закончила свою жизнь и теперь все усилия должны быть направлены на развитие появившегося в армиях больших держав оружия нового типа.
Практическим проявлением такой технической политики по отношению к оружейному полигону явилось все большее просачивание на его испытательные поля заречной конструкторской организации Б.И. Шавырина, занимавшейся опытными разработками нового направления. Руководители этой организации не очень скрывали свои намерения стать единоличными хозяевами этой территории. О чем-то говорили и участившиеся наезды их гостей, приезжавших издалека на охотничьи угодья Луховицкого леса, входившие в техническую зону полигона.
Но полигон продолжал жить и работать в прежнем режиме и рабочем ритме, имея достаточно плотную загрузку, связанную с отработкой новых образцов вооружения, в том числе и стрелкового. Никто на нем и подумать не мог, что судьба этой организации в скором времени может круто измениться. Что все созданное и накопленное в течение десятилетий может оказаться никому не нужным и пойти на слом. Что большая армия специалистов-оружейников окажется не у дел и вынуждена будет искать работу в других местах по своей профессии или заботиться о приобретении новой.
Судя по плотной занятости оружейными делами и наличию реальных перспектив по дальнейшему развитию стрелковой техники, никто из оружейников разговорам о бесперспективности стрелкового оружия не придавал сколько-нибудь серьезного значения. Угроза расформирования полигона его личному составу казалась не реальной.
В то время многое в спешном порядке уничтожалось, отправлялось в металлолом, расформировывалось. Оружейный полигон от этого тоже не был застрахован.
В конце 50-х годов на этом полигоне стали испытываться совершенно новые изделия, которые в политических договорных соглашениях глав великих держав 80-х годов стали именоваться изделиями «средней и меньшей дальности». Наполовину было занято испытаниями этих изделий 3-е «направление» полигона.
Периодически низко над лесом с приглушенным шумом поднимались в воздух тупорылые объекты и опускались на землю где-то далеко в конце лесной просеки, волоча за собою целый шлейф тонких паутинных проводов. В них запутывались грибники и ягодники, пересекающие просеку в выходные дни и в другое разрешенное для выхода в лес время.
Однажды такое изделие по ошибке оператора, управлявшего полетом, с шипением и свистом пронеслось мимо 2-го «направления» в сторону КБ своего разработчика. Но оно не долетело и до реки, его удалось приземлить в приречной безлюдной пойме без каких-либо опасных последствий.
Неожиданное случилось в самом конце 1960 года. Пришел приказ. Председателем комиссии по расформированию полигона назначен последний (после Матвеева), теперь уже бывший его начальник И.И. Кныш.
На оружейные заводы идут последние письма с указанием адресата другой испытательной организации, куда необходимо отправлять объекты стрелкового и другого вооружения.
Пошли на слом испытательная техника и лабораторное оборудование, создававшиеся и накапливавшиеся в течение десятилетий. Подобная участь постигла и уникальный музей оружия, в котором хранились редкие экспонаты не только вооружения русских ратников периода княжения на Московском престоле Александра Ярославича Невского и Дмитрия Ивановича Донского, но и рыцарские доспехи европейского средневековья. Многое из этой коллекции удалось спасти работнику Ленинградского военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Юрию Александровичу Нацваладзе, которому пришлось «выуживать» под проливным декабрьским дождем оружейные ящики на одной из пригородных товарных станций г. Ленинграда.
Расформирован полигон, который еще в изначальном, зародышном состоянии в Ораниенбауме явился базовой основой по формированию в начале XX века первого в России научно-технического центра по стрелковому вооружению и образованию отечественной оружейной школы автоматического оружия. Расформировано и старейшее конструкторское бюро, много сделавшее в области создания различных видов военной техники и воспитания конструкторских кадров, обогативших отечественные Вооруженные Силы первоклассными образцами стрелкового вооружения.
И.И. Бульба принимал небольшую «команду», спасшуюся при гибели своего «корабля». Это были его воспитанники по прежнему полигону, который перестал уже существовать. Событие это было неожиданным и для генерала, который встретился с определенными трудностями по обеспечению прибывших офицеров и их семей жильем. Пришлось отдать им вновь построенный дом, предназначавшийся для сотрудников своего полигона, долго дожидавшихся своей очереди. Правда, в решение этого вопроса пришлось вмешиваться и начальнику Главного управления после посещения его кабинета делегацией жен офицеров, оставшихся на своих старых квартирах со своими домочадцами.
На новый полигон с расформированного оружейного прибыло 13 офицеров во главе с инженер-полковником Шевчуком П.А. На базе этой «команды» создан новый отдел по испытаниям стрелкового и некоторых других видов вооружения. Суеверные шутили:
– Нас прибыло двенадцать человек плюс один химик. Этим химиком был специалист по пиротехнике инженер-подполковник Зобнин.
Рассеялись по стране опытнейшие кадры испытателей и исследователей оружейной техники. Только малочисленная группа Шевчука, влившаяся в состав полигона Бульбы, продолжала заниматься своим прежним делом в менее приспособленных условиях и не с теми удобствами, чем прежде.
Многие испытатели отправлены на оружейные заводы в качестве военных представителей УСВ и исследовательские институты с близким к оружейной тематике профилем работы.
Видные отечественные конструкторы-оружейники и спустя десятилетия считают расформирование оружейного полигона «опрометчивым и недостаточно обдуманным актом», неоправданным не только для испытательного дела, для научной работы, но и для самих конструкторов, для их конструкторского творчества. «Непосредственно конструкторским работам по дальнейшему совершенствованию отечественной системы стрелкового вооружения был нанесен большой ущерб. Увеличились сроки испытаний, сократился объем испытаний и экспериментально-технических исследований по оружейной тематике», – пишут оружейные конструкторы в своих записках-воспоминаниях.
В следующих разделах и главах отражено бывшее участие расформированного оружейного полигона в работах военного и послевоенного времени по созданию отечественных автоматов и дальнейшему развитию этого типа оружия.
Часть вторая
Российские автоматы
Глава 5На рубеже двух эпох
Истоки оружейной автоматики
Создание первых образцов автоматического оружия различных типов относится еще к периоду разработки магазинных винтовок под унитарный патрон с металлической гильзой в начале 60-х годов XIX века. «Однако потребовалось много времени на усовершенствование этого оружия и на освоение всех тех новых идей, которые были выдвинуты достижениями техники», – отмечает В.Г. Федоров в своей научной работе «Эволюция стрелкового оружия», выпущенной в 1939 году.
Первая идея создания такого оружия, в котором автоматизм его действия обеспечивается за счет использования давления пороховых газов, развиваемого в стволе при выстреле, принадлежит знаменитому английскому металлургу Генриху Бессемеру, который в 1854 году взял патент на заряжаемую с казны пушку, снабженную унитарным патроном; затвор этой пушки открывался после выстрела автоматически – давлением пороховых газов.
В 1862 году его соотечественник Блекли разработал механизм для автоматического открывания и закрывания затвора, положив начало автоматическому перезаряжанию оружия.
Спустя год появляется первый проект автоматически действующего многозарядного ружья со скользящим после выстрела затвором американского конструктора Регула Пилона. Автору изобретения принадлежит первый патент на автоматическую винтовку, взятый еще в 1863 году.
В 1866–1883 годах в области автоматизации пехотных ружей становятся известными работы Реффи, Люце, Плесснера, Крнка, Винчестера и других зарубежных изобретателей, однако ни одно из разработанных к этому времени автоматических ружей не было принято на вооружение.
В 1884 году Х. Максимом было разработано многозарядное автоматическое ружье с подвижным стволом.
Первое практическое применение нашла автоматическая пушка, разработанная Х. Максимом в 1883 году, которая была введена на вооружение в некоторых армиях. Но наибольший успех сопутствовал пулемету под винтовочный патрон, разработанному в это же время тем же автором.
Станковый пулемет, созданный талантливым американским инженером Хирамом Максимом на принципе отдачи ствола с коротким ходом, был первым типом автоматического оружия, к которому во многих странах был проявлен большой технический интерес и который после устранения присущих ему отдельных недостатков получил всеобщее признание и стаи постепенно вводиться на вооружение армий многих государств.
Англия, куда Х. Максим переехал из Америки для продолжения своей работы совместно с известной фирмой Норденфельда, была первым государством, принявшим в конце 90-х годов после 10-летних опытов решение ввести пулеметы Максима во все полевые войска. России понадобился намного больший срок. Первые отзывы об этой системе здесь стали известны в 1885 году.
В 1887 году были начаты ее испытания параллельно с многоствольной картечницей Норденфельда, требующей больших физических сил человека для приведения всего механизма в действие вращением заводной рукоятки. После доработки по замку, разработки специального надульника и введения утолщения на переднем конце ствола система Максима 3-линейного калибра заключением Арткома ГАУ, в отличие от первой оценки, признана как имеющая существенные преимущества перед картечницей Норденфельда. После дополнительной проверки 12 пулеметов вьючного и крепостного типа (на колесных лафетах) в 1901 году в России было сформировано 5 пулеметных рот для службы в полевых условиях: одной при 3-й Восточно-Сибирской стрелковой бригаде и четырех – в Варшавском военном округе.
Небольшое количество пулеметов Максима (15 пулеметных рот по 8 образцов в каждой) в одном из наиболее тяжелых первых вариантов (28,85 кг) на колесных лафетах (175 кг) и треножных станках (20,47 кг) прошло русско-японскую войну 1904–1905 годов.
Всего к концу этой войны, с учетом образцов системы Мадсена, Русская армия насчитывала у себя 374 пулемета, что по количеству превосходило вооружение данного типа японской армии.
В конце XIX века волна конструкторских работ по созданию автоматического оружия захлестнула многие зарубежные государства, имеющие собственные оружейные школы и развитую оружейно-техническую промышленную технологию. За системой Максима следовали пулеметы: Манлихера (1885), Шкода (1893), Браунинга (1895), Норденфельда (1895), Кольта (1897), Бергмана (1897), Гочкиса (1897) и др.
Наибольший размах эти работы получили в начале XX века, в особенности после русско-японской военной кампании, в период, предшествующий первой мировой войне.
Первые достижения в пулеметном деле не остановили творческих поисков изобретателей в области автоматизации работы индивидуального ручного оружия. С этого, собственно, и начаты были все работы в период зарождения данного направления развития оружия пехоты. С попыток создания многозарядного автоматического ружья начинал свою работу и Х. Максим совместно с оружейным изобретателем Кропачеком, и лишь неудачливость первых опытов, несмотря на проявленную в этом высокую конструкторскую активность, заставили Максима перейти к разработке более крупных систем.
Наибольший успех сопутствовал пулеметной автоматике. И не только в конструкторском поиске одного Х. Максима – создателя первого в мире станкового пулемета. Этому способствовали лучшие условия по практической реализации различных оптимально выгодных конструкторских решений. Отсутствовали крайне узкие ограничения в отношении веса оружия по сравнению с автоматической винтовкой. Созданию этого вида оружия повышенное внимание уделяется в конце XIX-начале XX века. В этот период в развитых в техническом отношении государствах европейского Запада и на американском континенте создаются автоматические винтовки, которые подразделяются на самозарядные и самострельные:
– если для производства последующего выстрела требуется сначала отпустить спусковой крючок, а затем снова на него нажать, то такая винтовка называлась самозарядной.
– если же при нажатом спусковом крючке выстрелы следуют один за другим и стрельба продолжается вплоть до израсходования всех патронов магазина или прекращения нажатия на спуск, то такая винтовка называлась самострельной.
В более позднее время при специальном проектировании таких винтовок их называли просто автоматическими, а образцы, в которых автоматизм используется только для перезаряжания оружия – самозарядными. Сейчас же о них идет речь как об автоматическом оружии. Данное направление развития индивидуального оружия давало преимущество в первую очередь в существенном увеличении скорострельности по сравнению с системами, перезаряжаемыми вручную.
Начиная с кремневого гладкоствольного ружья, заряжаемого с дула, до появления 3-линейной магазинной винтовки системы Мосина образца 1891 года скорострельность этого типа оружия увеличилась от 1 до 12 выстрелов в минуту, а с появлением автоматической (самозарядной) винтовки она сразу возросла почти вдвое – до 20–25 выстрелов в минуту. Это создавало возможность увеличения плотности огня пехоты в таких же пределах, независимо от характера боевых действий – оборонительных или наступательных, без увеличения количества стрелков, как это было раньше, что, в свою очередь, способствовало уменьшению людских потерь воюющей армии.
Автоматическое перезаряжание оружия, в отличие от ручного, способствовало сохранению сил стрелка для ведения продолжительного огня, а в системах, построенных на принципе подвижного ствола, было и меньшее ощущение отдачи оружия в результате ее частичного поглощения сжимающимися возвратными пружинами. Считалось, что в самострельном варианте винтовки это должно положительно сказываться и на устойчивости оружия в руках стрелка при скоростной стрельбе.
Возражения в отношении введения автоматических винтовок обосновывались увеличением расхода патронов, сложностью конструкции, затрудняющей производство этого оружия на заводах и усложняющей обучение стрелка. И самое главное – это необходимость более тщательного ухода за оружием, без которого винтовка может давать большое количество задержек. В отношении расхода патронов уместно привести обобщенные данные В.Г. Федорова по двум минувшим войнам, которые вела Россия.
За всю русско-турецкую войну 1877–1878 годов Русской армией было израсходовано всего 16 млн патронов, а за один Ляоянский бой в русско-японской войне их было выпущено 80 млн. Средний расход на одну винтовку в этих войнах составлял соответственно 47 и 880 патронов.
Сложно объяснить причину столь большой разницы в приведенном расходовании патронов и в какой мере это было связано с появлением во второй войне автоматического оружия, но в любом случае увеличение нормы расходования патронов никогда не было основанием для отказа от более совершенного оружия. Мероприятиями, предупреждающими патронный «голод» в этих случаях были: увеличение боекомплекта патронов, хранящегося в запасе, и повышение производительности патронных заводов; правильная организация подвоза патронов, а также конструкторские работы по уменьшению не только веса патронов, но и оружия в целях обеспечения возможности увеличения носимого боекомплекта патронов.
Несомненным был тот факт, что все сложности, могущие возникнуть при эксплуатации автоматической винтовки, в том числе и связанные с увеличением расходования патронов, с избытком окупались выгодами боевого применения такого оружия.
Позднее в связи с появлением легкого оружия более эффективного массового огня (ручных пулеметов), чем его могут обеспечить автоматические винтовки самозарядного типа, и усилением тенденции дальнейшего развития этого оружия замечено некоторое понижение интереса армии к автоматической винтовке, а также временный спад активности в ее конструкторских разработках.
В середине 80-х годов XIX века Хирам Максим, наряду с образцом, имеющим подвижный ствол, проверяет своеобразную схему винтовки, автоматизм работы которой основан на использовании энергии отдачи всего оружия. В прикладе винтовки смонтирован специальный рычаг, упирающийся в плечо стрелка. После каждого выстрела он утапливается внутрь приклада и, взаимодействуя с рычагом затвора, открывает его. Возвращение в исходное положение происходит под действием пружины. Как и при подвижном стволе, опыт не дал положительных результатов.
Кроме системы Максима оружейная история знает и другие опытные образцы автоматических винтовок с подвижным стволом, в том числе и такие (системы Браунинга, Манлихера и др.), в которых ствол при выстреле откатывается назад на величину 8-10 мм вместе со ствольной коробкой и сцепленным с ним затвором, после чего происходит отпирание ствола и возврат его в исходное положение.
У австро-венгерского конструктора Манлихера был вариант винтовки со свободным стволом, двигающимся при выстреле вперед в особом кожухе под действием силы врезания пули в нарезы до полного обнажения гильзы для ее экстрактирования и производства перезаряжания. Винтовка была не полного автоматического действия, взведение курка требовалось делать вручную. Использовать работу газов, отводимых из ствола через боковые отверстия, для автоматического перезаряжания впервые предложили братья Клер во Франции.
В 1886 году в Англии оружейный изобретатель Джозеф Куртис впервые разрабатывает образец автоматической винтовки, построенный на принципе отвода газов.
Десятизарядная автоматическая винтовка мексиканского генерала Мондрагона образца 1908 года с отводом пороховых газов калибра 7 мм была первым образцом, выдержавшим все испытания. Принятие на вооружение в 1907 году не состоялось в связи с затруднениями при постановке ее на производство.
Но все же после доработки в небольших количествах она использовалась в мексиканской армии, а в 1915 году и немецкими авиаторами. Из других образцов положительные результаты получены только по винтовке Винчестера образца 1882 года с неподвижным стволом и с несцепленным затвором (применявшейся первоначально как охотничье ружье), которая после внесения значительных усовершенствований принята для использования в авиации.
Разработка автоматических винтовок, в полной мере удовлетворяющих требованиям армии, в иностранных государствах на рубеже двух веков приняла затяжной характер.
В конце XIX века разработкам автоматической винтовки положено творческое начало и нициативными изобретателями России.
В 1887 году лесничий Владимирской губернии Д.А. Рудницкий обратился в Артиллерийский комитет ГАУ с предложением о переделке 10,67-мм магазинной винтовки системы Бердана образца 1870 года в автоматическую за счет использования силы «пороховой отдачи» оружия.
Были еще проекты Глинского, Голубовского, Валицкого, Двоеглазова, Привалова и других отечественных изобретателей-самородков, но, не найдя государственной поддержки, их работы не получили дальнейшего развития.
Особое значение в вопросе активизации работ по автоматической винтовке имела русско-японская война 1904–1905 годов, и в первую очередь для России, потерпевшей в ней позорное поражение. Еще до начала этой войны в российском генералитете стало утверждаться мнение о необходимости повышения мощности огня пехоты за счет вооружения каждого солдата винтовкой, обладающей более высокой скорострельностью по сравнению с существующим образцом системы Мосина. Практическая реальность такого мнения была подтверждена не только итогами войны, но и всем ходом протекающих в ней боевых действий. В «Сборнике тактических указаний», данных начальниками различных степеней за войну 1904–1905 годов относительно огня в бою, указывается: «Следует стараться засыпать неприятеля градом пуль, чтобы деморализовать его и сделать стрельбу его беспорядочной».
Еще не закончившаяся война выдвинула вопрос о необходимости увеличения «скорости стрельбы», с тем чтобы массой огня подавить противника и получить над ним огневое превосходство. О необходимости «скорой стрельбы» высказывается и Главнокомандующий Маньчжурской армии генерал Куропаткин в своих указаниях начальникам частей: «Мы стреляем даже меньше, чем следует, – говорит он, – поэтому в тех случаях, где подвоз патронов прочно организован и действительность нашего огня несомненна, вместо того чтобы нести потери от ружейного огня противника, надо развить всю силу нашего огня в должной мере». Долго господствовавшее в Русской армии традиционное положение воспитательной направленности «стреляй редко, но метко» в первой своей части уже теряло прежнюю свою силу.