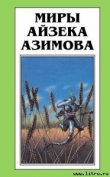Текст книги "Дело непогашенной луны"
Автор книги: Ван Зайчик Хольм
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 28 страниц)
– Э-э… – сказал он. – Не могу не уточнить все же, что я лично верю в благополучный исход.
Он имел в виду, что ютаи, если воспользоваться выражением Магды, окажутся как раз таки да, способными использовать случившееся в качестве отправной точки для покаяния, и собрался было сказать об этом поподробнее; но корреспонденты, поняв его так, что он верит в скорое освобождение бунтарей, решили, будто фраза окончена, и один из них сразу задал следующий вопрос.
– Успели просочиться слухи, – сказал он, – будто по крайней мере один из выступивших перед Стеной Плача студентов не вполне нормален психически. То ли он употреблял наркотики, то ли он жертва тоталитарного родительского воспитания… Как вы полагаете, реальна опасность того, что весь сегодняшний инцидент будет сведен властями к медицинскому, так сказать, казусу?
– Вполне реальна, – отрезала Магда.
– В связи с этим у меня вопрос другого порядка, может быть, не совсем по теме, – не отрывая взгляда от своего блокнота, поднял карандаш другой корреспондент. – Касательно отношения простых жителей улуса к вам самому, уважаемый господин Ванюшин. Беседуя о вас и вашей деятельности со многими жителями улуса, я не раз сталкивался с высказываниями наподобие: а, ну это же больной человек, что с него взять… Вас иногда жалеют, сочувствуют даже, но это сочувствие совсем не того рода, на какое вы рассчитываете. Во всяком случае, ваша точка зрения подчас представляется простым людям просто манией. Известно ли вам это, и если да, то как вы к этому относитесь?
– Они бы рады-радешеньки засадить нас с мужем в психоприимный дом! – саркастически усмехнувшись, громко проговорила Магда.
– Даже так? – поднял брови корреспондент.
– У меня нет этому… э-э… прямых подтверждений, – честно усомнился в словах жены Мордехай. Магда лишь скривила губы – снисходительно и даже с какой-то жалостью; а потом, искоса глянув на журналистов, словно бы и их пригласила разделить ее чувства. Ну посмотрите, мол. Ну что, мол, мне с ним делать. Ну как можно быть таким доверчивым идеалистом…
Глядя куда-то в пространство, Мордехай вдруг едва заметно улыбнулся.
– Э-э… – сказал он. – Знаете, это так естественно… Подозревать тех, кто мыслит иначе, чем ты, в каком-нибудь недуге и лишь этим недугом объяснять все его кажущиеся странности… в природе человека, увы. Надо к этой слабости относиться снисходительно. В конце концов, еще в библейские времена… – Наклонив голову набок, он замолчал на мгновение. Глаза его сделались совсем беззащитными и совсем грустными. – Если помните, пророк Елисей, любимый ученик Илии… э-э… он как раз совершил очередное благодеяние – сделал воду в Иерихоне здоровой и чистой, а потом направился, кажется, в Самарию, вразумлять царя… И малые дети вышли из города, насмехались над ним и говорили: иди, плешивый! Вот все, что могли ему сказать спасенные люди…
Присутствующие невольно глянули на его макушку. Там, совсем уже поредевшие, но все равно не покорные ни единой расческе, в плотном свете киношных ламп горели раскаленным серебром пушистые седые нити, нисколько не прикрывавшие младенчески розового, гладкого темени. Магда матерински улыбнулась и провела ладонью по голове Мордехая. Вот и драматургия, с удовольствием подумал фон Шнобельштемпель. Пресс-конференция, которую он единым махом организовал сегодня и, честно сказать, немножко волновался за исход своей импровизации, явно удавалась. Старина Мордехай, правда, внес в нее сейчас несколько неуместный, внеполитический мотив мучительности личного одиночества… ну, ничего. Как подать.
– Замечательный пример, – сказала Магда, вновь повернувшись к журналистам. – Мой муж, к счастью, не иудейский пророк, а просто очень хороший человек. Гражданин мира. Потому что знаете, чем кончилась эта история? Елисей в ответ проклял детишек именем Господним, из леса вышли две медведицы и растерзали сорок два ребенка[97]97
4 Цар. 2:21-24.
[Закрыть]. Число задранных заживо детей Библия сообщает даже с гордостью… А Елисей с чистой совестью отправился обличать беззакония царя. Не забудьте. Это специальный привет тем, кто любит говорить о врожденной мягкости и интеллигентности ютаев, о их генетически запрограммированном уважении к чужой жизни…
Кто-то из корреспондентов – Мордехай не понял кто – даже причмокнул от удовольствия. Беседа опять вернулась в надлежащее русло.
– А знаете что? – сказала Магда. Все взгляды снова обратились к ней. – Если мой муж проклянет ютаев – мало им не покажется!
Раздался дружный смех.
– Я для всех хотел бы… э-э… только добра, – мучительно возразил Мордехай и подслеповато заморгал. Но осекся и не стал продолжать. Его вдруг словно ошпарило внезапно налетевшее опасение: как бы Магда не подумала, будто он выгораживает ютаев. Нет, ни в коем случае. В нем ЭТОГО нет.
К тому времени как импровизированная пресс-конференция закончилась, с Мордехая семь потов сошло. Ни о какой работе сегодня уже и речи быть не могло, так его измотали полтора часа неимоверных усилий хоть как-то высказать то, что он ощущал и думал, высказать простыми и понятными словами, без подготовки, без написанного заранее – и тоже в непосильных муках – текста или хотя бы наброска текста… Для Мордехая все эти публичные действа были мукой адовой, он совсем не был приспособлен к ним, у него не было к тому ни малейшего таланта; но приходилось. Потому что это было нужно. Людям нужно. Стране нужно. Человечеству нужно…
Сердце ныло, ныло… Будто ему наскучило сидеть взаперти, в темной и тесной духоте за грудиной; будто оно, как ребенок, жалобно и безнадежно хныча, просилось гулять, хотя уже само наперед знало, что – не выпустят…
А Магда цвела. Ее глаза сверкали, щеки раскраснелись, она была взвинчена и хмельно весела. Будто после какой-то победы. Будто после долгожданных объятий возлюбленного. Все спорилось в ее руках, летало, порхало, когда она заваривала себе кофе. Она была буквально создана для работы с людьми, и Мордехай в который раз за эти годы порадовался, что она рядом. И все же… все же…
– Магдуся… – тихо позвал он.
Она пригубила кофе, потом подняла голову:
– А?
– Ты все же… э-э… иногда бываешь очень резка. Людей легко обидеть. Понимаешь? А мы ведь совсем не этого хотим.
Она поставила чашку и улыбнулась.
– Пророк мой… – нежно сказала она. – Ты так любишь ссылаться на Библию, так вот я тебе напомню. Бог сказал Аврааму: во всем, что скажет тебе Сарра, слушайся голоса ее!
4
Они не виделись больше двух лет. С тех пор как за Мордехаем и его женою установилась простая, всем понятная и все объясняющая репутация злобных ютаененавистников – то ли подкупленных недругами Ордуси, то ли свихнувшихся на ненависти к народу, среди коего жили, то ли еще почему, уж и не так важно, – Мордехаю сделалось тягостно бывать на людях. Он превозмогал себя, лишь когда этого настоятельно требовали его общественные обязанности; ради себя – никогда. Ходить на работу в институт, пусть даже изредка, пусть даже только в дни получки оказывалось просто невыносимо.
И сейчас он договорился о встрече со знакомцем еще по атомно-оборонной эпопее так, чтобы прошмыгнуть в его кабинет тихо и незаметно, как ночной воришка, – поздно вечером, через три часа после окончания официального рабочего дня, когда даже самые увлеченные и самые дотошные энтузиасты уж разошлись но домам: к женам, детям, книгам, танцам, говорливым посиделкам с приятелями под толику пива или вина…
Собственно, эту встречу тоже можно было бы отнести к подобным посиделкам. Огромный кабинет был освещен лишь настольной лампой, затерявшейся на просторах письменного стола, точно старенький слабосильный маяк посреди океана. В круге света стояла бутылка особой мосыковской; со времен работы на упрятанном в глубинах Александрийского улуса секретном объекте оба физика более всего полюбили этот непритязательный, но, как с поразительной для ученых убежденностью оба полагали, крайне полезный для здоровья ядерщиков напиток. Рядом с бутылкой искрились две рюмки, а уже на границе сумерек ждали своей участи несколько скороспелых бутербродов. Любой владелец даже самой мелкой лавки в самом недоходном месте Яффо, уверенный, что едва сводит концы с концами, искренне ужаснулся бы такому харчу: надо совсем себя не уважать, чтобы этак пить и закусывать! И это, мол, знаменитые люди! Но тем, кто всю жизнь, точно дух Божий над водами, парит над великими загадками мироздания, подобные пустяшные соображения не приходят в голову: в жизни главное – время. Если можно сварганить подходящий для дружеской беседы стол за пять минут, никто не станет тратить на это дело десять. Да к тому ж красивая посуда, полная изысканной снеди, тем более – породистые дорогие напитки уже сами собою навяжут галстуки на шеи; те, в свою очередь, обяжут говорить светские фразы – и пропал вечер. Как раз то, ради чего все и затевалось, ускользнет, потеряется среди никому всерьез-то не нужного сверкания хрусталя и ничего не дающих ни уму, ни сердцу вежливых общих слов… А жизнь так коротка! И без политесов-то ничего не успеваешь…
Два великих физика, два старых друга, ютаененаневистник номер один и директор ядерного института в Димоне пили водку.
– Нет, Мордехай, нет, – зажевав опрокинутые в рот полста грамм слущенным с бутерброда ломтиком сухой колбасы, сказал один. – Не проси. Это безумие. Не могу.
– Но почему? – проговорил другой. – Соломон, ты подумай… подумай без сердца. Без предвзятости. Ведь действительно наш вклад в создание бомбы – и здесь, и в Штатах – поразительно велик. Грех говорить такое, спесь какая-то просматривается, да? Но ведь это правда. Это факты. Вот у меня бумаги, можешь посмотреть…
– Да не буду я смотреть.
– Ты же ученый. Истина для тебя должна быть дороже всего на свете, Соломон. Разве можно закрывать глаза на истину?
– Да какая это к черту истина? Ты бы еще посчитал, сколько ханьцы, сколько арабы и сколько мы мух перебили за свою жизнь, охраняя свои тарелки на обеденных столах, – кто больше?
– Как ты можешь? Речь идет не о мухах.
– Тьфу! Да я не о том!
– Если тебе в голову приходят такие ассоциации – значит…
– Ничего это не значит.
– Я читал подобные лекции по всему Александрийскому улусу. Даже в их ядерных центрах. Даже русские разрешили, ты подумай!
– Их проблемы. Может, им приятно слушать, что их ученые – бездари, а всю работу сделали ютаи. Может, они мазохисты.
– Нет, просто они не зажмуривают глаза, видя неприглядность жизни. Это делает им честь. А нам – нет. Мы отказываемся смотреть жизни в глаза, Соломон. Наше сознание полно мифов, мы лелеем их, пестуем… Мы не станем современным народом, пока наши мифы для нас ценнее и важнее живой жизни. Мы не народ, а допотопное племя, средневековые… э-э… мракобесы, вот мы кто. Наше архаичное, полное предрассудков сознание не способно смириться с тем, что кто-то может свободно высказывать свою точку зрения по любому поводу. Низ-зя! А почему «низ-зя»? Некультурно… так не говорят и так не поступают воспитанные люди… Это же пещерный бред, Соломон! Доисторические табу! Человечество идет вперед, оно давно стряхнуло с себя путы… э-э… несекуляризированного… э-э… мифологизированного сознания…
– Мордехай, в таких случаях твои любимые русские говорят: в огороде бузина, а в Киеве дядька.
– Э-э… Не понимаю, на что ты намекаешь.
Они беседовали уже второй час. Щуплый, сутулый и длинный – с одной стороны стола; огромный, полный, потный – с другой. За окнами медленно проплывали тишина и тьма; стоявшие в углу высокие старинные часы – невидимые, лишь смутно мерцавшие поодаль, точно рослый, но ленящийся выйти из своего угла круглолицый призрак, – с таинственными вздохами и скрежетами отбивали каждую четверть часа, и казалось, что дышит и скрежещет сама мгла кабинета. Скрежет зубовный во тьме внешней…
В бутылке оставалось совсем немного.
– Взять хотя бы Пурим наш замечательный… Три седмицы осталось, вот хоть его взять. Праздник веселья и любви, понимаете ли! Мы ведь до сих пор воздаем ему дань символическим, да, пусть хоть и символическим – но все же людоедством! Мы… э-э… каннибалы! Гоменташи – это что? Пусть нам стыдливо лепечут, что это, дескать, Аманов кошелек – мы-то знаем, это озней-аман! Отрезанные уши несчастного Амана… И мы их по сию пору едим, а ведь уж двадцать первый век на дворе! Не-ет, пока ютаи празднуют Пурим, они не станут полноценной нацией. Этот день должен быть объявлен днем национального покаяния. Так мы покажем пример всем остальным… Вот в чем мы будем впереди всех, вот в чем должна стать наша избранность…
– Ох, Мордехай. Французы вон день взятия своей Бастилии празднуют – а с чего, казалось бы? Лучше бы всплакнули. Развалили памятник старины, поувечили несчастных сторожей, а узников-то и не оказалось… Раз, два – и обчелся. А сколько крови они потом пролили – и своей, и чужой… Четверть века лили? И ничего, празднуют, даже гордятся. А те же русские – они каждую масленицу солнце едят! Всем народом накидываются на солнце и поедают его, не делясь с остальным человечеством. Это вообще запредел. Ты бы, наверное, сказал: есть блины – угроза всему миру? Предложи-ка им покаяться в том, что всякий, кто едет к теще на блины, тем самым претендует на мировое господство. А я посмотрю, как они тебя послушают…
Довод был сильным. Тем более, Мордехай и сам любил блины – особливо с икрой. Он сделал хороший глоток из своей рюмки – и нашелся. Вообще он в последнее время стал замечать, что в отсутствии Магды оказывается куда лучшим говоруном и даже спорщиком, чем когда она рядом. Наверное, за прошедшие годы он слишком привык полагаться на нее в том, что у него самого получалось не лучшим образом, – и это расслабляло. А когда ее не было – не на кого оказывалось надеяться, приходилось самому…
Но как приятно, когда она рядом и можно хоть часть груза сбросить с плеч? Как сладко чувствовать, что ты не один!
– Разница в том, – отставив рюмку, назидательно сказал Мордехай, – что русские реально за всю свою весьма разнообразную историю солнце все ж таки ни разу не погасили и не проглотили. А мы едим уши реально погубленного нами персидского патриота и до сих пор при этом радуемся.
– Тьфу! – ответил Соломон.
И они выпили еще по одной. Бутылка показала дно.
– Нет, – сипло сказал Соломон, цапнул ломтик колбаски с последнего бутерброда. – Нет, – повторил он, прожевав. – Достаточно того, что мы в семье всякий раз, как на Песах читаем о десяти казнях египетских, отливаем из чаш по капле вина[98]98
Насколько известно переводчикам, во многих традиционных еврейских домах, когда во время пасхального седера (трапезы) читается хаггада (сказание) об исходе евреев из Египта, при упоминании каждой из казней египетских, посредством которых Бог принуждал фараона отпустить евреев из страны, принято отливать по капле ритуального вина из чаш в знак того, что радость празднующих не полна. Так демонстрируется сочувствие египтянам, пострадавшим ради того, чтобы народ Израиля обрел свободу. Характерная деталь: даже всемогущий Бог и даже в ту совсем не демократичную пору, когда возможности народа воздействовать на власть были равны нулю, не нашел иного способа вразумлять неразумного правителя, кроме как мучить и уничтожать подвластных ему простых, ничего не решавших и ни в чем не повинных людей. Печально, но иных методик, по всей видимости, и впрямь не существует…
[Закрыть]. Выплескивать всю свою жизнь я не собираюсь.
– Мифы, ритуалы… – Мордехай задумчиво и печально покачал головой в ответ. – Ничего живого… Все просто живут – а нам непременно Третий Храм подавай, без него все не в радость…
– Кому-то Третий Рим, кому-то Третий Храм, – отозвался Соломон. – У всех свои тараканы. А только вот что я тебе скажу: дай Бог один на тысячу об этом помнит. Остальные и впрямь… просто живут. И молодцы.
– Не-ет… – убежденно покачал головою Мордехай. – Ты не понимаешь. Может, и не помнят – но червячок неудовлетворенности гложет, гложет… И отсюда все время горечь: недополучили мы! недодали нам! Мало, мало, мало!!
– Это тебе, Мордехай, все мало и мало, – с тяжким вздохом сказал Соломон и принялся грузно и одышливо, как Левиафан на мели, устраиваться поудобнее в своем кресле. – Я тэбэ адын умный вещь скажу, только ты нэ абижайся… – процитировал он одну из любимых ими в молодости комедий. – Это тебе мало. Тебе нужен разом и Третий Храм, и Третий Рим. И желательно Эдем туда же. В одном флаконе. Такой идеальный идеал, чтобы – ух! Вот тогда ты, может, успокоишься… да и то – так разогнался, что и в раю не затормозишь…
– Перестань, Соломон, – устало отмахнулся Мордехай. – Хоть ты-то не строй из меня… э-э… психа на воле… – И тут, не выдержав, выкрикнул горько и страстно: – Ну посмотри же сам!! Ни один народ в мире не живет своим прошлым настолько, насколько мы! Эх, да что говорить… Мы претендуем на то, что вполне идем в ногу со временем, и в то же время продолжаем всерьез пользоваться лунным календарем. Это же… ну… ни в какие ворота. Новый год по Луне, все праздники по Луне… Луна – это наш бич. Иногда мне кажется, что она как якорь держит нас у старого, давно уж пустого берега и не пускает в плавание…
– Да вы, батенька, поэт! – хохотнул захмелевший Соломон.
– Может быть, – серьезно согласился Мордехай. Он тоже уж изрядно вкусил крепкого алкоголя, но так нервничал, что водка сказывалась лишь благотворно: он чувствовал себя свободным, раскованным, будто в одиночестве за письменным столом, посреди блистательного математического преобразования, и почти забыл свое «э-э». Ему было с чего нервничать: от исхода разговора многое зависело. Но Соломон оставался глух, и это было так грустно, так больно… Даже на слова о Луне он отреагировал лишь иронией. Он не понимал ничего, ровным счетом ничего.
– Знаешь, – сказал Мордехай задумчиво и склонил голову набок, – мне никогда не приходило в голову рифмовать, но жизнь я ощущаю так, что… – Он запнулся, подбирая слово. Однако как раз тут его поэтического дара не хватило; он так и не закончил фразы. Соломон, поняв, что не дождется продолжения, только отмахнулся.
– Да уж вижу я, как ты воспринимаешь жизнь… – сокрушенно пробормотал он. Набычась, долго смотрел на друга и коллегу молча. При его комплекции и пышной всклокоченной растительности на голове это производило сильное впечатление. – Мордехай, Мордехай, что ты творишь…
В ответ Мордехай не произнес ни слова. Разговор не удался.
– Вторую откроем? – с робостью, неожиданной для человека его заслуг, комплекции и ранга, предложил Соломон. Мордехай поразмыслил, потом отрицательно покачал головой. Соломон угрюмо кивнул; он и сам был далеко не уверен, что так уж необходимо удваивать ставки; просто жаль было расставаться, а ведь понятно, что когда водка кончилась, за пустым столом долго не усидишь. – А знаешь, ютаенелюб ты наш… я по тебе соскучился.
Мордехай только опустил глаза.
– Ладно, – с тяжелым вздохом произнес Соломон. Он придвинул к себе лист бумаги, открыл дорогую ручку с золотым пером. Размашисто расписался. – На, держи, – пустил летучий листок через стол к Мордехаю. – Вот разрешение на пользование мастерскими… Твои технические задания будут рассматриваться приоритетными. Я понимаю… Не работать ты не можешь, а на людях тяжко… Все понимаю, Мордехай. Одного не понимаю – как ты дал этой бабе так задурить себе голову…
– Не смей!!! – фальцетом выкрикнул Мордехай.
Ночь будто раскололась. Так от тонкого, пронзительного крика скрипки лопаются стеклянные сосуды. Так лопаются сосуды в мозгу, когда давление крови становится для них невыносимым… Соломон отшатнулся. Несколько мгновений он сидел неподвижно, откинувшись на царственную спинку своего директорского кресла, точно расплющенный по ней молотом взорвавшейся слишком близко чужой ярости; потом помотал головой, приходя в себя. И, словно бы ничего не произошло, закончил:
– А вот лекцию твою об адской роли ютаев в разработке атомного оружия – не позволяю. Не могу. Теперь иди. – Он помедлил и добавил: – Один иди. Я тут, может, еще выпью.
И Мордехай пошел. Тщательно упрятав листок с разрешением в принесенную папку, а папку – в «дипломат», он встал и, не говоря больше ни слова, пошел. От тоски ему хотелось умереть. Он честно старался убедить Соломона, он от всей души надеялся, что хоть в этот последний вечер в старом друге возобладает разум, он взял с собою все свои расчеты и списки – но Соломон не хотел ни смотреть, ни слушать. Соломон не оставил Мордехаю выхода. Если бы Соломон стал его единочаятелем, Мордехай бы все ему выложил. Силовой блок изделия нуждался в небольшой переделке. Но теперь…
Впервые в жизни Мордехай обманул друга. Обманул сознательно, нарочно. Но так было нужно.
Идеалы – требовательные наставники.
Богдан Оуянцев-Сю
Яффо, Йом ха-Алия, 12-е адара, утро
За ночь пришла настоящая весна.
И это было правильно.
Такой день не мог не быть умиротворенным и лучезарным. Такой день не мог не сиять. Такой день не имел ни малейшего шанса оказаться не похож на праздник – ни на земле, ни в небе; оставить море плеваться пеной, а тучи – угрюмо перекатывать по небу мокрые серые лохмы было бы со стороны ютайского Бога просто неуважительно к избранному народу своему; можно даже сказать – несообразно.
Теперь же, выглянув с утра в окошко, всяк мог удовлетворенно и с искренней благодарностью произнести тщательно уложенное в память вскорости после младенчества и никогда приличному человеку не надоедающее «Барух ата Адонай, Элохейну мелех хаолам…»[99]99
«Благословен ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной» (ивр.). Начальная, вводная фраза любого благодарственного благословения. Напр.: «Барух ата Адонай, Элохейну мелех хаолам, борэ при хагефен» – «Благословен ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, сотворивший плод виноградной лозы» (произносится перед возлиянием).
[Закрыть] – и дальше что-нибудь относительно метеорологии.
В восемь утра, миг в миг, к гостинице подали лакированные повозки типа «лимуцзинь»[100]100
Лимуцзинь – досл.: «продвижение вперед матушки Ли» (кит.). По всей видимости, это сокращение фразы Лишань лаому цзинъ – «Почтенная матушка с гор Лишань движется вперед». Почтенная матушка с гор Лишань – известная в даосизме святая, проповедница и кудесница, известная своей добротой и скорыми перемещениями на зов страждущих.
[Закрыть] – повышенной удобности, длинные, обтекаемые, как подводные атомоходы, и катящие так мягко, точно постеленное им под колеса дорожное полотно ткали из гагачьего пуха. В первую очередь заехали за гостями – как, собственно, установлено еще совершенномудрыми правителями древних времен.
Бек Кормибарсов, ставший сейчас юношески проворным и хлопотливым, первым сбежал к повозкам, проверил, точно ли напротив выхода из «Галута» расположилась задняя дверца первого «лимуцзиня», потом торопливо вернулся в номер. Таинство сборов отца в дорогу он не доверил никому. Фирузе с взбудораженной, но изо всех сил старающейся вести себя сообразно Ангелиною уже ждали у второй повозки; в первую загружали мужчин, второю должны были следовать за ними женщины. Водители сошлись покурить, о чем-то оживленно беседуя и с удовольствием оглядывая ослепительную лазурь небес. Минуты три Ангелина ждала смирно. Потом энергия возраста, помноженная на жгучее стремление показать себя и свои таланты, взяла свое; независимой походкой она подошла к водителям, задрала голову так, что ее белые банты упруго уткнулись ей в спину, и запросто, будто всю жизнь говорила на языке ютаев, бабахнула: «Шалом! Дерех тов?»[101]101
Здравствуйте! Дорога хороша? (ивр.).
[Закрыть] – «Да, – уважительно подумал Богдан, – дочка не зря провела вчерашний вечер…» Оба водителя, уставившись на пигалицу, на миг умолкли от неожиданности, потом захохотали. Переглянулись и вдруг загомонили на два голоса, бурно жестикулируя (по горизонтальному мельканию их ладоней можно было понять, что дорога гладкая-прегладкая) и через два слова на третье повторяя очень убедительно: «Тов, тов! Лело тов, хазор тов!»[102]102
Хороша, хороша! И туда хороша, и обратно хороша! (ивр.).
[Закрыть] То есть они рассказывали, судя по обилию эмоций и слов, еще много чего про дорогу, а может, и не только про дорогу – но глаза у Ангелины очень быстро сделались стеклянными, и она, снизу вверх серьезно глядя на больших дядей, умеющих управлять «лимуцзинями», лишь молча – правда, весьма солидно и даже, можно сказать, вдумчиво – кивала, стоически делая вид, что все еще участвует в беседе. Фирузе, потаенно улыбаясь, слегка прижалась к Богдану и, приподнявшись на цыпочки, носом провела по его щеке: вот, мол, какая дочка у нас; минфа, чувствуя, как от умиления у него пощипывает в носу, обнял жену за плечи. Так они и стояли, любуясь, – пока из врат гостиницы не показались старшие Кормибарсовы.
Оживленный рассказ водителей про дерех и как-то, вероятно, связанные с нею материи сам собою затих. Невесомый, сухой и седой, ровно ком тополиного пуха, Кормибарсов-старший медленно, но верно шествовал, опираясь на благоговейно подставленную руку Кормибарсова-младшего. Для Богдана, привыкшего видеть гордого бека в лязгающей и неподъемно тяжелой от орденов бурке, на белом коне величавого достоинства, эта картина была откровением: заботливый шестидесятилетний сын, прикусив губу от старательности, не отрывал цепких глаз от дороги и, казалось, разглаживал и подметал ее взглядом, дабы, не дай Аллах, какой-нибудь непочтительный камешек не попался отцу под подошву мягкого сапога и не затруднил его продвижения к цели.
Богдан невольно подобрался. Распрямил, сколько сумел, спину. Краем глаза увидел, что и на веселых водителей явление Кормибарсовых произвело не меньшее воздействие: присевший на капот повозки вскочил, оба вытянулись и побросали сигареты. Кормибарсовы приблизились, а в двух шагах от дверцы «лимуцзиня» и вовсе остановились. Старец, точно на смотру, оглядел вверенный ему на сегодняшний день ограниченный контингент (судя по всему, остался доволен) и, чуть раздвинув безгубый рот в приветственной улыбке, сказал:
– Салям.
Богдан, уже видевшийся нынче со старцем (он зашел в номер к старикам еще до завтрака, дабы пожелать доброго утра и справиться о том, как оба почивали, – а заодно и убедиться, что те не проспали), смолчал и лишь чуть поклонился.
– Салям алейхем, – чуть вразнобой ответили водители серьезно.
– Почему мы еще не едем? – обстоятельно выговаривая каждое слово, осведомился патриарх. – Мы можем попасть в пробку. Я знаю, у вас тут много пробок. Нехорошо заставлять Маше ждать. Он может подумать обо мне плохо.
Ясно было без слов, что в такой день городские власти уличного движения на самотек не пустят. Но Богдан все же позволил себе подать голос – только чтобы успокоить старца, столь щепетильного в вопросах чести.
– Думаю, сегодня пробок не будет.
Старший Кормибарсов медленно перекатил на него водянистый взгляд и несколько мгновений смотрел, словно бы вспоминая, кто это. Потом узнал. В глазах его, как это уже было полтора часа назад, зажегся приветливый огонек.
– Богдан, – раздельно произнес он, точно проверяя, правильно ли помнит.
– Да, дедушка, – смиренно проговорил минфа. Старец перевел взгляд еще чуть левее и увидел Фирузе.
– Моя внучка будет тебе хорошей женой, – заверил он.
– Мы уже девять лет женаты, – позволил себе слегка уточнить минфа.
– Девять лет, – повторил старец, словно, пробуя эти слова на вкус. Пожевал губами: впечатление стало полным. – Как летит время, – легко прокомментировал он услышанную новость. Повернулся к беку. – Почему мы не едем? – сварливо спросил он. – Ты хочешь, чтоб мы опоздали и Моше стал думать обо мне плохо?
Бек только засопел, как несправедливо обиженный, но хорошо воспитанный ребёнок. И молча потянул старца к повозке.
Богдан уселся рядом с водителем. Кормибарсовы умостились в горнице «лимуцзиня» – старец справа по ходу, бек – напротив него, спиною вперед. Водитель, прежде чем усесться за руль, поставил на столик между ними бокалы и несколько бутылочек с прохладительными напитками. По плану церемонии проезда место рядом с Кормибарсовым-старшим должен был занять Рабинович-старший, которого старец, – надо думать, по старой памяти, а отнюдь не из каких-то религиозных соображений, – продолжал называть, как в молодости, Моисеем; для Раби Нилыча же предназначалось место напротив отца, то бишь рядом с беком.
Поехали наконец.
Пробок и впрямь не оказалось.
Ах, что за улицы в Яффо! Повозки словно стояли или даже – висели в мягкой, ничем не колеблемой пустоте, а мимо сами собою текли зеленые людные проспекты, приветливые дома, и сразу вдруг – просторные площади и высотные деловые башни: Алмазное товарищество, компьютерное сообщество «Тавор»[103]103
В традиционной транскрипции – Фавор. Переводчики предполагают, что Х. ван Зайчик намекает на известную гору Фавор, что относительно неподалеку от Назарета. Традиционно считается, что именно на Фаворе произошло Преображение Христово, и именно поэтому выражение «Фаворский свет» вошло в века. Переводчики также склонны полагать, что ордусских ютаев побудила назвать свою электронику именем данной горы память отнюдь не о чтимых христианами, а о куда более родных им событиях (по времени, правда, значительно более давних, нежели Рождество Христово). Близ Фавора сынами Израиля была некогда одержана одна из самых значительных их военных побед.
[Закрыть], уверенно начавшее теснить своей продукцией даже прославленные «Керулены» – и правильно, и нечего почивать на лаврах…
Когда подъехали к особняку Рабиновичей, Богдан издалека углядел Риву, дежурившую у врат в ожидании. Девушка заметила приближающиеся повозки, и ее как ветром сдуло. Повозки остановились, водитель проворно выскочил наружу и открыл заднюю дверь со стороны оставшихся незанятыми мест. И началось явление второе.
Широкие створки остекленных дверей распахнулись – одну отворила Рива, другую Рахиль Абрамовна, супруга Мокия Ниловича; а через мгновение в яркий утренний свет солнца из сумеречных глубин особняка сам отставной Великий муж, блюдущий добродетельность управления, с предельно доступной человеку бережностью медленно выкатил кресло, в котором, укутанный пледом по пояс, в старомодном европейском костюме с галстуком, уложив иссохшие руки на подлокотники, восседал похожий на вырезанного из сандала даосского святого сам великий Нил Рабинович.
Доселе Богдан видел замечательного старца лишь на портретах. Относились те, вероятно, ко временам много более ранним – а может, что греха таить, и парадность в них некая наличествовала; но теперь минфа не мог не признать, что внушительный муж с картин – без возраста, с нечеловечески гладкой, будто оштукатуренной кожей и героически устремленным в светлое будущее взглядом, не видящим никого ближе машиаха[104]104
То есть «помазанника» (ивр.). Соответствующее ему арамейское слово мешиха приняло в греческом произношении форму мессиас, от которого уже и произошло употребляющееся в русском языке всем известное слово «мессия». Ожидание мессии, который возродит былое могущество сынов Израиля и восстановит таким образом мировую справедливость, является весьма существенной составляющей иудаизма. С этим связаны и моменты, которые можно было бы назвать курьезными, если бы не неизбывная драматичность подобных идейных разломов: например, самые ортодоксальные евреи не признают государства Израиль (хотя при этом могут вполне благополучно обитать в нем – одно другому не мешает), поскольку оно было создано не мессией, а обычными людьми, прибегавшими ко вполне обычным средствам.
[Закрыть], – производил куда меньшее впечатление, чем маленький, будто ребенок, одряхлевший и согбенный титан с ярким молодым взглядом.
Стоявший у дверцы водитель непроизвольно вытянулся по стойке «смирно». Кормибарсов-старший невнятно завозился и вдруг – бек Ширмамед то ли не успел, то ли, наоборот, не решился ни остановить отца, ни помочь ему, – боком-боком елозя по сиденью, переместился к открытой дверце «лимуцзиня» и с неожиданной бодростью выбрался наружу. Шагнул навстречу неспешно надвигающемуся креслу.
Нил слегка пристукнул левой ладонью по подлокотнику.
Раби Нилыч немедленно остановился, и кресло остановилось тоже.
С шуршанием сронив плед с колен – Раби Нилыч молча нагнулся и подобрал его, – Нил натужно воздвигся из кресла и на дрожащих ногах сделал шажок навстречу старому другу.
Патриархи обнялись.
– Здравствуй, Измаил, – сказал Нил.
– Здравствуй, Моше, – сказал Измаил. Оба говорили по-русски.
Богдан знал, что ханьская грамота так и не далась основателю Иерусалимского улуса, а старший Кормибарсов так и не удосужился всерьез заняться ивритом – и потому уж много десятилетий назад они сошлись на русском, который знаком был Измаилу сызмальства, как родной, а для Нила, будучи близок его родному польскому, не составил труда; на немецком же, как поначалу в рейхе, им говорить то ли не хотелось, то ли не моглось. И Богдану, в общем-то лишенному того, что называется национальными предрассудками, это было все-таки приятно. Бог знает почему. Какая разница, на каком языке говорят люди друг с другом? Важно, что именно они друг другу говорят. Все так – а вот поди ж ты… Приятно. Что-то тут есть загадочное. Хотя от большого ума объяснение придумать, конечно, легче легкого: не может не быть приятно, что юное твое наречие, аз-буки-веди твои в коротких штанишках пригодились, чтобы могли беседовать по душам такие люди… А все ж таки сим соображением приятность не исчерпывалась, была у нее составляющая необъяснимого, почти физиологического уровня…
– Сколько раз тебе повторять, – укоризненно проговорил Нил. – Я Нил.
– Ты во Христе Нил, а по работе Моше, – ответил старший Кормибарсов. – Кто вывел свой народ из европейского пленения?
– Мы вывели, – сказал Нил.
– Э-э, нет, – сказал Измаил – У нас говорят: кисмет улем эдер, калям эдер. Судьба делает тебя и тем, кто пишет, и тем, чем пишут… Я только выполнял приказ. Он мне нравился, но не я его придумал. А ты принимал решение сам. Поэтому я был лишь калямом в руках Аллаха, а ты написал «да» собственной рукой.