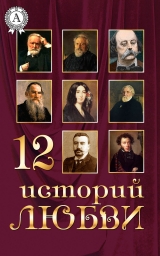
Текст книги "12 историй о любви"
Автор книги: Коллектив авторов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 294 страниц) [доступный отрывок для чтения: 104 страниц]
По прошествии нескольких минут поэт наш очутился в небольшой комнатке со стрельчатым сводом, хорошо вытопленной, запертой, сидя за столом который, казалось, просил, чтобы на него поскорее поставили что-нибудь из стоявшего вблизи шкафа с съестными припасами, видя в некотором от себя отдалении хорошенькую кровать, вдвоем с красивой девушкой. Все это приключение его отзывалось каким-то волшебством; он серьезно начинал принимать самого себя за какое-то действующее лицо из волшебной сказки по временам он бросал вокруг себя взоры, как бы’ ожидая увидеть огненную колесницу, запряженную двумя летучими рыбами, которая одна в состоянии была перенести его так быстро из преисподней в рай. По временам он пристально всматривался в дыры своего плата, как бы для того, чтобы возвратиться к действительности и чтобы не совершенно потерять почву под ногами. Его рассудок, под влиянием только что испытанных разнообразных ощущений, держался только на этой ниточке.
Молодая девушка, казалось, не обращала на него никакого внимания: она ходила взад и вперед по комнате, приводила в порядок незатейливую мебель ее, болтала с своей козочкой, строила разные гримасы. Наконец, она уселась возле стола, и Гренгуар мог внимательно рассмотреть ее.
Вы были когда-то ребенком, читатель, а, может быть, вы настолько счастливы, что остались им и до сих пор. Не может быть, чтобы вы не раз (я, со своей стороны, провел в этом целые дни, и притом наилучшим образом проведенные дни моей жизни) следили, от кустика к кустику, на берегу ручейка, в ясный солнечный день, за какою-нибудь зеленой или синей стрекозой, летавшей зигзагами, и мысль ваша и ваши взоры останавливались на этом маленьком, жужжавшем вихре, в котором между парою лазоревых и блестящих крыльев носилось какое-то маленькое тельце, которое даже трудно было рассмотреть при быстроте его движений. Воздушное существо, которое смутно обрисовывалось перед вами сквозь это трепетание крыльев, казалось вам чем-то химерическим, призрачным, неосязаемым, еле уловимым для глаза. Но когда стрекоза, наконец, цеплялась за конец ветки и вы, задерживая дыхание, могли рассмотреть ее длинные, как бы сотканные из газа, крылья, ее длинную эмалевую одежду, пару ее блестящих, как алмаз, глаз, с каким вы смотрели на нее удивлением и как вы боялись, что вот-вот она снова вспорхнет и химера ваша разлетится! – Припомните себе эти впечатления, и вы без труда отдадите себе отчет в том, что испытывал Гренгуар, рассматривая вблизи ту самую Эсмеральду, которая до сих пор только мелькала перед ним в вихре пляски, пения и шума.
– Так вот, – говорил он про себя, все более и более погружаясь в мечтания и машинально следя за нею глазами, – что такое Эсмеральда и Небесное создание! Уличная плясунья! Так много, и в то же время так мало! Она была главной виновницей того фиаско, которое потерпела моя мистерия сегодня утром, она же спасает мне жизнь сегодня вечером. Мой злой и мой добрый гений в одно и то же время. А красивая женщина, ей-Богу! И, должно быть, она безумно влюблена в меня, если она взяла меня таким образом. – А кстати, – вдруг сказал он, поднимаясь с места, в таком сознании истины, которое составляло основную черту его характера и его философии: – не знаю уж, как случилось, но ведь я – ее муж.
И под влиянием такой мысли, он подошел к молодой девушке с таким предприимчивым и решительным видом, что она попятилась назад и спросила его:
– Чего вам от меня нужно?
– Можете ли вы спрашивать меня об этом, очаровательная Эсмеральда? – ответил Гренгуар с таким страстным выражением голоса, которое удивило его самого.
– Я не понимаю, что вы этим хотите сказать… – продолжала цыганка, широко раскрыв глаза.
– Да что же такое, наконец! – воскликнул Гренгуар, все более и более разгорячаясь и вспомнив, что, в конце концов, он имеет дело с добродетелью «Двора Чудес, – разве я не твой муж, моя милая, и разве ты не жена моя?
И, без дальнейших церемоний, он обхватил ее талию. Но та выскользнула из-под его руки, как уж, отскочила одним прыжком в противоположный угол комнаты, нагнулась и затем снова выпрямилась, держа в руке кинжал. Гренгуар не успел даже заметить, откуда взялся этот кинжал. Она стояла раздраженная и гордая, с приподнятой кверху верхней губой, с раздувшимися ноздрями, с раскрасневшимися щеками, с широко раскрывшимися зрачками глаз. В то же время беленькая козочка ее встала перед нею и, нагнув голову, уставила на Гренгуара свои хорошенькие, позолоченные рожки, между тем, как шерсть на ней поднялась дыбом. Все это совершилось в одно мгновение. Девушка превратилась в осу и готова была ужалить.
Наш философ обомлел и переводил глаза поочередно с козы на девушку и с девушки на козу.
– Пресвятая Дева! – проговорил он, наконец, когда миновало первое впечатление удивления, – что с ними такое?
– Однако же ты очень дерзкий малый! – проговорила цыганка, первая прервав молчание.
– Извините, сударыня, – сказал Гренгуар, улыбаясь, – но для чего же вы взяли меня себе в мужья?
– Так что же, ты предпочел бы болтаться на виселице?
– Значит, – проговорил наш поэт, несколько разочаровавшись в своих любовных надеждах, – вы, выходя за меня замуж, руководствовались только желанием спасти меня от виселицы?
– А чем же я могла еще руководствоваться?
– Видно, – проговорил про себя Гренгуар, закусив губу, – мне еще не так близко до торжествующей любви, как я то думал. Но в таком случае для чего же они разбили этот бедный кувшин?
Тем временем кинжал Эсмеральды и рога козы все еще оставались в оборонительном положении.
– Сударыня, – громко сказал поэт, – пойдемте на соглашение. Я не судейский крючок, и не стану придираться к вам за то, что вы носите при себе в Париже оружие, вопреки строгому запрещению властей, хотя, быть может, вам и известно, что не далее, как не делю тому назад, Ноэль Лекривен был приговорен к значительной денежной пене за то, что носил при себе кортик. Но это до меня не касается, и я возвращаюсь к делу. Клянусь вам своею долею рая, что я не приближусь к вам без вашего разрешения и приглашения; но только дайте мне поужинать.
В сущности Гренгуар не принадлежал к числу сладострастных натур; он не был из категории тех людей, которые берут женщин приступом. В любовных делах, как и во всех других, он склонялся скорее на сторону выжидательных мер; а хороший ужин, в особенности с глазу на глаз с красивой женщиной, казался ему, в особенности при мучившем его голоде, отличным антрактом между прологом и развязкой этого неожиданного любовного приключения.
Цыганка ничего не ответила. Она состроила презрительную гримасу, повернула головку, точно птица, затем громко расхохоталась; кинжал исчез столь же незаметным образом, как он появился, и Гренгуар опять-таки не успел разглядеть, где пчела прячет свое жало. Минуту спустя на столе перед ним появился ломоть ржаного хлеба, кусок сала, несколько яблок и кружка браги. Гренгуар принялся пожирать все это с жадностью. Судя по бешеному стуку его ножа о тарелку, можно было подумать, что вся его любовь ушла в аппетит. Молодая девушка, усевшись перед ним, молча смотрела на него, занятая, очевидно, совершенно другою мыслью, заставлявшею ее по временам улыбаться, между тем, как маленькая ручка ее гладила умную головку козы, положенную на ее колени. Свеча из желтого воска освещала эту сцену обжорства и мечтательности.
Немного заморив червячка, Гренгуар с некоторым чувством стыда заметил, что осталось только одно яблоко.
А вы разве не хотите кушать? – спросил он.
Она только мотнула головою и уставила глаза в потолок комнаты.
– О чем это она задумалась? – сказал про себя Гренгуар, и, устремив свой взор по тому направлению, куда были обращены ее глаза, подумал: «Не может же до такой степени привлекать ее внимание этот маленький, каменный карлик, которым заканчивается свод. Ведь, черт возьми, я же, кажется, покрасивее его!»
И, возвысив голос, он опять окликнул ее:
Сударыня! – Она, по-видимому, не слышала его. Он повторил еще громче: – Госпожа Эсмеральда!
Тщетный труд. Мысли молодой девушки, очевидно, были где-то далеко, и голос Гренгуара не в состоянии был призвать их обратно. К счастью для него, в дело вмешалась коза: она принялась потихоньку теребить свою хозяйку за рукав.
Чего тебе, Джали? – проговорила цыганка, как бы проснувшись от глубокого сна.
– Она голодна, – проговорил Гренгуар, обрадовавшись случаю завязать разговор.
Эсмеральда накрошила на своей ладони хлеба, который Джали грациозно стала есть. Гренгуар решился воспользоваться этим случаем, чтобы не дать ей снова впасть в свою задумчивость, и предложил ей несколько нескромный вопрос:
– Так вы не желаете иметь меня своим мужем?
Молодая девушка пристально взглянула на него и ответила:
– Нет!
– А любовником? – продолжал Гренгуар.
Она состроила гримасу и опять проговорила:
– Нет!
– А другом? – настаивал Гренгуар.
Она опять пристально взглянула на него и, подумав немного, ответила:
– Быть может!
Это «быть может», столь дорогое философам, придало смелости Гренгуару.
– А знаете ли вы, что такое дружба? – спросил он.
– Да, знаю, – ответила цыганка. – Это значит жить, как брат с сестрою, душа в душу, как два пальца, которые соприкасаются, но не сливаются в одно.
– Ну, а любовь? – продолжал Гренгуар.
– О, любовь! – воскликнула она, и голос ее задрожал, а глаза заблестели. – Любовь – это значит быть двумя существами, слитыми воедино; это – женщина и мужчина, превратившиеся в одного ангела. Это – небо!
И, произнося эти слова, уличная плясунья озарилась такою красотою, которая просто поразила Гренгуара и которая показалась ему вполне гармонирующей с почти восточной восторженностью ее слов. Ее розовые, нежные губки полу-улыбались; ее ясный лоб по временам подергивался легким туманом мысли, подобно тому, как зеркало на минуту тускнеет от дыхания, а из-под длинных, черных, шелковистых ресниц ее по временам вырывались снопы света, придававшие лицу ее тот идеальный оттенок, который встречается иногда у женщин Рафаэля.
– Так что же, однако, нужно для того, чтобы понравиться вам? – продолжал допрашивать Гренгуар.
– Нужно быть мужчиной.
– А я – разве не мужчина?
– У мужчины – шлем на голове, меч у бедра и золотые шпоры на каблуках.
Хорошо, – сказал Гренгуар, – значит, мужчина должен быть всадником, – А любите ли вы кого-нибудь?
Она на минуту задумалась и затем сказала с каким-то особенным выражением:
– Я это вскоре узнаю.
А отчего же не сегодня вечером? – спросил поэт нежным голосом. – Отчего не меня?
Оттого, что я в состоянии буду полюбить только человека, который сумеет защищать меня, – ответила она серьезным тоном.
Гренгуар покраснел и замолчал: очевидно было, что молодая девушка намекала на то, что он не сумел как следует защитить ее в том критическом положении, в котором она очутилась часа за два перед тем. Это воспоминание, несколько сглаженное другими событиями минувшего вечера, пришло ему на ум, и он хлопнул себя ладонью по лбу.
Кстати, сударыня, – сказал он, – мне бы следовало и начать с этого вопроса; извините мою рассеянность. Каким образом вам удалось освободиться от когтей Квазимодо?
О, проклятый горбун! – воскликнула молодая девушка, вздрогнув и закрыв руками лицо свое. Она дрожала, точно ее била лихорадка.
Действительно, ужасный, – подтвердил Гренгуар, не терявший надежды добиться своего. – Но каким же образом вы избавились от него?
Эсмеральда вздохнула, улыбнулась и промолчала.
А известно ли вам, почему он преследовал вас? – спросил Гренгуар, пытаясь возвратиться к своему вопросу обходным путем.
– Нет, не знаю, – ответила она, и затем прибавила с живостью, – да ведь и вы следовали за мною! С какою целью вы это делали?
– Сказать вам по совести, – ответил Гренгуар, – я этого и сам хорошенько не знаю.
Оба они замолчали. Гренгуар водил по столу ножом; молодая девушка улыбалась и как будто старалась разглядеть что-то сквозь стену. Затем вдруг она вполголоса запела по-испански:
Когда замолкают разноцветные птицы,
а земля…
Но тут же она оборвала свою песню и принялась ласкать Джали.
– Какая хорошенькая у вас козочка, – снова заговорил Гренгуар.
– Это сестра моя, – ответила она.
– А почему вас зовут Эсмеральда?[10]10
Эсмеральда по-испански значит «изумруд». // Примеч. перев.
[Закрыть] – снова спросил поэт.
– Не знаю, – ответила она и с этими словами вынула из-за своего корсажа небольшую, продолговатую ладанку, висевшую у ней на шее на цепочке из каких-то нанизанных зерен. От этой ладанки сильно пахло камфарой. Она была сшита из зеленого шелка, и в ней было довольно большое зеленое стеклышко, наподобие изумруда.
– Может быть, вследствие этого, – проговорила она.
Гренгуар протянул было руку к ладанке, но она отдернула свою.
– Не трогай! – сказала она. – Это амулет! Ты мог бы причинить вред ему или он тебе.
– Кто же дал тебе его? – спросил поэт, любопытство которого все более и более разгоралось.
Она приложила палец к губам и снова спрятала ладанку за свой корсаж. Он попробовал предложить ей еще несколько вопросов, но она не отвечала.
– А что значит слово: «Эсмеральда»?
– Не знаю, – ответила она.
– Да какому языку принадлежит оно?
– Не знаю, наверное. Кажется, это слово египетское.
– Я так и думал, – сказал Гренгуар. – Значит, вы родом не из Франции?
– Не знаю.
– Но кто же ваши родители?
Она запела на весьма старинный мотив: «Отец мой – птица, мать моя – пташка. Я переправляюсь через реку без лодки и без челна. Отец мой – птица, мать моя – пташка».
– Ну, прекрасно, – продолжал Гренгуар. – А скольких же лет вы попали во Францию?
– Еще совершенно маленькой.
– А в Париж?
– В прошлом году. В то время, когда мы входили в заставу, я увидела улетавшую камышовую малиновку, – это было в конце августа, – и сказала сама себе: «У нас будет нынче суровая зима».
– Так оно действительно и случалось, – сказал Гренгуар, восхищенный тем, что разговор, наконец, завязался, – мне в течение этой зимы порядочно-таки пришлось дуть себе в кулак. Вы, значит, обладаете даром пророчества?
– Нет, – ответила она, снова впадая в свой лаконический тон.
– А тот человек, которого вы называете цыганским царем, это значит, начальник вашего племени?
– Да.
– Однако ему мы обязаны тем, что мы женаты, – робко заметил поэт.
– Я не знаю даже твоего имени, – сказала она, состроив свою хорошенькую гримасу.
– Мое имя? Вот оно, если вам того угодно: Пьер Гренгуар.
– А я знаю более красивое имя.
– Вы желаете дразнить меня, – сказал поэт, – но это вам все равно не удастся. Послушайте, быть может, вы полюбите меня, узнав меня поближе. А так как вы сообщили мне кое-какие сведения о себе, то и я считаю нужным рассказать вам вкратце мою биографию. Так знайте же, что меня зовут Пьером Гренгуаром и что я сын сельского нотариуса в Гонессе. Отца моего повесили пикардцы, а моей матери распороли живот бургундцы во время осады Парижа, двадцать лет тому назад. Итак, с шести лет я остался круглым сиротой, не имея иного пристанища, кроме парижской мостовой. Я сам хорошенько не знаю, каким образом я прожил от шестилетнего возраста до шестнадцатилетнего. Кое– когда продавщица фруктов давала мне сливу, булочник бросал мне корку хлеба; по вечерам меня подбирал на улицах ночной дозор, который отводил меня в тюрьму, где я находил, по крайней мере, связку соломы. Все это не помешало мне вырасти и похудеть, как вы видите. Зимою я грелся на солнце, под Сен-Санской аркой, находя очень странным, что ивановский костер разводится в июне месяце, среди летних жаров. В шестнадцать лет я задумал приняться за какое-нибудь занятие и поочередно перепробовал разные. Я поступил в военную службу, но у меня недостало храбрости; затем я поступил в монахи, но тут у меня не хватило благочестия, да к тому же я не умею пить. С отчаяния я поступил в обучение в плотничью артель, но для того, чтобы быть плотником, у меня не хватило силы. Тогда я задумал сделаться школьным учителем; правда, я не умел читать, но это не могло послужить мне препятствием. Словом, по прошествии некоторого времени я убедился в том, что у меня во всем чего-то недостает; и, увидев, что я ни на что не гожусь, я по собственной моей охоте сделался поэтом и рифмоплетом. Это такое занятие, к которому всегда можно перейти от бродяжничества, и во всяком случае это лучше, чем воровать, как советовали мне делать некоторые знакомые мне молодые люди. К счастью для меня, я встретил в один прекрасный день Клода Фролло, достопочтенного архидиакона собора Парижской Богоматери. Он принял во мне участие, и ему я обязан тем, что теперь я не только человек грамотный, но даже знакомый с латинской словесностью, начиная с Цицерона и кончая «Житиями Святых», и что я не невежда ни в схоластике, ни в пиитике, ни в ритмике, ни даже в герменевтике, этой премудрости премудростей. Я – автор той мистерии, которую представляли сегодня утром, с таким торжеством и при таком многочисленном стечении народа, в большой зале суда. Я написал также сочинение в шестьсот страниц о чудовищной комете 1456 года, которая довела одного человека до сумасшествия. Кроме того, я одержал и некоторые другие успехи. Будучи несколько знаком с артиллерийским делом, я работал над сооружением той огромной пушки Жана Мога, которую, как вам, вероятно, известно, разорвало на Шарантонском мосту в тот день, когда ее испытывали, причем было убито 24 человека. Из этого вы видите, что я представляю собою довольно приличную партию. Я могу также научить вашу козу разным очень забавным штукам, как, например, изображать парижского епископа, этого проклятого фарисея, мельницы которого забрызгивают водою всякого, проходящего мимо Мельничного моста. Наконец, мистерия моя доставит мне немало денег, если только мне заплатят за нее. Словом, я весь к вашим услугам – и я, и мой ум, и мое образование, и моя наука. Я готов жить с вами, сударыня, как вам будет угодно, целомудренно или среди наслаждений, как муж и жена, если вы того пожелаете, как брат и сестра, если вы предпочтете это.
Гренгуар замолчал, выжидая, какое впечатление произведет его длинный монолог на молодую девушку.
Она продолжала сидеть, потупив взоры в землю.
– Феб… – произнесла она вполголоса, и затем, порывисто повернувшись к Гренгуару, спросила его: – А что такое значит Феб?
Гренгуар, хотя и не понимал хорошенько, какая может быть связь между его монологом и этим вопросом, обрадовался, однако, случаю блеснуть своею ученостью. Он ответил докторальным тоном:
– Это латинское слово, оно означает «солнце».
– Солнце? – переспросила девушка.
– Да, это имя прекрасного стрелка, который был богом, – присовокупил Гренгуар.
– Богом? – повторила девушка, и в звуке ее голоса было что-то мечтательное и страстное.
В эту минуту с руки ее скатился на пол один из ее браслетов. Гренгуар нагнулся, чтобы поискать его. Когда он снова поднял голову, молодая девушка и коза успели уже исчезнуть. Он услышал стук задвигаемого засова: оказалось, что запиралась небольшая дверь, которая, без сомнения, вела в соседнюю комнату, запиравшуюся снаружи.
– Но оставила ли она, по крайней мере, кровать? – подумал философ.
Он обошел комнату. Кровати, собственно, не оказалось, но ее с удобством мог заменить довольно большой деревянный сундук, с резной крышкой; Гренгуар, растянувшись на нем, испытал, вероятно, такое же ощущение, какое ощутил бы какой-нибудь чудовищный великан, растянувшись во всю длину вдоль гребня Альп.
– Делать нечего, – проговорил он, стараясь как-нибудь приладиться, – приходится уже подчиниться этому неудобству. Однако, довольно странная брачная ночь, нечего оказать! А жаль! В этой свадьбе, с разбиванием кружек, было что-то наивное и допотопное, что мне очень нравилось.
Книга третьяБез сомнения, собор Парижской Богоматери представляет собою еще и в наше время очень величественное и прекрасное здание. Но как оно хорошо ни сохранилось, постарев, трудно удержаться от вздоха, трудно не чувствовать негодования при виде порчи и искажений, которым одновременно подвергли это почтенное здание и время, и люди, забывшие всякое уважение и к Карлу Великану, положившему первый камень его, и к Филиппу-Августу, положившему последний камень. На лице этой старой царицы наших церквей рядом с морщиной можно заметить и шрамы. Время прожорливо, но человек еще прожорливее; время слепо, человек бессмыслен. Если бы у нас с читателем хватило досуга проследить один за другим все следы разрушения, которые отпечатались на древнем храме, мы бы заметили, что доля времени ничтожна, что наибольший вред нанесли люди, и главным образом люди искусства. Я вынужден упомянуть о «людях искусства», ибо в течение двух последних столетий к их числу принадлежали личности, присвоившие себе звание архитекторов.
Прежде всего – чтобы ограничиться наиболее яркими примерами – следует указать, что вряд ли в истории архитектуры найдется страница прекраснее той, какою является фасад этого собора, где последовательно и в совокупности предстают перед нами три стрельчатых портала; над ними – зубчатый карниз, словно расшитый двадцатью восемью королевскими нишами, громадное центральное окно-розетка с двумя другими окнами, расположенными по бокам, подобно священнику, стоящему между дьяконом и иподьяконом; высокая изящная аркада галереи с лепными украшениями в форме трилистника, поддерживающая на своих тонких колоннах тяжелую площадку, и, наконец, две мрачные массивные башни с шиферными навесами. Все эти гармонические части великолепного целого, воздвигнутые одни над другими и образующие пять гигантских ярусов, спокойно развертывают перед нашими глазами бесконечное разнообразие своих бесчисленных скульптурных, резных и чеканных деталей, в едином мощном порыве сливающихся с безмятежным величием целого. Это как бы огромная каменная симфония; колоссальное творение и человека и народа, единое и сложное, подобно Илиаде и Романсеро, которым оно родственно; чудесный итог соединения всех сил целой эпохи, где из каждого камня брызжет принимающая сотни форм фантазия рабочего, направляемая гением художника; словом, это творение рук человеческих могуче и преизобильно, подобно творению бога, у которого оно как будто заимствовало двойственный его характер: разнообразие и вечность.
То, что мы говорим здесь о фасаде, следует отнести и ко всему собору в целом, а то, что мы говорим о кафедральном соборе Парижа, следует сказать и обо всех христианских церквах средневековья. Все в этом искусстве, возникшем само собою, последовательно и соразмерно. Смерить один палец ноги гиганта – значит определить размеры всего его тела.
Но возвратимся к этому фасаду в том его виде, в каком он нам представляется, когда мы благоговейно созерцаем суровый и мощный собор, который, по словам его летописцев, наводит страх – quae mole sua terrorem incutit spectantibus.[11]11
37 – Который своею громадой повергает в ужас зрителей (лат.)
[Закрыть]
Ныне в его фасаде недостает трех важных частей: прежде всего крыльца с одиннадцатью ступенями, приподнимавшего его над землей; затем нижнего ряда статуй, занимавших ниши трех порталов; и, наконец, верхнего ряда изваяний, некогда украшавших галерею первого яруса и изображавших двадцать восемь древних королей Франции, начиная с Хильдеберта и кончая Филиппом-Августом, с державою в руке.
Время, медленно и неудержимо поднимая уровень почвы Сите, заставило исчезнуть лестницу. Но, дав поглотить все растущему приливу парижской мостовой одну за другой эти одиннадцать ступеней, усиливавших впечатление величавой высоты здания, оно вернуло собору, быть может, больше, нежели отняло: оно придало его фасаду темный колорит веков, который претворяет преклонный возраст памятника в эпоху наивысшего расцвета его красоты.
Но кто низвергнул оба ряда статуй? Кто опустошил ниши? Кто вырубил посреди центрального портала новую незаконную стрельчатую арку? Кто отважился поместить туда безвкусную, тяжелую резную дверь в стиле Людовика XV рядом с арабесками Бискорнета?.. Люди, архитекторы, художники наших дней.
А внутри храма кто низверг исполинскую статую святого Христофора, столь же прославленную среди статуй, как большая зала Дворца правосудия среди других зал, как шпиц Страсбургского собора среди колоколен? Кто грубо изгнал из храма множество статуй, которые населяли промежутки между колоннами нефа и хоров, – статуи коленопреклоненные, стоявшие во весь рост, конные, статуи мужчин, женщин, детей, королей, епископов, воинов, каменные, мраморные, золотые, серебряные, медные, даже восковые?.. Уж никак не время.
А кто заменил старинный готический алтарь, в изобилии окруженный раками и ковчежцами для мощей, этим тяжелым мраморным саркофагом, украшенным головками ангелов и облаками, представляющим собою как бы разрозненный образчик Валь-де-Граса или Дома Инвалидов? Кто так глупо вклеил этот неуклюжий, каменный анахронизм в создание Карловингской архитектуры? Людовик XIV, исполнявший тем желание отца своего, Людовика XIII.
А кто заменил этими холодными, белыми стеклами те разноцветные стекла, которые когда-то заставляли разбегаться глаза наших предков и переносили взоры их от круглого окошка над главным входом к стрелкам свода? Что сказал бы последний певчий 16-го столетия при виде той ординарной, заурядной желтой краски, которою наши вандалы-епископы вымазали свой величественный собор? Он наверное вспомнил бы о том, что именно этим цветом палачи в средние века вымазывали дома нечестивцев; он вспомнил бы также, что желтой краской был вымазан Малый Бурбонский дворец в наказание за измену коннетабля Бурбонского, – «такой прекрасной и хорошо приготовленной желтой краской, – говорит Соваль, – что еще столетие спустя она как нельзя лучше сохранила свой цвет». Он подумал бы, что собор осквернен, и поспешно убежал бы.
А если поднять взоры свои выше, то, не останавливаясь на тысяче более мелких вандализмов разного рода, нельзя не спросить, что сталось с той хорошенькой башенкой, которая опиралась на точку пересечения оконных линий, и которая, столь же легкая и смелая, как и ее сосед, колокольный шпиц св. часовни (также снесенный), уходила в небо выше башен, стройная, острая, воздушная, ажурная? В 1787 году какой-то архитектор, обладавший, по-видимому, замечательным вкусом, счел нужным снести ее, причем он нашел достаточным залепить раны каким-то большим свинцовым пластырем, напоминающим собою крышку жестяной кастрюли.
И таким-то образом с чудесным искусством средних веков обращались почти всюду, и преимущественно во Франции. На нем легко различить следы трояких, впрочем, неодинаково глубоких, повреждений: во-первых, те, которые произвело время, заставившее кое-где облупиться и заржаветь поверхность его; во– вторых, те, которые произведены политическими и религиозными переворотами, слепыми и неразборчивыми, набрасывавшимися на него в дикой ярости, срывавшими с него его богатую скульптурную и резную одежду, разбившими его разноцветные окна, поломавшими его ожерелье из арабесков и из разных фигурок, свалившими его статуи, то за то, что они были в митрах, то за то, что они были в коронах; и, наконец, в-третьих, те, которые произвела мода, все более и более смешная и глупая, которая, начиная с беспорядочных, но блестящих отступлений эпохи Возрождения, опускалась все ниже и ниже в архитектурном смысле. И нужно заметить, что моды причинили собору даже более вреда, чем время и перевороты, потому что они коснулись, так сказать, живого мяса, они наложили свою руку, так сказать, на самый скелет искусства, они обкорнали, обезобразили, убили здание, как в форме его, так и в идее, как в логичности его, так и в красоте. Но этого мало: не довольствуясь разрушением, они вздумали переделывать то, чего не коснулись ни время, ни перевороты. Они нахально привесили, ради «хорошего вкуса», на причиненные ими готической архитектуре раны свои жалкие погремушки, свои мраморные ленты, свои металлические бляхи, свои завитки, мотки, драпировки, гирлянды, бахромы, свои бронзовые облака, своих пухлых амуров, своих толстощеких херувимов, словом – все продукты той язвы, которая начала разъедать организм искусства, начиная с Екатерины Медичи, и которая окончательно свела его в могилу два столетия спустя, среди страшных корч и гримас, в будуаре Дюбарри.
Итак, резюмируя то, что мы говорили выше, мы повторяем, что троякого рода искажения обезображивают ныне готическую архитектуру. Накожные морщины и вереда – как результат времени; ушибы и переломы – как результат революций, начиная с Лютера и кончая Мирабо; наконец, увечья, ампутации членов, вывихи, приделка искусственных членов – как результат усилий псевдоклассических профессоров архитектуры, в роде Витрюва и Виньола. Академики убили ту великолепную готическую архитектуру, которую создали вандалы. К векам и революциям, разрушающим, по крайней мере, не без величия и беспристрастия, сочла нужным присоединиться орава патентованных присяжных архитекторов, разрушающих с разбором и с обилием безвкусия, заменяющих какими-то цикорными кустами готическое кружево. Это удар ослиным копытом, нанесенный умирающему льву. Это старый, раскидистый дуб, сердцевину которого гложут и разъедают черви.
Какая разница между этой эпохой и тою, когда Робер Сеналис, сравнивая собор Парижской Богоматери со знаменитым храмом Дианы в Эфесе, гордостью язычников древности, обессмертившим Герострата, находил, что «галльский собор превосходил эллинский храм величиною, шириною, высотою и характером постройки».[12]12
«История галлов», кн. II, период III, т. 130, стр. 1.
[Закрыть]
Впрочем, собор Парижской Богоматери нельзя назвать цельным, оконченным, определенным памятником. Это не романский, но и не готический храм. Это здание не представляет собою типа. У него нет, как у Турнюсского аббатства, ни величественной, массивной ширины, ни правильной круглоты свода, ни ледяной наготы, ни торжественной простоты зданий, в которых преобладают полукруглые линии. Он не представляется также, подобно Буржскому собору, великолепным, легким, многообразным, махровым цветом стрельчатой архитектуры. Его невозможно также причислить к старинному роду мрачных, низких, таинственных и как бы придавленных сводами церквей, почти египетского стиля, за исключением потолка, иероглифических, символических, жреческих, с украшениями преимущественно из косоугольников ь и из зигзагов, редко из цветов и фигур животных, и никогда из фигур человеческих; к этим созданиям скорее епископов, чем архитекторов, к этим первобытным произведениям искусства, пропитанным теократическим и военным духом, коренящимся в Византийской империи и останавливающимся на Вильгельме-Завоевателе. Невозможно также отнести наш собор к другой категории храмов – храмов высоких, воздушных, богатых разноцветными стеклами и скульптурными произведениями, остроконечных, смело возносящихся кверху, более свободных от старых традиций, отлично выражающих собою более свободный дух времени, в смысле политическом, более капризных и своевольных в смысле художественном, представляющих собою новые архитектурные формы, уже не иероглифические, неподвижные и жреческие, а артистические, прогрессивные и народные, начинающиеся с эпохи крестовых походов и оканчивающиеся Людовиком XI. Собор Парижской Богоматери не принадлежит всецело ни к романскому стилю, ни к арабскому.







