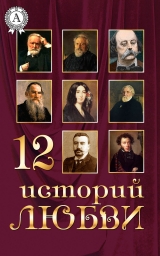
Текст книги "12 историй о любви"
Автор книги: Коллектив авторов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 294 страниц) [доступный отрывок для чтения: 104 страниц]
После того утра, которое бедному Квазимодо пришлось провести на лобном месте, лица, жившие по соседству с собором Парижской Богоматери, заметили, что он стал звонить в колокола уже не с прежним жаром. Прежде он звонил с увлечением, стараясь по возможности продлить трезвон, задавал целые длинные серенады, длившиеся от первых часов и до повечерия, изо всей мочи раскачивал большой колокол во время чтения «Достойной», выводил целые гаммы на маленьких колоколах во время венчания или крестин, и гаммы эти носились по воздуху точно узор из самых разнообразных звуков. Над старинною церковью без умолку гудел гул колоколов; в ней постоянно слышалось присутствие какого-то оживотворяющего ее духа, который без устали пел этими медными устами. Но теперь этот дух точно куда-то скрылся; собор казался мрачным и большею частью хранил молчание. По праздникам и при похоронах производился простой благовест, сухой и холодный, как то требовалось по церковному уставу, – и ничего более. Из двойного шума, сопровождающего богослужение, – звуков органа внутри церкви и звуков колоколов снаружи, – остались только звуки органа. Можно было подумать, что колокольня лишилась своего музыканта. Однако Квазимодо все еще оставался звонарем. Что же такое случилось с ним? Позор ли плахи все еще грыз его сердце? Удары ли плети палача все еще отдавались в его душе? Заглушило ли это наказание единственную привязанность, нашедшую еще место в его сердце, – любовь его к колоколам? Или же у большого колокола, у его возлюбленной Марии, явилась соперница, и эта самая Мария, вместе со своими четырнадцатью меньшими сестрами, была забыта для чего-то более красивого и более любезного сердцу звонаря?
Случилось так, что в 1482 году 25-е марта, день Благовещения, пришелся во вторник. В этот день воздух был так чист и ясен, что на сердце Квазимодо снова зашевелилась прежняя его любовь к колоколам. И вот он поднялся в скверную колокольню, между тем, как церковный служитель широко распахивал церковные двери, состоявшие в то время из громадных деревянных створ, обитых кожей, с железными позолоченными гвоздями, и украшенных резьбой очень искусной работы.
Взобравшись в верхний пролет колокольни, Квазимодо некоторое время смотрел, печально покачивая головой, на находившиеся здесь шесть колоколов, как бы скорбя о том, что что-то постороннее встало между ним и этими колоколами. Но когда он раскачал их, когда он почувствовал, что вся стая колоколов снова сделалась послушным орудием в его руке, когда он увидел – ибо слышать он не мог – эту животрепещущую октаву, поднимающуюся и опускающуюся по скале звуков, подобно птичке, прыгающей вверх и вниз по веткам, когда демон музыки стал вытряхать, как бы из рога изобилия, целый рой трелей, арпеджий и стретт, – тогда и Квазимодо, несмотря на свою глухоту, снова почувствовал себя счастливым, забыл все свое горе, и радость, наполнившая его сердце, вылилась и на лице его. Он ходил взад и вперед, хлопал руками, перебегал от одной веревки к другой, подбодрял шестерых певцов своих голосом и жестами, подобно капельмейстеру, управляющему хором понимающих каждый его жест музыкантов.
– Ну, ну, Габриэля, – говорил он, – погромче! Оглуши-ка площадь! Тибальда, не ленись! Не отставай! Ну, живей! Что это, ты разве заржавела, лентяйка? Теперь хорошо! Живо, живо! Так, чтобы не видать было языка! Оглуши их так же, как и меня. Хорошо, Тибальда, хорошо! – А тебе как не стыдно, Гильом? Ты самый большой, а Панье самый маленький, а между тем, Панье работает гораздо лучше тебя. Ведь он гораздо слышнее тебя. Ай, ай, ай, какой срам! Хорошо, хорошо, Габриэля! Сильнее! Сильнее!.. Э! А что же вы там оба замолкли наверху, Воробьи? Вы совершенно замолчали! Вы только разеваете рот, делая вид, будто поете, а между тем, сами молчите! Ну, живее же! Ведь нынче Благовещение, да и солнышко так ярко светит. Нужно поднять настоящий трезвон. Бедный Гильом! Ты, толстяк мой, совершенно запыхался.
И таким-то образом он подгонял свои колокола, которые раскачивались все шестеро вперегонку, сверкая своими блестящими спинами, точно увешанная побрякушками запряжка испанских мулов, понукаемая по временам возгласами погонщика.
Вдруг, бросив взгляд на площадь поверх аспидных черепиц, покрывавших крышу колокольни, он увидел на площади молодую девушку в странном одеянии, которая остановилась посреди площади, разостлала на мостовой ковер и. поставила на нее небольшую козочку; вокруг девушки и козы стал собираться народ. Это зрелище сразу дало иное направление его мыслям и остудило его музыкальный энтузиазм, подобно тому, как холодная струя воздуха остужает расплавленную смолу. Он перестал звонить, повернулся к колоколам спиною и спрятался за шиферной кровелькой, устремив на молодую девушку тот мечтательный, нежный и кроткий взор, который однажды уже поразил архидиакона. Тем временем, забытые им колокола разом замолкли к великому разочарованию любителей колокольного звона, которые от души наслаждались поднятым Квазимодо трезвоном, стоя на мосту Менял, и которое теперь удалялись удивленные и недовольные, точно собака, которой показали кость и дают вместо того камень.
В одно прекрасное утро того же марта месяца, – это было в субботу, 29-го числа, в день св. Евстафия, – наш молодой друг Жан Фролло-дю-Мулен, одеваясь, заметил, что штаны его, в кармане которых лежал ею кошелек, не испускали никакого металлического звука.
Бедный кошелек! – сказал он, вынимая его из кармана. – Как! Неужели ни копейки? Как тебя, однако, выпотрошили кости, кружки пива и Венера! Какой ты пустой, плоский, сморщенный! Точно горло старой женщины! Я спрашиваю вас, господин Цицерон и господин Сенека, сочинения которых валяются там, с погнутыми углами, на окошке, к чему мне служит то, но я знаю, не хуже чиновника монетного двора или жида на мосту Менял, что золотой экю, с вычеканенным на нем крестом, стоит 35 унций, по 25 су и 8 копеек каждая, а что золотой с вычеканенным на нем полулунием стоит 36 унций, по 26 су и 6 копеек каждая, если у меня нет даже ни малейшей медной монетки, которую я мог бы рискнуть на двойную шестерку! О, великий консул Цицерон, это такое бедствие, из которого не вывернешься разными «Quousque, tandem!»
Он оделся в самом печальном настроении духа, в то время, как он застегивал свои ботинки, ему шла было на ум одна мысль, которую он поспел отогнать от себя, но она снова забралась в его голову, и он надел жилет свой наизнанку – явное доказательство сильной внутренней борьбы. Наконец, он швырнул свою фуражку об пол и воскликнул:
– Тем хуже! Будь, что будет! Пойду к брату! Выдержу головомойку, но за то заполучу деньжонок!
И затем он быстро надел на себя свой сюртук с оторочкой из меха, поднял с полу фуражку и вышел из комнаты с отчаянным видом.
Он направился по улице Лагарп к Старому городу. Когда он проходил по улице Гюшетт, запах вкусного мяса, жарившегося на вертеле, защекотал его обонятельный аппарат, и он бросил любовный взор на громадную общественную кухню, которая однажды вызвала со стороны францисканского монаха Каламаджироне следующее патетическое восклицание: «А нужно сказать правду, эти кухни, в которых жарится такое вкусное мясо, – преглупая вещь!» Но у Жана не на что было позавтракать, и потому он, вздохнув, вошел в ворота Шатле, громадную двойную башню, охранявшую с этой стороны вход в Старый город. Он не дал себе даже труда бросить мимоходом, как это было принято, камнем в выставленную здесь на смех статую Перине Леклерка, выдавшего при Карле VI Париж англичанам, за что его облик и был выставлен на всеобщий позор, точно к позорному столбу, на углу улиц Лагарп и Бюси, где его в течение трех столетий не переставали забрасывать каменьями и грязью.
Перейдя через Малый мост и пройдя улицу св. Женевьевы, Жан де-Молендино очутился перед собором Богоматери. Тут его снова взяло раздумье, и он стал прохаживаться мимо статуи Легри, повторяя себе с беспокойством:
– Головомойки не избежать, а на счет денег бабушка еще надвое сказала.
Он остановил одного из церковных сторожей, выходившего из собора, и спросил его, где в настоящее время архидиакон.
– Он, кажется, отправился в каморку свою на колокольню, ответил сторож: – и я вам не советую мешать ему там, если только вы не пришли к нему от имени короля, папы или чего-нибудь в этом роде.
– Ах, черт возьми, – воскликнул Жан, захлопав в ладоши: – вот великолепный случай увидеть эту каморку, в которой братец мой занимается своим чародейством!
И, под влиянием этой мысли, он решительно вошел в небольшую, выкрашенную черной краской дверь, и стал подниматься по лестнице св. Жиля, которая вела в верхние ярусы колокольни.
Наконец-то я увижу ее! – заговорил он сам себе по дороге. – Клянусь ризой Пресвятой Богородицы, должно быть прелюбопытная штука эта келья, которую братец мой так тщательно от всех скрывает! А впрочем, я забочусь о философском камне столько же, сколько и о любом булыжнике, и я предпочел бы найти в его печи, вместо самого большого философского камня в свете, добрую яичницу с салом.
Взобравшись на галерею с колонками, он перевел дух и стал призывать всех чертей преисподней на эту бесконечную лестницу; затем он вышел в узенькую дверцу северной башни и продолжал подниматься вверх. Пройдя мимо площадки, на которой висели колокола, он увидел сбоку, под низким сводом, низенькую стрельчатую дверь, обитую толстыми железными полосами и снабженную массивным замком. Те, которые захотели бы в настоящее время отыскать эту дверь, легко узнают ее по следующей надписи, выцарапанной белыми буквами по черному фону двери. «Я обожаю Корали. Подписано Эжен». Слово «подписано» значится в самом тексте.
Уф! – сказал Жан, – должно быть здесь!
Ключ не был вынут из замка, и дверь оказалась незапертою изнутри. Жан потихоньку отворил ее и просунул в нее голову.
Читатель, без сомнения, знаком несколько с чудесными произведениями Рембрандта, этого Шекспира живописи. В числе многих великолепных гравюр его особенно примечательна одна, выгравированная крепкой водкой и изображающая, как полагают, доктора Фауста, на которую положительно невозможно смотреть, не будучи ослепленным. На ней изображена мрачная келья, посреди которой стоит стол, покрытый разными необычайными предметами – головами скелетов, глобусами, перегонными кубами, компасами, покрытыми иероглифами пергаментами. Перед столом этим сидит ученый, облеченный в длинный плащ и с меховой шапкой, надвинутой на самые брови. Тело его видно только до пояса. Он несколько привстал со своего большого кресла, сжатые кулаки его опираются в стол, и он с любопытством и ужасом смотрит на светящийся круг, составленный из каких-то кабалистических букв, который блестит на стене в глубине комнаты, точно солнечный спектр в темном пространстве. Это кабалистическое солнце точно сверкает и наполняет полусветлую комнату своим таинственным блеском. Все это и прекрасно, и страшно, в одно и то же время.
Нечто подобное этой келье Фауста представилось взору Жана, когда он рискнул просунуть свою голову в полуотворенную дверь. Он тоже увидел перед собою мрачную, еле-еле освещенную комнату. И здесь был большой стол и большое кресло, компасы, перегонные кубы, подвешенные к потолку скелеты животных; небесный глобус валялся на полу, склянки с какими-то. головастиками и невиданными травами, головы мертвецов, стоявшие на листах с разными пестрыми фигурами и иероглифами, толстые рукописи, наваленные раскрытыми одни на другие, при чем углы их безжалостно мялись и ломались, – словом, весь аппарат тогдашней науки, и все это покрытое пылью и паутиной; только здесь не было круга светящихся букв, не было ученого, в восторге взирающего на огненное видение, подобно тому, как орел смотрит на солнце.
А между тем, келья не была пуста. В большом кресле сидел какой-то человек, нагнувшийся над столом. Жан, к которому человек этот обращен был спиною, мог разглядеть только плечи и затылок его; но ему не трудно было узнать эту лысую голову, остриженную самой природой, как будто она сама пожелала положить на голову архидиакона печать вечного посвящения.
Итак, Жан узнал своего брата. Но дверь отворилась так тихо, что ничто не предупредило Клода о присутствии здесь его брата. Любопытный школяр воспользовался этим обстоятельством, чтобы в течение нескольких минут на досуге разглядеть комнату. Большая печь, которую он с первого взгляда не заметил, была сложена влево от кресла, под самым оконцем. Луч света, проникавший в эго отверстие, проходил через круглую паутину, красиво выделявшуюся, точно кружевной занавес, на светлом фоне, образуемом в темной комнате окошечком, а посредине ее насекомое строитель оставалось неподвижным, точно ступица этого кружевного колеса. На очаге стояли в беспорядке всякого рода сосуды, фантастические склянки, стеклянные реторты, глиняные колбы, Но Жан со вздохом заметил, что здесь не было печурки. «Однако же, свеженька кухонька моего брата», – подумал он.
Впрочем, в очаге не было огня и даже казалось, что уже давно не разводили его. Стеклянная маска, которую Жан заметил среди других алхимических приспособлений, и которая предназначалась, по всей вероятности, для предохранения лица архидиакона от обжогов, когда он изготовлял какой-нибудь опасный состав, лежала в углу, вся покрытая пылью и как бы забытая. Рядом лежал раздувальный мех, не менее запыленный, и на верхней стенке которого можно было прочесть сделанную латинскими буквами надпись: «Spira, Spera» – «Дуй, надейся».
Многочисленные другие надписи, согласно моде алхимиков, покрывали стены; одни из них были выведены чернилами, другие выцарапаны металлическим острием. Тут можно было видеть вперемежку и готические, и еврейские, и греческие, и латинские письмена, перетасованные в беспорядке, одни над другими, и даже одни на других, перепутанные точно ветви кустарника, точно копья во время свалки. Здесь можно было найти весьма странную смесь всевозможных философий, всяческой человеческой мудрости, всяческого бреда. Кое-где одна из этих надписей выделялась особенно рельефно, точно знамя на фоне железных наконечников пик. Эго были, по большей части, краткие греческие или латинские девизы из тех, которые так хорошо умели формулировать средние века: – «Unde? Inde?» – «Homo homini monstrum». – «Astra, castra, nomen, numen», – «Μεγα βiβιον μεγα, χανον». – «Sapere aude». – «Flat ubi vult», и т. д.[25]25
Откуда? Оттуда? – Человек человеку зверь. – Звезды, лагерь, имя, божество. – Большая книга, великий закон. – Дерзай знать. – Плывет, где хочет.
[Закрыть] Иногда встречалось отдельное слово, лишенное, по-видимому, всякого смысла, как, например, слово: «Αναγχοφαγια» (пожирание судьбы), заключавшее в себе, быть может, горький намек на монастырские порядки. В другом опять встречалось простое правило из духовных правил, выраженное в форме правильного гекзаметра, в роде, например, следующего: «Coelestum dominum, terrestrem dicito domnum». Местами встречалась также какая-то еврейская тарабарщина, в которой Жан, не особенно сильный и в греческом языке, уже решительно ничего не понимал. И все это было испещрено звездами, фигурами людей и зверей и треугольниками, что придавало стене кельи вид листа бумаги, по которому обезьяна водила бы пером, обмакнутым в чернила.
Вся комната, в общем, носила на себе печать какого-то запустения и беспорядка; а то жалкое состояние, в котором находились снаряды, заставляло предполагать, что хозяина этой комнаты, в течение уже довольно продолжительного времени, отвлекали от его занятий другие заботы.
Хозяин этот, наклонившись над большою рукописью, украшенною разными странными рисунками, казался весь поглощен был одною мыслью, которая беспрерывно приходила ему на ум. Так, по крайней мере, заключил Жан, услышав, как он проговорил, с задумчивыми перерывами человека, говорящего сам с собою во сне:
– Да, так утверждает Ману и так учил Зороастр: солнце происходит от огня, а луна – от солнца. Огонь – это душа вселенной. Его первобытные атомы постоянно изливаются на весь мир беспрерывными течениями. В тех местах небосклона, где эти течения пересекаются, они производят свет; в точках пересечения их на земле они производят золото. Свет и золото – одно и то же; и то, и другое – это конкретные формы огня. Между ними только та разница, которая существует между видимым и осязаемым, между жидким и твердым телом, состоящими, однако же, из тех же составных частей, между водяными парами и льдом. Ничего более! И это не праздные мечтания, – это общий закон природы. Но каким образом выведать у природы тайну этого общего закона? Ведь этот свет, заливающий мою руку, – это то же золото! Эти самые атомы, рассеянные на основании известного закона, их следует только сгустить на основании другого закона! Но каким образом этого достигнуть? Одни придумали зарывать солнечный луч. Аверроэс, да, да, Аверроэс, зарыл один из этих лучей под первой левой колонной святилища корана, в большой Кордовской мечети; но дело в том, что только чрез восемь тысяч лет можно будет раскопать это место, чтоб убедиться в том, удался ли этот опыт?
– Ах, черт побери! – проговорил про себя Жан, – долгонько-таки придется ждать этого золота!
– Другие полагали, – продолжал задумчиво говорить про себя архидиакон: – что лучше сделать этот опыт с лучом Сириуса. Но дело в том, что очень трудно добыть чистый луч этой планеты, так как она светит одновременно с другими звездами и лучи их сливаются, прежде чем достигнуть земли. – Наконец, Фламель полагает, что проще всего производить этот опыт с земным огнем. – Фламель! В самом этом имени заключается какое-то предопределение! Flamma! – Да, да, вся сила в огне! – В угле заключается алмаз, в огне – золото! Но каким образом извлечь его оттуда? Магистри уверяет, что существуют такие таинственные и обладающие чародейственной силой женские имена, что достаточно произнести и во время опыта, для того, чтобы он удался. – Посмотрим, что говорить об этом Ману: – «Там, где женщины пользуются почетом, боги радуются; там, где их презирают, бесполезно обращаться с молениями к богам! Уста женщины всегда чисты; это – текущая вода, это – луч солнца. – Имя женщины должно быть звучно, ласкать слух, говорить воображению, оно должно оканчиваться на долгие гласные и походить на слова благословения». Да, мудрец прав. Действительно, Мария, София, Эсмераль… – О, проклятие! Опять эта мысль!..
И он с сердцем захлопнул книгу и провел рукою по лбу, как бы желая прогнать неотвязчивую мысль. Затем он взял со стола гвоздь и небольшой молоточек, рукоятка которого была покрыта какими-то странными кабалистическими знаками.
– С некоторых пор, – сказал он, горько улыбаясь, – мне не удается ни один опыт. Какая-то неотвязчивая мысль засела мне в голову и буравит мой мозг. Я не могу даже доискаться тайны Кассиодора, светильник которого горел без фитиля и без масла. А между тем очень простая вещь!
– Вот как! Даже очень простая! – проговорил Жан сквозь зубы.
– Итак, достаточно какой-нибудь жалкой мысли, – продолжал говорить про себя архидиакон: – чтобы превратить человека в ничтожного безумца. О, как бы посмеялась надо мною Клавдия Пернель, которой не удалось ни на одну минуту отвлечь Николая Фламеля от великой цели! Как! Я держу в руке своей чудный молоток Захиеля! При каждом ударе, который делал в своей келье этот знаменитый раввин по гвоздю, тот из врагов его, которого он осудил на погибель, уходил, хотя бы он даже находился на расстоянии двух миль, на один локоть в землю, которая, наконец, поглощала его. Однажды даже сам король Франции, за то, что он в один вечер опрометчиво постучался в дверь этого чародея, ушел до колен в парижскую мостовую. Это произошло три столетия тому назад. – И что же! У меня находятся в настоящее время этот молоток и этот гвоздь, а между тем, в руках моих они являются орудием не более страшным, чем бурав в руках слесаря. Все дело заключается только в том, чтобы отыскать то магическое слово, которое произносил Захиель, ударяя по гвоздю своему.
«Сущие пустяки!» – подумал про себя Жан.
– Ну, давай-ка я еще раз попробую! – воскликнул архидиакон, – если опыт удастся, то из головки гвоздя сверкнет синеватая искра. – Эмен-хетон! – Нет, не то. Сигеани, Сигеани! Пусть этот гвоздь выроет могилу для всякого, кто носит имя Феб! – О, проклятие! Опять, еще, без конца одна и та же мысль!
И он с сердцем отшвырнул в сторону молоток. Затем он припал головою к столу, так что Жану совсем не было видно его из-за высокой спинки кресла. В течение нескольких минут он мог различить только кулак его, судорожно сжатый на какой– то книге. Вдруг Клод приподнялся с места, схватил компас и молча выцарапал на стене прописными буквами греческое слово: Αναγκη (Судьба).
– Братец мой с ума сошел, – проговорил про себя Жан: – было бы гораздо проще написать просто по латыни «Fatum», ведь не всякий же обязан уметь читать по-гречески.
Архидиакон снова уселся на своем кресле и подпер голову обеими руками, как то часто делают больные, когда голова их горит и тяжела. Жан с удивлением смотрел на своего брата. Он, беззаботный как птичка, дитя природы, безотчетно отдававшееся влечению своих страстей, не имевший понятия о том, что такое сильные страсти, так как голова его только и была занята, что разными проказами, конечно, не мог и представить себе, с какою силою бушует и волнуется море человеческих страстей, когда у него нет никакого истока, как оно вздымается, выходит из берегов, размывает сердце, разражается внутренними рыданиями и безмолвными судорогами, до тех пор, пока ему не удастся прорвать плотину и проложить новое русло для своих волн. Строгая, ледяная оболочка Клода Фролло, эта холодная поверхность недосягаемой и неприступной добродетели, всегда вводила в заблуждение Жана. Веселому школяру никогда и в голову не приходило, что под ледяною оболочкою Этны скрывается масса кипучей и разрушительной лавы.
Нам неизвестно, отдал ли он себе внезапно, по какому-то наитию, отчет в этом, но только, несмотря на все свое легкомыслие, он понял, что подсмотрел то, чего ему не следовало бы видеть, что он украдкой заглянул в глубочайший тайник души своего старшего брата, и что необходимо скрыть это от Клода. Заметив, что архидиакон снова впал в прежнюю свою неподвижность, он на цыпочках отошел на несколько шагов от двери и стал стучать ногами, как будто он только что поднялся по лестнице.
– Войдите! – крикнул архидиакон из глубины своей кельи, – я давно уже ожидаю вас. Я нарочно не запер дверей. Да войдите же, Жак.
Жан смело вошел в комнату. Архидиакон, которому такое посещение в таком месте, было очень неприятно, даже привскочил на своем кресле и воскликнул:
– Как, – это ты, Жан?..
– Ну, не Жак, так Жан, все-таки Ж… – ответил школяр с какою-то развязною смелостью.
– Чего тебе здесь нужно? – спросил Клод, лицо которого снова приняло свойственное ему строгое выражение.
– Братец, – ответил Жан, стараясь скорчить скромную, жалобную и приличную рожу и вертя в руках свой картуз самым невинным образом, – я пришел просить у вас…
– Чего еще?
– Некоторых советов, в которых я очень нуждаюсь.
Жан не решился тут же прибавить:
– И несколько денег, в чем я еще больше нуждаюсь. – Эта последняя часть фразы осталась неизданной.
– Жан, – сказал архидиакон строгим голосом, – я очень недоволен тобою.
– За что же это? – робко спросил школяр, глубоко вздохнув.
Клод несколько повернул в его сторону свое кресло и продолжал, устремив на Жана пристальный взор:
– Я очень рад тому, что вижу тебя.
Это вступление не предвещало ничего хорошего. Жан приготовился к здоровой головомойке.
– Жан, до моего слуха чуть не ежедневно доходят жалобы на тебя. Что это было за побоище, во время которого вы избили палками молодого виконта де-Рамоншана?
– О, это пустяки! – ответил Жан. – Все дело в том, что этот негодный пажик вздумал забавляться тем, что забрызгивал нас грязью, пуская свою лошадь вскачь по лужам.
– А что это за Магиетт Фаржель, – продолжал архидиакон: – у которого вы изорвали платье?
– Ну, стоило ли об этом толковать! Какая-то жалкая хламида! Сущий вздор!
– В жалобе, однако, значится «платье», а не «хламида». Ведь тебе же знаком латинский язык?
Жан ничего не ответил.
– Да, – продолжал Клод, покачивая головою: – вот как теперь учатся! Еле-еле знают по-латыни, о сирийском языке и понятия не имеют, греческий язык до того находится в пренебрежении, что даже самые ученые люди не стыдятся перескакивать через греческое слово, говоря: «Это по-гречески, не стоит читать».
– Братец, – проговорил школяр, смело вскинув на Клода глазами, – угодно вам, чтобы я объяснил вам по-французски значение того греческого слова, которое написано вон там на стене.
– Какого слова?
– Аναγχη.
Легкая краска выступила на щеках архидиакона точно небольшие клубы дыма, которые свидетельствуют о внутренней работе вулкана. Жан успел, однако, подметить ее.
– Ну, так что же означает это слово, Жан? – с трудом проговорил старший брат.
– Судьба.
Клод снова побледнел, а школяр продолжал с величайшей беззаботностью:
– А то слово, которое выцарапано тем же почерком под этим, «Аναγχεια», означает «порок». Вы, значит, видите, что я хорошо знаю по-гречески.
Архидиакон молчал. Этот урок в греческом языке заставил его задуматься.
Жан, отличавшийся хитростью балованного ребенка, нашел этот момент довольно удобным для того, чтобы выступить со своей просьбой. Поэтому он заговорил самым вкрадчивым голосом:
– Милый братец, неужели вы меня так мало любите, что станете сердиться на меня из-за нескольких тумаков и оплеух, отпущенных каким-то шалопаям и мальчишкам?
Но слова эти не произвели желаемого действия на строгого старшего брата. Цербер не кинулся на сладкий пирог, и лоб архидиакона оставался сморщенным.
– К чему это ты клонишь? – сухо спросил он.
– А вот к чему, – храбро ответил Жан, – мне нужны деньги.
При этом смелом заявлении, лицо архидиакона приняло спокойное и отеческое выражение.
– Ты знаешь, Жан, – сказал он, – что наша Тиршаппская ферма приносит всего на всего, считая и все побочные доходы, 39 ливров и 11 /2, су. Это, правда, наполовину больше, чем при братьях Палле, но все же это немного.
– А что же мне делать, если мне нужны деньги? – стоически возразил Жан.
– Ты знаешь, кроме того, что поместье это заложено и что для того, чтобы выкупить его, нужно внести г. епископу две марки серебра. А мне до сих пор еще не удалось собрать этой суммы. Ведь тебе это известно же?
– Мне известно только то, – в третий раз объявил Жан, – что мне нужны деньги.
– А для чего же они тебе нужны?
При этом вопросе луч надежды блеснул в глазах Жана, и он снова заговорил вкрадчивым голосом:
– Видите ли, братец, я бы не стал тревожить вас из-за пустяков. Дело вовсе не в том, чтобы кутить в харчевнях на ваши деньги или чтобы кататься верхом по парижским улицам на лошади, покрытой дорогим вальтрапом, в сопровождении лакея. Нет, братец, деньги мне нужны на доброе дело.
– На какое это доброе дело? – спросил Клод, слегка удивленный.
– Двое из моих товарищей собираются купить в складчину белье и платьице для ребенка одной бедной вдовы тряпичницы. Это будет стоить три флорина. Они дают на то каждый по одному флорину, и мне…
– А как зовут этих двух товарищей твоих?
– Пьер Мясник и Баптист Птицеед.
– Гм! – проговорил архидиакон, – вот так два имечка, которые так же пристали к доброму делу, как пушка к церковному алтарю.
Тут Жан сообразил, но несколько поздно, что он придумал очень неудачные имена для своих друзей.
– И к тому же, – продолжал рассудительный Клод, – к чему это простой тряпичнице детского белья на целых три флорина? Давно ли тряпичницы стали так наряжать своих детей?
– Ну, если так, – воскликнул Жан, у которого лопнуло терпение, – то я вам прямо скажу, что деньги эти мне нужны для того, чтобы пойти сегодня вечером с Изабеллой Ла-Тьерри на гулянье.
– Порочный юноша! – воскликнул архидиакон.
– По-гречески порок – «αναγκεια»… – спокойно ответил Жан.
Эта цитата, которую молодой сорванец, быть может, нарочно заимствовал со стены братниной комнаты, произвела на Клода странное впечатление. Он закусил губы, покраснел и притих.
– Уходи… – наконец, сказал он Жану. – Я ожидаю гостя.
– Братец, – проговорил Жан, делая одно последнее усилие, – дайте мне хоть немного мелочи. Я сегодня еще ничего не ел.
– Ты бы лучше позанялся декреталиями Грациана, – сказал Клод.
– Я потерял свои тетради.
– Ну, так латинскою словесностью.
– У меня украли моего Горация.
– Ну, так Аристотелем.
– Братец, а ведь кто-то из отцов церкви говорит, что заблуждения еретиков проистекали во все времена из дебрей Аристотелевой метафизики. Долой Аристотеля! Я не желаю, чтобы его лжеучения колебали мою веру.
– Молодой человек, – заметил архидиакон, – во время последнего въезда короля в числе его свиты был дворянин Филипп де-Комин, у которого на чепраке, покрывавшем его лошадь, был вышит следующий девиз: – «Кто не работает, недостоин есть.» – Советую вам зарубить себе это на носу.
Жан стоял молча, приложив палец к щеке, устремив глаза в землю, и с сердитым видом. Вдруг он обернулся к Клоду с проворством трясогузки.
– Итак, братец, вы отказываете мне даже в нескольких жалких су, чтобы купить себе хлеба у булочника?
– Кто не работает, недостоин есть.
При этом ответе неумолимого архидиакона, Жан закрыл лицо обеими руками, как рыдающая женщина, и воскликнул с выражением отчаяния:
– Οτοτοτοτοτο!
– Это что такое означает? – спросил Клод, удивленный этой выходкой.
– А разве вы этого не знаете? – ответил Жан, поднимая на Клода дерзкие глаза свои, которые он только что постарался нацарапать своими ногтями, чтобы придать им красноты и заставить думать, что он плакал. – Ведь это по-гречески! Это анапест Эсхила, выражающий сильнейшую степень горя.
И при этих словах он разразился таким раскатистым смехом, что даже серьезный архидиакон не мог не улыбнуться. Действительно, он сам был виноват. К чему он так избаловал этого мальчика?
– Ах, милый братец, – продолжал Жан, ободренный этой улыбкой, – посмотрите на мои сапоги: они совсем расползаются. Что может быть трагичнее сапог, которые просят есть!
Но архидиакон снова сделался серьезен по-прежнему.
– Я пришлю тебе новые сапоги, – сказал он, – но денег на руки не дам.
– Ну, хоть сколько-нибудь, братец! – продолжал умолять его Жан. – Я обещаюсь вам вызубрить наизусть всего Грациана, я стану усердно молиться Богу, я сделаюсь настоящим Пифагором по части учености и добродетели! Но только, ради Бога, дайте мне немного денег. Неужели вы не видите, что голод уже разинул свою ужасную пасть, более черную и более глубокую, чем преисподняя, и более вонючую, чем нос монаха?







