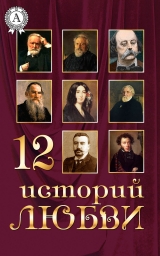
Текст книги "12 историй о любви"
Автор книги: Коллектив авторов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 294 страниц) [доступный отрывок для чтения: 104 страниц]
Тут священник остановился, и узница услышала вырывавшиеся из его груди какие-то хрипящие, подавленные вздохи. Затем он продолжал:
– Однажды я сидел у окна моей кельи. Я читал какую-то книгу, – какую? – не припомню хорошенько! С тех пор у меня в голове не переставал бушевать какой-то вихрь! Итак, я читал. Окно мое выходило на площадь. Вдруг я услышал звуки тамбурина и возгласы толпы. Раздосадованный тем, что мне мешают заниматься, я выглянул из окна на площадь. То, что я увидел, видели и другие, не я один, а между тем, это было зрелище, созданное не для человеческих глаз. Посреди площади, – был полдень, и солнце ярко светило, – плясало какое-то создание, не женщина, нет, а какое-то неземное создание, божественной красоты. Глаза ее были черны и блестящи, а в ее черных волосах виднелось несколько волосков, которые яркое солнце окрашивало в золотистый цвет. Ноги ее, при быстроте ее движений, мелькали в глазах, как спицы быстро катящегося колеса. В черных волосах ее были вплетены маленькие металлические бляхи, которые блестели на солнце, образуя над ее головой точно диадему из звезд. Ее полосатое, белое с голубым, платье было усеяно блестками, точно небо звездами в ясную летнюю ночь. Ее красивые, смуглые руки свивались и развились вокруг ее талии, точно змеи. Все ее тело было поразительно красиво. Лицо же ее казалось светлым пятном даже при лучезарном сиянии солнца. Увы! эта молодая девушка – это была ты! – Удивленный, очарованный, опьяненный, я не мог оторвать от тебя глаз. Я так долго и пристально смотрел на тебя, что, наконец, я содрогнулся от ужаса, почувствовав, что судьба моя свершилась.
При этих словах священник остановился, вздохнул, и затем продолжал:
– Чувствуя себя на половину очарованным, я попробовал было уцепиться за что-нибудь, чтобы удержаться от падения. Я припомнил все козни, которые уже прежде строил мне Сатана. Создание, которое я видел перед собою, обладало тою нечеловеческой красотою, источником которой могут быть только небо или ад. Это не была простая женщина, созданная из глыбы земли и слабо освещенная изнутри мерцающими лучами женской души. Это был ангел, но ангел тьмы, ангел пламени, а не ангел света. Размышляя об этом, я увидел возле тебя козу, эту принадлежность ведьм, которая глядела на меня, оскалив зубы; полуденное солнце, освещая ее позолоченные рога, придавало им огненный отлив. Тогда я убедился в том, что все это – не что иное, как козни Сатаны, и для меня не оставалось ни малейшего мнения в том, что ты явилась прямо из ада, для того, чтобы погубить меня, и это убеждение засело в моей голове.
При этих словах священник прямо взглянул в лицо узницы и холодно прибавил:
– Да, я до сих пор в этом убежден… Однако, чары твои производили свое действие; от твоей пляски у меня закружилась голова, я чувствовал, как порча проникает в мое тело; все лучшие побуждения стали мало-помалу глохнуть в моей душе и, подобно людям замерзающим, я, засыпая, испытывал какое-то приятное ощущение. Вдруг ты запела. Что мне, несчастному, оставалось делать? Пение твое еще очаровательнее, чем пляска. Я хотел бежать, но это оказалось невозможным. Я был пригвожден, я точно врос в землю; мне казалось, будто я по колено вошел в мраморные плиты пола. Приходилось оставаться до конца. Ноги мои были точно льдины, а голова моя горела. Наконец, ты, быть может, сжалилась надо мною, ты перестала петь и ушла. Отблеск очаровательного видения, звуки волшебном музыки мало-помалу исчезли из моих глаз и из моего слуха, и я опустился на подоконник более слабый и более неподвижный, чем статуя, поваленная со своего пьедестала. Меня пробудил звон к вечерне. Я встал, я убежал от окна, но, увы! во мне что-то упало, что уже не могло приподняться, во мне засело что-то такое, от чего я не мог убежать.
Он опять замолчал и, немного погодя, продолжал:
– Да, начиная с этого дня, я перестал сам себя узнавать. Я хотел было пустить в ход всевозможные средства, и усиленные научные занятия, и молитву, и труд, и книги. Все было тщетно! Я убедился, до чего наука бессильна, когда к ней приступаешь с головой, отуманенной страстью! Знаешь ли ты, что я с тех пор постоянно видел перед собою, между глазами моими и книгой? Тебя, твою тень, твой светлый образ, который в один злосчастный день мелькнул перед моими взорами! Но только этот образ был уже иначе освещен: он был темен, мрачен и туманен, подобно тем черным кругам, которые надолго остаются в глазах неосторожного человека, осмелившегося некоторое время пристально смотреть на солнце.
Не имея сил освободиться от него, слыша постоянно твою песнь, отдававшуюся у меня в ушах, видя постоянно твои ножки пляшущими на моем молитвеннике, чувствуя тебя постоянно подле себя, даже во сне, я пожелал во что бы то ни стало, снова увидеть тебя, прикоснуться к тебе, узнать, кто ты такая, убедиться в том, что ты действительно похожа на тот идеальный образ, который запечатлелся в душе моей, а то, пожалуй, и разбить мечту мою при виде действительности. Во всяком случае, я надеялся на то, что новое впечатление изгладит первое, тем более, что это первое впечатление сделалось для меня невыносимым. Итак, я стал повсюду искать тебя и, наконец, снова тебя увидел. Но, к несчастию моему, увидев тебя во второй раз, я пожелал видеть тебя тысячу раз, видеть тебя без конца. С тех пор, – да и как остановиться на этой адской наклонной плоскости, – с тех пор я уже не принадлежал сам себе. Демон привязал один конец нитки к моим крыльям, другой – к твоим ногам. Я сделался таким же бродягой, как и ты. Я поджидал тебя под воротами, я подстерегал тебя на перекрестках, я следил за тобою с высоты моей башни. И каждый вечер я возвращался в свою келью более очарованный, более околдованный, более отчаянный, более погибший, чем накануне.
– К тому же я узнал, что ты – цыганка, значит, нельзя было и сомневаться в том, что тут дело не обошлось без чародейства. Наконец, – слушай, – я подумал, что в состоянии буду отделаться от овладевшей мною нечистой силы при помощи процесса. Я кстати вспомнил, что какая-то чародейка околдовала Бруно д’Аста, но он велел сжечь ее и тем излечился. Я решился прибегнуть к тому же средству. Сначала я попробовал заставить запретить тебе доступ на площадку перед собором, в надежде, что я забуду тебя, если не буду тебя больше видеть. Но ты не обратила внимания на это запрещение и продолжала появляться на этом месте. Затем, мне пришло на ум похитить тебя, и я однажды ночью попробовал сделать это. Нас было двое, мы уже успели схватить тебя, как вдруг в дело вмешался этот проклятый офицер, который освободил тебя. Этим он положил первый камень своему несчастию, твоему и моему. Наконец, не зная более, что делать и что предпринять, я донес на тебя церковному суду.
– Я надеялся, что это средство исцелит меня, как исцелило Бруно д’Аста. Мне также смутно представлялось и то, что судебный процесс предоставит тебя в мои руки, что в тюрьме ты будешь в моей власти, что там не в состоянии будешь уйти от меня, что ты уже настолько давно овладела моим существом, что и мне пора, в свою очередь, обладать тобою. Уж коли делать зло, то делать его целиком! Глупо останавливаться на полпути к дурному поступку. Довести преступление доставляет своего рода наслаждение. Что может помешать священнику и колдунье предаваться восторгам на связке соломы, в темнице!
– Итак, я донес на тебя. В то именно время я и пугал тебя моими взорами при встречах с тобою. Заговор, который я затеял против тебя, гроза, которую я собирал над твоей головой, невольно сказывались в моих взорах и в моих угрозах. Однако я еще колебался. План мой был до того ужасен, что я сам по временам пугался его и отступал. Быть может, я и совсем бы отказался от него, быть может, эта ужасная мысль совсем высохла бы в моем мозгу, не принеся никакого плода. По крайней мере, я вначале думал, что всегда будет в моей власти дать дальнейший ход процессу или прекратить его. Но всякий злой помысел бывает неумолим и стремится превратиться в факт; там, где я считал себя всесильным, рок оказался сильнее меня. Увы! Это он схватил тебя и бросил в эту адскую машину, которую я втихомолку соорудил. – Слушай же! Я кончаю!
– Однажды, – был тоже ясный, солнечный день, – мимо меня проходил какой-то человек, смеясь и произнося твое имя со сладострастным выражением. О, проклятие! Я последовал за ним. Конец тебе известен!
Он замолчал; молодая девушка могла только произнести:
– О, мой Феб!
– Не смей произносить этого имени! – воскликнул священник, схватив ее за руку. – О, мы несчастные! Нас обоих погубило это имя! Или, вернее сказать, нас обоих погубила необъяснимая игра рока! Ты страдаешь, не так ли? Ты сидишь в мрачной темнице, в вечной темнице, тебе холодно; но, быть может, в глубине твоей души еще теплится огонь, который отогревает тебя и светит тебе, хотя бы то была только твоя детская любовь к тому пустому человеку, который играл твоим сердцем! А я – я ношу внутри себя и мрак темницы, и зимний холод; душа моя полна холода, тьмы и отчаяния! Известно ли тебе, сколько я выстрадал? Я присутствовал при твоем процессе. Я сидел на скамье консисторских судей. Да, под одним из этих монашеских капюшонов страдал и изнывал бедный, жалкий человек! Я был там, когда тебя привели, когда тебя допрашивали. Тебя обвинили в совершенном мною преступлении, тебя приговорили к виселице, которую я заслужил. Я выслушал все свидетельские показания, все улики, все обвинения; я мог следить за каждым шагом твоим по этому тернистому пути! Я присутствовал при том, как этот дикий зверь… О! я не мог предвидеть того, что прибегнут к пытке! Слушай! Я последовал за тобою в комнату пыток; я видел, как подлые руки палача обнажили и терзали тебя. Я видел твою ножку, ту самую ножку, за право поцеловать которую я готов бы был отдать полцарства, даже больше, всю мою жизнь, которой я с наслаждением позволил бы раздавить себя, я видел, как ее сжимали этим ужасным испанским сапогом, превращающим члены человеческого тела в какую-то окровавленную массу. О, я несчастный! Глядя на это ужасное зрелище, я держал под моей рясой кинжал, которым я царапал себе грудь. При первом крике, который ты испустила, я вонзил его в мое тело; и если бы ты испустила второй крик, я вонзил бы его себе в грудь. На, смотри! Кажется, рана еще сочится.
Он распахнул свою рясу. Действительно, вся грудь его была исцарапана, точно когтями тигра, а в левом боку его зияла рана, довольно глубокая и еще не закрывшаяся. Молодая девушка в ужасе отступила назад.
О, сжалься надо мною! – воскликнул священник. – Ты себя считаешь несчастною, но ты, значит, не знаешь, что такое несчастие. О! любить женщину, быть священником, чувствовать, что тебя ненавидят! Любить ее всеми силами души своей, чувствовать, что готов бы был пролить за одну ее улыбку всю свою кровь, пожертвовать своим добрым именем, спасением души своей, бессмертием, вечностью, землею и загробною жизнью! Сожалеть о том, что ты не царь, не бесплотный дух, не архангел, не Бог, чтобы повергнуться, как раб, у ног ее! Мысленно обнимать ее и днем и ночью, и видеть ее влюбленною в солдатскую ливрею, и иметь возможность предложить ей только жалкую, монашескую рясу, внушающую ей ужас и отвращение! Присутствовать в бессильной злобе и бешенстве при том, как она расточает перед бессмысленным фатом сокровища своей любви и красоты! Видеть это тело, одно воспоминание о котором жжет тебя, как огнем, эту прелестную грудь содрогающимися под поцелуями другого! О Боже! Любить ее ножку, ее ручку, ее плечико, вспоминать о синих жилках и смуглой коже ее, валяться по целым ночам на полу своей кельи, и видеть, что это прекрасное тело сделалось достоянием не ласк твоих, а ужасных орудий пытки! Добиться только того, чтобы довести ее до застенка! О, это хуже всяких раскаленных клещей! Как счастлив, сравнительно с этими мучениями, тот, тело которого перепиливают пополам или которого разрывают на части, привязав к хвостам четырех лошадей. – Имеешь ли ты понятие о тех муках, которые заставляют тебя испытывать, в течение долгих ночей, кипение крови в твоих жилах, твое сердце, готовое ежеминутно разорваться на части, твоя голова, которая трещит, твои зубы, кусающие руки, эти неумолимые палачи, которые неустанно переворачивают тебя, точно на горячей жаровне, на одной и той же мысли – любви, ревности, отчаяния? Пощади меня, ради Бога, уменьши мои мучения! Посыпь пеплом эти раскаленные уголья! Вытри, умоляю тебя, пот, капающий крупными каплями с моего лба! Мучь меня одной рукой, поласкай другою! Сжалься, о, ради Бога, сжалься надо мною!
И священник бросился на колена в лужу, образовавшуюся на полу, и бился головою о каменные ступени. Молодая девушка все время смотрела на него и слушала его молча. Но когда он, выбившись из сил и еле переводя дух, замолчал, она проговорила вполголоса:
– О, мой Феб!
– Умоляю тебя, – воскликнул священник, подползая к ней на коленах, – если в тебе есть хоть подобие человеческого чувства, не отталкивай меня! Я люблю тебя, я несчастен! Когда ты, несчастная, произносишь это имя, ты как будто перегрызаешь зубами все фибры моего сердца! Пощади меня! Если ты – исчадие ада, я готов отправиться туда вслед за тобою. Я уже сделал все возможное, чтобы достигнуть этого. Ад, в котором ты будешь, для меня слаще рая; вид твой заменяет для меня лицезрение Бога! О, скажи мне, неужели ты отвергаешь меня? Мне кажется, что скорее гора может сдвинуться с места, чем женщина отвергнуть такую любовь. Ах, если бы только ты пожелала! Как бы мы были счастливы! Мы бы бежали, – я дал бы тебе возможность бежать, – мы скрылись бы где-нибудь, мы отыскали бы какой-нибудь уголок, где побольше солнца, побольше деревьев, где вечно голубое небо. Мы бы любили друг друга, мы бы перелили наши души одну в другую, и мы бы ощущали неугасимую жажду друг друга, которую мы утоляли бы сообща и беспрерывно с помощью этой неиссякаемой чаши любви.
– Посмотрите-ка, отец мой, – прервала она его с громким и диким хохотом, – у вас под ногтями кровь!
Священник стоял несколько мгновений, как окаменелый, устремив глаза на свою руку.
– Ну, хорошо, – продолжал он затем с какою-то странною кротостью, – оскорбляй меня, смейся надо мною, брани меня, но только пойдем, пойдем! Нам нужно торопиться. Ведь на завтра, я тебе говорю… ты уже знаешь что… Гревская площадь, виселица! Она уже готова. Ведь это ужасно! – видеть тебя идущею на это ужасное место! О, пощади и себя, и меня! Я никогда не чувствовал так, как в настоящую минуту, до какой степени я тебя люблю. О, пойдем за мною! Дай мне сначала спасти тебя, а затем ты уже успеешь полюбить меня; а до тех пор ненавидь меня, сколько времени захочешь! Пойдем! Ведь завтра! завтра! Виселица, казнь! Спаси себя, пощади меня!..
Он в каком-то исступлении схватил ее за руку и хотел увлечь ее за собою.
– Что сталось с моим Фебом? – спросила она, устремив на него свой неподвижный взор.
– Ах, – проговорил священник, опуская ее руку, – ты безжалостна!
– Что стало с Фебом? – холодно повторила она.
– Он умер! – закричал священник.
– Умер! – повторила она, холодная и неподвижная. – Так что же вы мне толкуете о жизни?
– Да, да, – говорил он как бы про себя и не слыша ее слов, – он, должно быть, уже умер. Сталь глубоко вонзилась в его грудь, и мне кажется, что я острием кинжала задел его сердце. О! На этот раз я постарался…
Молодая девушка кинулась на него, как разъяренная тигрица, и с неестественной силой оттолкнула его на ступеньки лестницы и воскликнула:
– Прочь, чудовище! Прочь, убийца! Дай мне умереть! Пусть его кровь и моя ляжет вечным пятном на челе твоем! Принадлежать тебе, поп! Никогда, никогда! Ничто не соединит нас, даже ад! Никогда, повторяю тебе! Прочь, проклятый!
Священник споткнулся на лестнице, когда она оттолкнула его. Он, не произнося ни слова, выпутал ноги свои из складок своей мантии, взял в руки свой фонарь и медленно стал подниматься по ступенькам, которые вели к двери; затем он отворил дверь и вышел.
Вдруг молодая девушка снова увидела его голову, высунувшуюся из-за трапа; лицо его имело страшное выражение, и он крикнул ей, с выражением ярости и отчаяния:
– Говорю тебе, он умер!
Она упала ничком на пол, и в темном подземелье нельзя было расслышать никакого иного звука, кроме лёгкого шума, производимого каплей воды, падавшей с потолка в лужу.
Я не думаю, чтобы на свете могло быть что-нибудь более радостного, чем мысли, пробуждающиеся в сердце матери при взгляде на башмачок своего ребенка, в особенности, если это башмачок праздничный, воскресный, башмачок, сшитый для крестин, вышитый до самой подошвы, которым ребенок не ступил еще ни шагу. Башмачок этот так мил, так миниатюрен, что матери, при виде его, кажется, как будто она видит перед собою своего ребенка. Он улыбается ей, а она покрывает его поцелуями, болтает с ним. Она спрашивает себя: неужели, в самом деле, может существовать на свете такая маленькая ножка; и если бы даже самого ребенка и не было здесь, то достаточно одного хорошенького башмачка, чтобы восстановить в уме ее весь образ этого нежного и хрупкого создания. Ей кажется, будто она видит его, и, действительно, она его видит, как живого, веселого, розового, с его маленькими ручками, круглой головкой, с его розовым ротиком и ясными глазками, белки которых имеют синеватый отлив. Если дело происходит зимою, то она видит его ползающим по ковру, с трудом взбирающимся на табуретку, и мать дрожит при мысли о том, как бы он не подошел слишком близко к камину. Если же на дворе стоит лето, то он ползает по двору, по саду, выщипывает травку, растущую между камнями, наивно смотрит на больших собак, на еще больших лошадей, не ощущая ни малейшего страха, играет камешками, цветами и заставляет ворчать садовника, находящего при возвращении своем песок в клумбах цветов и землю на дорожках сада. Все смеется, все блистает, все играет вокруг него и вместе с ним, не исключая и ветерка, и солнечного луча, шаловливо играющих с его кудрями. Башмачок все это приводит на ум матери, и сердце ее тает, наподобие восковой свечи.
Но раз бедная мать лишится ребенка, все эти образы, полные радости, прелести, нежности, теснившиеся вокруг маленького башмачка, делаются столькими же ужасными вещами. Вышитый башмачок превращается в орудие пытки, без малейшего перерыва терзающее сердце матери. Он заставляет звенеть в сердце все одну и ту же струну, – струну самую глубокую и чувствительную; но только вместо ласкающего ангела теперь струну эту затрагивает мучитель-демон.
В одно прекрасное утро, когда майское солнце только что показалось на том темно-синем горизонте, на котором Гарофало так любит помещать свои «Сошествия с креста», затворница Гревской площади услышала на площади стук колес, лошадиный топот, бряцание цепей. Но это не произвело на нее почти никакого действия; она только покрепче обмотала свои волосы вокруг ушей, чтобы шум этот не оглушал ее, и снова принялась, стоя на коленях, рассматривать тот самый неодушевленный предмет, с которого она не спускала глаз уже в течение пятнадцати лет. Этот маленький башмачок, как мы уже говорили, заменял для нее весь мир; в нем заключены были все ее мысли, которые должны были выйти из него только с последним ее дуновением. Одним только стенам ее мрачной кельи было известно, сколько трогательных жалоб, сколько горьких упреков, сколько молитв и сколько рыданий вырвалось из груди ее по поводу этой маленькой безделушки из розового атласа. Вряд ли когда-нибудь столько отчаяния вылилось на такую хорошенькую и маленькую вещицу.
В это утро, казалось, горе ее было сильнее обыкновенного, и можно было даже с площади расслышать, как она причитывала громким и монотонным голосом, раздиравшим душу:
– О, моя дочь, моя дочь, моя бедная малютка! Значит, все кончено! А мне все кажется, будто все это случилось не далее, как вчера! Боже мой, Боже мой, уж лучше было бы совсем не давать мне ее, чем так скоро отнимать! Ты, значит, не знаешь, что для нас дети наши – часть нас самих, и что мать, лишившаяся своего ребенка, не верит более в Бога! – Ах, я несчастная! И нужно же было выходить из дому в это утро! – О, Господи, Господи! Ты, значит, никогда не видел меня вместе с нею, если Ты мог так скоро отнять ее у меня. Ты не видел, как я, полная радости, грела ее у окна, как она улыбалась мне, когда я кормила ее грудью или когда я заставляла ее переступать ноженками по моему телу, до тех пор, пока они не доходили до моих губ! О, если бы Ты видел все это, Господи, Ты бы сжалился надо мною, Ты бы не отнял у меня единственной радости в моей жизни! Неужели же я была такое презренное создание, о, Господи, что Ты не удостоил взглянуть на меня, прежде чем осудить меня? Увы! вот башмачок! Но где же ножка, где все остальное, где дитя мое? О, дочь моя, дочь моя, что они сделали с тобою? О, Господи, Господи, возврати мне дочь мою! Я уже в течение пятнадцати лет стираю себе колена, умоляя Тебя, о, Господи! Неужели ж этого недостаточно? Возврати мне ее, на один день, на один час, на одну минуту, одну минуту, о, Боже, и затем отдай мою душу на веки вечные дьяволу! О, если бы мне только знать, где Ты, я могла поймать полу Твоего одеяния, я бы уцепилась за нее обеими руками и не выпустила бы ее, пока Ты не возвратил бы мне моего ребенка! А ее хорошенький башмачок, неужели Ты не сжалишься и над ним, о, Господи! Можешь ли Ты осудить бедную мать на эту пятнадцатилетнюю муку! О, Пресвятая Богородице, обращаюсь к Тебе! У меня отняли, у меня украли моего младенца, его съели в лесу, выпили его кровь, разгрызли его кости! О, Пресвятая Дева, сжалься надо мною! Дочь моя! возвратите мне дочь мою! Что мне от того, что она в раю? Мне не нужно вашего ангела, мне нужен мой ребенок! Я львица, – мне нужно моего львенка! – О, я буду валяться на земле, и буду проклинать и себя, и Тебя, о, Господи, если Ты не возвратишь мне моего ребенка! Смотри, руки мои все искусаны! О, Всемилостивейший Боже, неужели Ты не сжалишься надо мною! Я готова весь остаток жизни моей питаться только черным хлебом с солью, лишь бы возле меня была моя дочь, которая согревала бы меня, точно солнце! Увы, о, Господи Боже мой, я ничто иное, как старая грешница, но дочь моя делала меня благочестивой. Я сделалась религиозною из любви к ней, и я видела Тебя, о, Господи, сквозь улыбку ее, как бы сквозь отверстие в небе. – О, если бы мне довелось хоть разок, хоть один разок обуть ее хорошенькую ножку в этот розовый башмачок, – и я, Пресвятая Богородица, готова буду умереть, благословляя Тебя! – Да, с тех пор прошло уже пятнадцать лет; теперь она была бы уже большая! – Несчастное дитя мое! Как, неужели я ее больше не увижу, даже на небе, ибо мне туда не попасть?.. О, проклятие! Видеть этот башмачок и сознавать, что это все, что от нее осталось!
И с этими словами несчастная кинулась к башмачку, предмету своего утешения и своего отчаяния в течение стольких лет, и рыдания душили ее так же, как и в первый день, ибо для матери, лишившейся своего ребенка, всякий день разлуки с ним – первый день; это горе не стареет. Траурная одежда изнашивается и стирается, но сердце остается облеченным в траур.
В это время под окошечком ее убежища раздались веселые и звонкие детские голоса. Каждый раз, когда до слуха ее долетали эти голоса или она видела в свое оконце детей, бедная мать забивалась в самый темный угол своей гробницы и как будто старалась зарыться головою в камень, чтобы ничего не видеть и не слышать. Но на этот раз она, напротив, вскочила на ноги и стала жадно прислушиваться. Дело в том, что до слуха ее долетели слова, произнесенные каким-то маленьким мальчиком:
– Сегодня будут вешать цыганку.
С тем быстрым движением, которое мы подметили у паука, кинувшегося на муху при сотрясении паутины, она подбежала к оконцу, выходившему, как известно, на Гревскую площадь. Действительно, она увидела, что к виселице была приставлена лестница, и что палач занят был смазыванием петель, заржавевших от дождя. Вокруг виселицы стояло несколько ротозеев. Кучка детей, смеясь, успела уже отбежать довольно далеко. Тогда затворница стала искать глазами какого-нибудь прохожего, которого она могла бы порасспросить. При этом взор ее упал на какого-то священника, стоявшего возле самой ее кельи и делавшего вид, будто он читает выставленный тут же общественный молитвенник, но, в сущности, гораздо менее занятого молитвенником, чем виселицей, на которую он по временам бросал мрачный и суровый взгляд. Она узнала в нем благочестивого архидиакона Клода.
– Отец мой, – обратилась она к нему с вопросом, – кого это собираются вешать?
Священник взглянул на нее, ничего не ответив. Она повторила вопрос свой, и он ответил:
– Не знаю.
– Тут какие-то дети говорили сейчас, что повесят Цыганку, – продолжала затворница.
– Кажется, что так, – ответил священник.
При этих словах Пахита Шанфлери разразилась смехом гиены.
– Сестра моя, – спросил ее архидиакон, – вы, значит, очень ненавидите цыганок?
– Еще бы мне их не ненавидеть! – воскликнула она, – это какие-то вампиры, воровки детей! они похитили у меня мою девочку, мою дочь, единственного моего ребенка! Лучше бы они съели сердце мое!
В эту минуту она была просто страшна. Священник холодно смотрел на нее.
– Особенно ненавижу я одну из них, которую я и прокляла, – продолжала она. – Это молодая девушка, которая была бы ровесницей моей дочери, если бы ее мать не сожрала мою дочь. Каждый раз, когда эта ехидна проходит мимо окна моего, я чувствую, что вся кровь моя кипит.
– Ну, так радуйтесь, сестра моя, – проговорил священник, холодный, как надгробная статуя, – ее то именно и собираются сейчас казнить.
С этими словами он опустил голову на грудь и медленно удалился.
– А ведь я предсказывала ей, что быть ей на виселице! – воскликнула она, радостно всплеснув руками. – Благодарю вас, отец мой!
И она стала расхаживать большими шагами перед железной решеткой своего оконца, с распущенными волосами, со сверкающими глазами, с жадным взором заключенной в клетку волчицы, которая давно уже проголодалась и которая чувствует, что приближается время еды.







