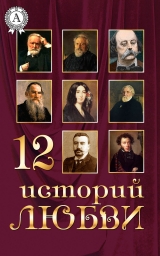
Текст книги "12 историй о любви"
Автор книги: Коллектив авторов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 294 страниц) [доступный отрывок для чтения: 104 страниц]
Спустившись и снова поднявшись по нескольким ступенькам в таких темных коридорах, что их приходилось освещать лампами среди белого дня, Эсмеральда, все еще окруженная своим зловещим конвоем, почувствовала, что ее втолкнули в какую-то мрачную комнату. Эта комната, круглая по очертанию своему, занимала нижний этаж одной из тех больших башен, которые сохранились еще и до наших дней среди зданий нового Парижа. В этом подвале совсем не было окон, и свет проникал в него лишь через входную дверь, низкую и обитую железом. Впрочем, в ней не было темно, так как в толстой стене была вделана громадная печь, в которой был разведен огонь, освещавший подвал своим красноватым блеском, перед которым бледнел свет тощей сальной свечи, стоявшей в углу подвала. Железная заслонка, которою закрывалась печь, была в это время приподнята, и поэтому легко было разглядеть вокруг отверстия печи, освещаемого горевшим в ней пламенем, концы железных прутьев, торчавших, точно ряд черных, острых и редких зубов, что придавало печи вид одного из тех легендарных драконов, у которых из пасти вырывается пламя. При свете разведенного в печи огня бедная девушка увидела развешанными вокруг стен комнаты разные страшные инструменты, употребление которых было ей неизвестно. Посреди комнаты лежал на полу кожаный матрац, от которого шел к кольцу, ввинченному в потолок, ремень с пряжкой; вышеозначенное кольцо было продето в ноздри вырезанного из дерева чудовища, прикрепленного к замочному камню свода. В топившейся печке лежали щипцы, клещи, широкие полосы железа, успевшие уже накалиться докрасна. Словом, зловещий, красноватый свет, выходивший из печи, освещал во всей этой комнате одни только страшные предметы.
Этот ад, на тогдашнем языке, назывался просто «допросной комнатой».
На кровати сидел в небрежной позе Пьерра Тортерю, присяжный палач. Помощники его, два урода с какими-то четырехугольными физиономиями, в полотняных штанах и с кожаными фартуками, поворачивали железо, накаливавшееся в печке.
Как ни крепилась бедная молодая девушка, но, войдя в эту комнату, она содрогнулась от ужаса.
Вдоль одной из стен комнаты выстроились в ряд конвойные солдаты, вдоль другой – священники, члены консисторского суда. В одном из углов комнаты стоял стол, на котором стояла чернильница; за столом этим уселся секретарь суда.
Жак Шармолю приблизился к цыганке с ласковой улыбкой.
– Ну, что же, любезное дитя мое, – спросил он, – вы все еще продолжаете упорствовать?
– Мне нечего говорить… – произнесла она еле слышным голосом.
– В таком случае, – продолжал Шармолю, – как это нам ни неприятно, но нам придется допросить вас построже, чем нам самим это бы желательно. Потрудитесь сесть на эту кроватку. – Господин Пьерра, очистите место для барышни и закройте дверь.
– Если я закрою дверь, – проговорил Пьерра, ворча и поднимаясь с места, – то огонь мой потухнет.
– Ну, в таком-случае, мой милый, – согласился Шармолю, – оставьте ее отворенною.
Эсмеральда продолжала стоять. Эта кожаная постель, на которой корчилось в муках столько несчастных, пугала ее, и по спине ее пробегали мурашки. Она стояла растерянная, бессмысленно глядя перед собой. По данному Жаком Шармолю знаку, оба помощника палача схватили ее за руки и усадили на кровать. Они не причинили ей никакой боли, но когда они прикоснулись к ней, когда кожаные их фартуки прикоснулись к ее плечу, она почувствовала, что вся ее кровь прилила ей к сердцу. Она окинула всю комнату растерянным взором. Ей показалось, что все орудия пытки, развешанные до сих пор по стенам, сами собою сорвались со своих крюков, и направлялись к ней, и ползали по ее телу, но что это уже не инструменты, а какие-то нетопыри, тысяченожки, пауки, чудовищные птицы.
– Доктор здесь? – спросил Шармолю.
– Здесь, – ответил какой-то человек в черной мантии, которого она до сих пор не заметила.
Она вздрогнула.
Сударыня, – снова раздался вкрадчивый голос прокурора консисторского суда, – в третий раз спрашиваю вас, продолжаете ли вы отрицать преступления, в которых вы обвиняетесь?
На этот раз она не имела сил произнести ни единого звука и только отрицательно мотнула головою.
– Значит, вы продолжаете упорствовать? – произнес Жак Шармолю. – В таком случае, как это ни прискорбно для меня, но я должен исполнить обязанности, возлагаемые на меня законом.
– Г. прокурор! – обратился к нему Пьерра, – с чего мы начнем?
Шармолю помолчал с минуту, с задумчивым видом поэта, подыскивающего рифму, и, наконец, ответил:
– С испанского сапога.
Несчастная почувствовала себя до того покинутой Богом и людьми, что она беспомощно опустила голову на грудь, как бы не имея силы держать ее прямо.
Палач и медик одновременно приблизились к ней. В то же время оба помощника палача принялись отыскивать что-то в своем ужасном арсенале.
Услышав, как забренчали эти ужасные орудия, несчастная девушка вздрогнула, как мертвая лягушка, к которой прикоснулся гальванический ток.
– О, мой Феб! – пробормотала она так тихо, что никто не мог расслышать этих слов. – И затем она снова погрузилась в неподвижность мраморной статуи и в молчание.
Зрелище это могло бы тронуть сердце всякого другого человека, только не сердце судьи. Точно сам сатана допрашивал бедную, грешную душу на раскаленных плитах ада. И это бедное тело, в которое через несколько мгновений должен был впиться этот ужасный муравейник пил, колес и дыб, это жалкое существо, которое сейчас должно было сделаться достоянием палачей и клещей, – это была кроткая, нежная и беленькая Эсмеральда! Человеческое правосудие не нашло ничего лучшего, как бросить это бедное зерно проса для размола его ужасными жерновами пытки!
Тем временем грубые руки помощников Пьерра Тортерю грубо разули хорошенькую ножку молодой девушки, – эту ножку, которая своей красотою и своею миловидностью так часто восхищала прохожих на улицах, переулках и площадях Парижа.
– А право жаль! – пробормотал сквозь зубы сам палач, глядя на эту нежную и белую ножку.
Если бы в это время здесь был архидиакон, он, без сомнения, вспомнил бы о сцене с пауком и мухой в его рабочем кабинете.
Вскоре несчастная увидела сквозь туман, застилавший ей зрение, как к ноге ее приближался так называемый «испанский сапог»; вскоре она почувствовала, что нога ее обхвачена этой ужасной обувью, нажимаемой винтами. В это время ужас придал ей силы.
– Скиньте с меня это! – воскликнула она отчаянным голосом, и затем, вскочив с растрепанными волосами, закричала раздирающим душу голосом:
– Пощадите!
Она вскочила с матраца, чтобы кинуться к ногам королевского прокурора, но нога ее была обхвачена тяжелым, железным сапогом, и она повалилась на пол, точно пчела, опалившая себе крылья. По поданному Жаком Шармолю знаку, ее снова положили на матрац и две дюжие руки обмотали вокруг ее тонкой талии ремень свешивавшийся с потолка.
– Спрашиваю вас в последний раз, – проговорил Жак Шармолю с невозмутимым хладнокровием и кротостью, – сознаетесь ли вы в том, в чем вы обвиняетесь?
– Я ни в чем не виновна.
– В таком случае, каким же образом вы объясните тяготеющие на вас улики?
– Увы! г. судья, я никак не сумею объяснить этого.
– Значит, вы продолжаете отрицать?
– Да, я отрицаю.
– Продолжайте ваше дело, – сказать Шармолю, обращаясь к Пьерра.
Пьерра повернул ручку снаряда, сапог сузился, 1и несчастная испустила один из тех ужасных криков, которых нельзя изобразить никакой орфографией в мире.
Остановитесь, – сказал Шармолю палачу. – Сознаетесь ли? – обратился он к цыганке.
– Сознаюсь! – воскликнула молодая девушка, – сознаюсь во всем! только пощадите!
Она плохо рассчитала свои силы, понадеявшись выдержать пытку. Первая сильная боль сломила бедную девушку, жизнь которой была до сих пор так весела, приятна, беззаботна.
– Человеколюбие заставляет меня предупредить вас, – заметил королевский прокурор, – что, сознаваясь в том, в чем вы обвиняетесь, вы подлежите смертной казни.
– Мне все равно! – воскликнула она, и опустилась на кожаный матрац в изнеможении, совершенно перегнувшись, повисши на ремне, который был обмотан вокруг ее пояса.
– Встаньте, красавица, постарайтесь держаться прямо, – сказал Пьерра, приподнимая ее, – а то вы так похожи, ни дать, ни взять, на золотое руно, висящее на шее у г. герцога Бургундского.
– Г. секретарь, потрудитесь записывать! – проговорил Жак Шармолю, возвысив голос. – Итак, молодая девушка, вы сознаетесь в том, что участвовали в шабашах, пиршествах и колдовствах ведьм, вместе с разными рожами, харями и нетопырями? Отвечайте!
– Да, – ответила она так тихо, что ответ походил скорее на дыхание, чем на слово.
– Вы сознаетесь в том, что видели овна, которого Вельзевул заставляет появляться в облаках для того, чтобы сзывать ведьм на шабашь, и которого могут видеть одни только колдуны?
– Да!
– Вы сознаетесь в том, что поклонялись головам Бофомета, этим мерзким идолам язычников?
– Да!
– Вы сознаетесь в том, что водились постоянно с дьяволом, принявшим вид козы, также привлеченной к делу?
– Да!
– Наконец, вы сознаетесь в том, что с помощью дьявола и привидения, называемого в простонародье букой, убили в ночь на 29-е прошлого марта капитана.
Она устремила на судью свои неподвижные глаза и ответила как бы машинально, по-видимому, без всякого волнения и смущения:
– Да.
Очевидно было, что она была совершенно надломана.
– Г. секретарь, запишите все это, – проговорил Шармолю и затем прибавил, обращаясь к палачам, – отвяжите подсудимую! Отвести ее в залу суда!
Когда с несчастной сняли ее обувь, прокурор консисторского суда осмотрел ее ногу, еще всю окоченелую от боли, и сказал:
– Ну, повреждение еще не особенно значительно. Вы закричали вовремя. При таком состоянии вашей ноги вы еще в состоянии были бы проплясать, красавица моя.
И затем он прибавил, обращаясь к членам консисторского суда:
– Ну, вот, суд и добрался до истины! – Это всегда бывает очень приятно, господа! – А эта барышня, конечно, отдаст нам справедливость в том, что мы поступили с нею как нельзя более деликатно.
Когда бедная девушка вернулась в здание суда, бледная и прихрамывая, ее встретил всеобщий ропот удовольствия. Это было со стороны публики проявление того чувства удовлетворенного нетерпения, которое приходится испытывать в театре, когда окончился последний антракт комедии и когда занавес начинает подниматься перед последним действием, заключающим в себе развязку комедии. Судьи обрадовались вдвойне при мысли, что им скоро удастся поужинать. Козочка также заблеяла от радости. Она рванулась к своей госпоже, но оказалось, что ее привязали к скамейке.
Уже совершенно стемнело, и свечи, число которых не было увеличено, так слабо освещали комнату, что нельзя было даже разглядеть стен залы. В сумерках все предметы казались точно подернутыми туманом; среди общего серого фона еле-еле выделялись апатичные физиономии судей. Против них, на другом конце залы, на темном фоне выделялось какое-то белое пятно. Это была подсудимая.
Она едва доплелась до своего места. Шармолю сначала важно уселся на своем кресле, а затем, когда в зале водворилось молчание, снова приподнялся и произнес, стараясь не слишком много проявить гордости в интонации своего голоса:
– Подсудимая во всем созналась.
– Цыганка, – заговорил председатель, – вы сознались в чародействе, в проституции и в убийстве, совершенном над личностью капитана Феба де-Шатопера?
Сердце ее сжалось, и слышно было, как она судорожно рыдала в своем темном углу.
– Во всем, что вам угодно будет, – ответила она слабым голосом, – но только убейте меня скорее!
– Господин королевский прокурор по церковным делам, – сказал председатель, – суд готов выслушать ваши заключения.
Жак Шармолю вынул из своего пюпитра объемистую тетрадь, и принялся отчитывать по ней, с разными жестами и подчеркиваниями, латинскую речь, в которой все обстоятельства дела излагались цицероновскими перифразами, перемешанными цитатами из Плавта, его любимого комика. Мы очень сожалеем о том, что не можем представить читателям целиком этого замечательного произведения ораторского искусства. Оратор декламировал его не хуже любого драматического актера. Он не успел еще кончить вступления, как уже пот крупными каплями выступил на лбу его и глаза его готовы были выскочить из своих орбит.
Вдруг, на самой середине какого-то великолепного периода, он сам себя оборвал, и взгляд его, в обыкновенное время довольно добрый и даже несколько глупый, засверкал.
– Господа судьи! – воскликнул он (на этот раз по-французски, ибо этого не было в его тетради), – во всем этом деле столько чертовщины, что сам сатана присутствует даже в нашем заседании и насмехается над нами! Не угодно ли вам посмотреть?
И с этими словами он указал рукою на козочку, которая, увидев жестикуляцию Шармолю, нашла уместным подражать ему, и сев на задние ноги, старалась копировать своими передними ногами и своей бородатой головкой патетические жесты г. королевского прокурора. Это умение козочки копировать чужие жесты, как, быть может, помнит читатель, приводило всегда в восторг парижских зевак. Это случайное обстоятельство, это «доказательство», произвело величайший эффект. Козочке связали ноги, и королевский прокурор снова вдался в свое красноречие. Речь его тянулась без конца, но зато была замечательно хороша. Приводим только заключение ее, прося читателя помнить, что она была произнесена хриплым голосом и сопровождалась отчаянными жестами:
– Итак, господа, теперь эта ведьма изобличена, преступление ее доказано, преступные намерения очевидны, и поэтому, от имени священнослужителей собора Парижской Богоматери, которым принадлежит высшая юрисдикция на острове, составляющем Старый город, мы сим заявляем, что требуем от вас: во-первых, присуждения ее к денежному штрафу по вашему усмотрению; во-вторых, присуждения ее к публичному покаянию перед главным входом в кафедральный собор Богоматери; в-третьих, приговора, в силу которого эта ведьма, вместе с ее козой, были бы казнены смертью или на площади, называемой в простонародье Гревской, или на острове, на реке Сене, близ королевского сада.
И, проговорив это, он надел на голову свою шапочку и сел.
– Ай, ай, ай! – пробормотал про себя огорченный Гренгуар, – что за варварская латынь!
Тогда встал другой человек в черной мантии, сидевший подле подсудимой. Это был защитник ее.
Судьи, окончательно проголодавшиеся, начали что-то ворчать себе под нос.
– Г. защитник! – проговорил председатель, – прошу вас быть по возможности кратким.
– Господин председатель, – сказал защитник, – так как клиентка моя созналась в взводимых на нее преступлениях, то я ограничусь лишь весьма немногими словами. В салическом законе сказано: «Если ведьма высосет у человека кровь и будет в том изобличена, она должна заплатить пеню в восемь тысяч денье, что составить двести су золотом». Я прошу суд приговорить клиентку мою к пене.
– Закон этот уже отменен… – заметил королевский прокурор.
– Я отрицаю это! – возразил защитник.
– На голоса! – сказал один из членов суда, – преступление доказано и уже очень поздний час.
Суд приступил к голосованию, не выходя из залы заседаний; так как судьи очень торопились, то они подавали голоса посредством снимания своих колпаков. Можно было рассмотреть в потемках, как покрытые колпаками головы их обнажились одна за другою при вопросе, с которым председатель обращался шепотом к каждому из судей. Бедная подсудимая как будто смотрела на них, но помутившийся взор ее ничего не видел.
Затем секретарь стал что-то писать и передал председателю длинный свиток пергамента. Наконец, несчастная услышала, как публика зашевелилась, копья стражников застучали, ударившись об пол, и какой– то ледяной голос произнес:
– Подсудимая цыганка, в тот день, который угодно будет назначить всемилостивейшему королю нашему, вы будете отправлены в позорной колеснице, босиком, в одной сорочке, с веревкой на шее к большим дверям собора Богоматери; там вы покаетесь, держа в руке восковую свечу в два фунта весом, а оттуда вас отведут на Гревскую площадь, где вы будете повешены и задушены на городской виселице вместе с находящейся тут же козой вашей. И кроме того, вы обязаны заплатить в пользу консисторского суда три лионских экю золотом, в возмездие за совершенные и признанные вами преступления, как-то: колдовство, чародейство, распутную жизнь и убийство, совершенное над особой капитана Феба де-Шатопера. Да смилуется над вами Господь Бог!
– О, это сон! – пробормотала она. В ту же минуту она почувствовала, как ее увлекли какие-то дюжие руки.
В средние века здания строились так, что почти такая же часть их находилась под поверхностью земли, как и над поверхностью. Если только они не были построены на сваях, как, например, собор Парижской Богоматери, всякий дворец, всякая крепость, всякая церковь имели, так сказать, двойное дно. При каждом соборе был некоторым образом другой собор, подземный, низкий, темный, таинственный, слепой и немой, под верхним собором, залитым светом и день и ночь оглашаемым органами и колоколами; иногда эти подземные здания служили для погребения. Во дворцах и в крепостях они иногда служили темницами, иногда тоже местом погребения, иногда и тем, и другим вместе. Эти громадные здания, происхождение и рост которых мы объяснили в другом месте, имели не только фундаменты, но, так сказать, корни, которые тянулись под землею, разветвляясь в такие же комнаты, лестницы, галереи, как и верхнее сооружение. Таким образом, церкви, дворцы, крепости, можно сказать, были врыты в землю до половины тела. Подземелья какого-нибудь здания представляли собою другое здание, в которое приходилось опускаться, вместо того, чтобы подниматься, и подземные этажи которого, вырытые под этажами надземными, напоминали собою те горы и те леса, которые отражаются в зеркальной поверхности озера под прибрежными горами и лесами.
В Сент-Антуанской Бастилии, в здании суда, в Лувре эти подземные здания служили темницами. Ярусы этих темниц, опускаясь в землю, все более и более суживались и становились темными. Они представляли собою различные пояса, по которым в известной симметричности расположены были разные виды ужасов. Данте не мог бы найти ничего лучшего для изображения своего ада. Эти воронкообразные темницы оканчивались обыкновенно узким и тесным помещением, в которое Данте поместил бы своего сатану, и в которое общество помещало людей, приговоренных к смерти. Раз сюда попало какое-нибудь жалкое человеческое существо, – прощай свет, воздух, жизнь, прощай всякая надежда! Оно выходило отсюда только для того, чтобы идти к виселице или к костру. Иногда оно просто сгнивало здесь: человеческое правосудие называло это забыть человека. Осужденный сознавал, что между ним и остальным миром лежит целая груда камней и стоит целая орава тюремщиков, и вся темница, все это массивное здание представлялось ему лишь в виде громадного, сложного замка, запиравшего для него мир живых существ.
В глубине такого-то подвала, в подземной темнице, вырытой Людовиком Святым под одною из башен Шатле, заперли, вероятно, из спасения, как бы она не скрылась, Эсмеральду, приговоренную к виселице. Эту бедную мушку, которая едва в состоянии была пошевелиться, придавили всею тяжестью громадного здания суда. Провидение и человеческое правосудие оказались в данном случае одинаково несправедливыми: такой избыток несчастия и пыток был совершенно не нужен для того, чтобы сломить такое слабое создание.
Итак, она сидела зарытою, похороненною, замурованною в этом темном подземелье. Всякий, кто увидел бы ее в таком положении, видев ее прежде смеющеюся и пляшущей на залитой солнцем площади, невольно содрогнулся бы. Мрачная, как ночь, холодная, как смерть, не чувствуя ни малейшего дуновения ветерка на своем лице, не слыша человеческого голоса, не видя ни единого луча света, сломанная, придавленная цепями, съежившись на связке соломы, под которой образовалась лужа вследствие потоков воды, стекавших с серых стен, имея подле себя лишь кусок черствого хлеба и кружку воды, неподвижная, почти бездыханная, – она не в состоянии была даже страдать. Феб, солнце, полдень, воздух, парижские улицы, пляска, рукоплескания толпы, сладостный любовный лепет, а вслед за этим – священник, сводница, кинжал, кровь, пытка, виселица, – все это, правда, носилось еще в ее воображении, то как радужное, чарующее видение, то как ужасный кошмар; но все это представлялось ей лишь в виде смутного или страшного видения, терявшегося где-то в потемках, или же в виде отдаленной музыки, разыгрываемой там, вдали, высоко над нею, на земле, и звуки которой едва долетали до той глубокой бездны, в которую была повергнута несчастная.
С тех пор, как ее заперли в это подземелье, несчастная находилась в таком состоянии, которого нельзя было назвать ни бодрствованием, ни сном; она так же мало в состоянии была отличить действительность от сновидения, как день от ночи. Все это сбилось в одну кучу, перепуталось, беспорядочно носилось в ее мыслях. Она ничего не чувствовала, ничего не знала, ни о чем не думала; она разве только мечтала. Трудно представить себе живое существо, до того погруженное в небытие.
Таким образом, сидя в подобном окаменелом, застывшем, онемелом состоянии, она едва расслышала шум опускной двери, стукнувшей где-то раза два или три над ее головой, при чем, однако, в подземелье ее не проник ни единый луч света, и не заметила, как какая-то рука бросила ей корку черствого хлеба. Это повторявшееся от времени до времени сообщение тюремщика было, однако, единственным средством сообщения ее с внешним миром.
Слух ее машинально прислушивался только к одному звуку. Над ее головою, вследствие сырости подвала, от времени до времени образовывались капли воды, которые затем, отделяясь от свода, падали на пол через известные, правильные промежутки времени. Она бессмысленно прислушивалась к шуму, который производили эти капли, падая на образовавшуюся возле нее лужу. Эта капля воды, падавшая в лужу, была единственным признаком движения вокруг нее, единственными часами, обозначавшими для нее время, единственным, долетавшим до ее слуха, звуком из всех многочисленных и разнообразных звуков, раздававшихся на поверхности земли.
Время от времени в этой клоаке мглы и грязи она ощущала, как что-то холодное, то там, то тут, пробегало у нее по руке или ноге; тогда она вздрагивала.
Сколько времени пробыла она в узилище? Она не знала. Она помнила лишь произнесенный где-то над кем-то смертный приговор, помнила, что ее потом унесли и что она проснулась во мраке и безмолвии, закоченевшая от холода. Она поползла было на руках, но железное кольцо впилось ей в щиколотку, и забряцали цепи. Вокруг нее были стены, под ней – залитая водой каменная плита и охапка соломы. Ни фонаря, ни отдушины. Тогда она села на солому. И только время от времени, чтобы переменить положение, она переходила на нижнюю ступеньку каменной лестницы, спускавшейся в склеп.
Она попробовала считать мрачные минуты, которые ей отмеривали капли, но вскоре это жалкое усилие больного мозга оборвалось само собой, и она погрузилась в полное оцепенение.
И вот однажды, то ли днем, то ли ночью (полдень и полночь были одинаково черны в этой гробнице) она услышала над головой более сильный шум, чем обычно производил тюремщик, когда приносил ей хлеб и воду. Она подняла голову и увидела красноватый свет, проникавший сквозь щели дверцы или крышки люка, который был проделан в своде каменного мешка.
В ту же минуту тяжелый засов загремел, крышка люка, заскрипев на ржавых петлях, откинулась, и она увидела фонарь, руку и ноги двух человек. Свод, в который была вделана дверца, нависал слишком низко, чтобы можно было разглядеть их головы. Свет причинил ей такую острую боль, что она закрыла глаза.
Когда она их открыла, дверь была заперта, фонарь стоял на ступеньках лестницы, а перед ней оказался только один человек. Черная монашеская ряса ниспадала до самых пят, такого же цвета капюшон спускался на лицо. Нельзя было разглядеть ни лица, ни рук. Это был длинный черный саван, под которым чувствовалось что-то живое. Несколько мгновений она пристально смотрела на это подобие призрака. Оба молчали. Их можно было принять за две столкнувшиеся друг с другом статуи. В этом склепе казались живыми только фитиль в фонаре, потрескивавший от сырости, да капли воды, которые, падая со свода, прерывали это неравномерное потрескивание однообразным тонким звоном и заставляли дрожать луч фонаря концентрическими кругами, разбегавшимися по маслянистой поверхности лужи.
Наконец узница прервала молчание:
– Кто вы?
– Священник.
Это слово, интонация, звук голоса заставили ее вздрогнуть.
Священник продолжал медленно и глухо:
– Вы готовы?
– К чему?
– К смерти.
– Скоро ли это будет? – спросила она.
– Завтра.
Она уже радостно подняла голову, но тут голова ее тяжело упала на грудь.
– О, как долго ждать! – пробормотала она.
– Что им стоило сделать это сегодня?
– Значит, вам очень плохо? – помолчав, спросил священник.
– Мне так холодно! – молвила она.
Она обхватила руками ступни своих ног, – привычное движение бедняков, страдающих от холода, его мы заметили и у затворницы Роландовой башни, зубы у нее стучали.
Священник из-под своего капюшона, казалось, разглядывал склеп.
– Без света! Без огня! В воде! Это ужасно!
– Да, – ответила она с тем удивленным видом, который не покидал ее с тех пор, как на нее стали обрушиваться одно за другим несчастия, – ведь свет существует для всех! Отчего же мне в удел досталась только тьма?
– А знаете ли вы, – продолжал священник после нового молчания, – зачем вы здесь?
Мне кажется, что я знала это, – ответила она, проводя своими исхудавшими пальцами по бровям своим, как бы стараясь собрать свои воспоминания, – но теперь я уже забыла.
Вдруг она разразилась жалобным, детским плачем и воскликнула:
– Я хочу уйти отсюда! Мне холодно! мне страшно! Какие-то звери ползают по моему телу!
– Ну, так пойдемте за мною!
И с этими словами священник взял ее за руку. Несмотря на то, что несчастная продрогла до костей, однако, от прикосновения этой руки она почувствовала еще больший холод.
О! – прошептала она, – это ледяная рука смерти! Да кто же вы такой?
Тут священник откинул свой капюшон. Она взглянула на него – перед нею было то же зловещее лицо, которое уже так давно преследовало ее, та самая голова демона, которая промелькнула перед нею у вдовы Фалурдель над головой ее обожаемого Феба, тот самый взор, который она, в последний раз увидела сверкнувшим рядом со сверкнувшим кинжалом.
Эго явление, постоянно оказывавшееся для нее столь злосчастным и доведшее ее мало-помалу от одного несчастия к другому, до самой виселицы, вывело ее из ее оцепенения. Ей показалось, будто завеса, сгустившаяся над ее памятью, стала редеть. Все подробности того, что случилось с нею за последнее время, начиная с ночной сцены у вдовы Фалурдель и до произнесения над нею смертного приговора в здании суда, разом воскресли в ее уме уже не смутно и не неотчетливо, как доселе, а во всей своей определенной, резкой, осязательной, страшной форме. Воспоминания эти, на половину стертые и почти изглаженные избытком страданий, мрачный образ, который она видела перед собою, снова оживили их, подобно тому, как достаточно приблизить к листу бумаги, исписанному симпатическими чернилами, огонь, для того, чтобы невидимые доселе буквы обозначились совершенно ясно и отчетливо. Ей показалось, будто все раны ее сердца разом раскрылись, и из них стала сочиться кровь.
– А-а! – воскликнула она, судорожно задрожав и закрыв лицо руками, – опять этот поп! – И затем она в бессилии опустила руки и осталась сидеть с опущенной книзу головой, устремив глаза в землю, безмолвная, продолжая дрожать.
Священник смотрел на нее взором коршуна, который давно уже кружился в поднебесье над бедным жаворонком, забившимся в рожь, который давно уже все суживал и суживал постоянно описываемые им на лету круги, и который затем вдруг, с быстротой молнии, опустился на свою трепещущую жертву и схватил ее когтями своими.
– Кончайте, кончайте!.. – прошептала она, – наносите последний удар! – И она в ужасе вытянула голову, точно овца, ожидающая удара обухом мясника.
– Значит, я на вас навожу ужас? – спросил он.
Она ничего не ответила.
Так вы, следовательно, боитесь меня? – повторил он свой вопрос в другой форме, и губы его судорожно сжались, как бы для улыбки;
– Да! – воскликнула она, – палач насмехается над осужденным!.. Вот уже целые месяцы, что он преследует, пугает меня, угрожает мне! Боже мой, как я была счастлива до тех пор, пока не встретила его! Это он низверг меня в эту бездну! О, Боже! Это он убил… это он убил его, моего Феба!
И, разразившись рыданиями и подняв глаза на священника, она продолжала:
– О, злодей, кто ты такой? Что я тебе сделала? За что ты меня так ненавидишь? Скажи мне, ради самого Бога, что ты имеешь против меня?
– Я люблю тебя!.. – воскликнул священник.
Слезы ее сразу перестали течь из глаз, и она уставилась на него бессмысленным взором, а он бросился перед нею на колени и пожирал ее жадным взором.
– Слышишь ли ты? Я люблю тебя! – еще раз воскликнул он.
– О какой это любви ты говоришь? – спросила несчастная, дрожа всем телом.
– О проклятой любви! – ответил он.
Оба они хранили в течение нескольких минут молчание, подавленные своими ощущениями, он – в каком-то исступлении, она – совершенно растерянная.
– Послушай! – наконец, заговорил священник, к которому странным образом вдруг вернулось все его спокойствие, – ты должна все знать! Я сообщу тебе сейчас то, в чем я до сих пор едва смел сознаваться самому себе, когда я тайком допытывал мою совесть в те глухие ночи, когда так темно, что человеку кажется, будто даже сам Господь Бог уже не может видеть его. – Так слушай! Прежде, чем я встретил тебя, я был счастлив.
– Ия также! – прошептала она со слабым вздохом.
– Не прерывай меня! – Да, я был счастлив, по крайней мере, я воображал, будто я счастлив. Я был чист, на душе у меня было светло. Никто не имел права поднимать голову свою с большим спокойствием и гордостью, чем я. Духовные лица обращались ко мне за советами относительно целомудрия, ученые – по вопросам научным. Да, наука была для меня – все! Она была мне сестрою, – и этого было для меня достаточно. Я не скажу, чтобы по мере того, как я становился старше, мне не приходили в голову иные мысли. Не раз плоть моя волновалась, когда мимо меня проходил красивый женский образ. Не раз эти плотские вожделения, которые я, в самонадеянности молодости, думал было заглушить строгостью жизни и научными занятиями, судорожно сотрясали железные цепи обета, которые приковывают меня, несчастного, к холодным камням алтаря. Но пост, молитва, научные занятия, строгая монастырская жизнь снова возвращали душе господство над плотью. И к тому же, я избегал женщин; к тому же, мне достаточно было раскрыть книгу для того, чтобы все нечестивые помыслы, возникавшие в моем мозгу, раззевались, как дым, перед сокровищами науки. По прошествии нескольких минут я уже чувствовал, что все земное испаряется из моей души, и я снова делался спокоен, ум мой снова приобретал свою ясность и чистоту при спокойном блеске вечной истины. До тех пор, пока демон-искуситель посылал ко мне только смутные образы женщин, мелькавшие перед моими взорами в церкви, на улицах, на площадях, и которых я тотчас же позабывал, как только они скрывались из глаз моих, я без труда с ними справлялся. Увы! Если я не остался победителем до конца, то в этом виноват не я, а Господь Бог, который не дал одинаковую силу и человеку, и дьяволу! – Так слушай же! Однажды…







