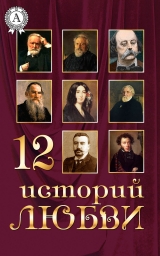
Текст книги "12 историй о любви"
Автор книги: Коллектив авторов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 294 страниц) [доступный отрывок для чтения: 104 страниц]
– А где же Бельвинь-де-Л'Этуаль? – спросил Клопен.
– Его убили, ответила одна из цыганок.
– Значит, собор Богоматери взялся исполнять дело больницы, – заметил Андрей Рыжий, глупо рассмеявшись.
– Неужели же нет никакой возможности выломать эту глупую дверь! – воскликнул Тунский король, топнув ногою. Но цыганский староста с печальным взором указал ему глазами на два потока расплавленного свинца, не перестававшие течь вниз по черному фасаду, оставляя на нем след, напоминавший собою, своею формой, два длинных фосфорических веретена.
– Да, бывали примеры тому, – произнес он, вздохнув, – что церкви таким образом защищались сами собою. Так, собор св. Софии в Константинополе, сорок лет тому назад, три раза кряду сбрасывал с себя полулуние Магомета, потрясая своими куполами, которые заменяют ему головы. А Гильом, епископ парижский, построивший этот собор, был великий чародей.
– Но неужто ж нам так и уходить, точно несолено хлебавши! – воскликнул Клопен, – и оставить там сестру нашу, которую эти волки в митрах непременно повесят завтра?
– Да в придачу к ней еще все это золото и серебро! – прибавил один почтенный разбойник, имя которого, к сожалению, осталось нам неизвестно.
– Черти бы их побрали! – воскликнул Трульефу.
– Попытаемся еще раз, – предложил разбойник.
– Нет, все равно нам в двери не попасть! заметил Матвей Гуниади, качая головою. – Нужно поискать какой-нибудь другой лазейки, какого-нибудь стыка, подземного хода, отверстия…
– Ну, это пускай делает, кто хочет, – ответил Клопен, – а с меня довольно. А кстати, где же этот маленький школяр Жан, который так основательно вооружился?
– Должно быть, он убить, – ответил кто-то, по крайней мере, уже неслышно его смеха.
– Жаль, – заметил Тунский король, наморщив брови: – он был, кажется, не из трусливых. А Пьер Гренгуар?
– Тот удрал еще в то время, как мы только что дошли до моста Менял, капитан Клопен, – ответил Андрей Рыжий.
– Экий подлец! – воскликнул Клопен, топнув ногой, – он же подбил нас на это дело и он бежал от нас еще до начала дела! Негодный болтун! Старый бабий башмак!
– Посмотрите-ка, капитан, – продолжал Андрей, глядя по направлению Папертной улицы, вон он, школяр наш.
– Слава Плутону! – сказал Клопен, – но что это такое он тащит за собою?..
Действительно, это был Жан, бежавший так скоро, как только позволяло ему его тяжелое рыцарское вооружение и длинная лестница, которую он волочил за собою по мостовой, и которая придавала ему большое сходство с муравьем, тащащим соломинку в двадцать раз более длинную, чем он сам.
– Победа! Слава Богу! – кричал экс-школяр. – Я притащил лестницу разгрузчиков с моста Сен-Ландри! – На что тебе эта лестница, малыш? – спросил Клопен, приближаясь к нему.
– Вот она! – повторял Жан, весь запыхавшись. Я знал, где ее найти: под навесом дома полицейского поручика. Там еще живет знакомая мне девушка, находящая меня красивым, как купидон. Я обратился к ней по старому знакомству, и вот с ее помощью добыл эту лестницу. Бедняжка! Она вышла отворять мне дверь в одной сорочке.
– Все это хорошо, – сказал Клопен, – но объясни мне ради Бога, на что тебе эта лестница?
Жан взглянул на него с видом умственного превосходства и прищелкнул пальцами, точно кастаньетами. Он был просто величествен в эту минуту. На голове его был надет один из тех чудовищных шлемов XV-го века, которые пугали неприятеля своими несообразными нашлемниками. Шлем Жана был украшен десятью железными клювами, так что Жан с успехом мог бы оспаривать страшный эпитет «десятиклювный» у гомерического судна Нестора.
– На что она мне, вельможный король Тунский? А видите ли вы этот ряд статуй, с такими дурацкими рожами, вон там, над тремя дверьми?
– Да, вижу. Но что ж из этого?
– Это галерея французских королей.
– Ну, так мне то что до этого за дело? – спросил Клопен.
– Да, постойте же. В конце этой галереи есть дверь, которая всегда бывает заперта только на задвижку. Так вот, с помощью этой лестницы, я взлезу на галерею и проберусь в церковь.
– Дельно, малыш. Только дай мне взобраться первому.
– Не-ет, товарищ! Ведь мысль эта принадлежит мне. Вы можете влезать вторым.
– С ума ты сошел! – воскликнул недовольным голосом Клопен. – Я не желаю быть вторым!
– В таком случае, Клопен, сам поищи лестницу. И Жан пустился бежать по площади со своей лестницей, крича:
– За мною, друзья!..
В одну минуту лестница была поднята и прислонена к перилам нижней галереи, над одною из боковых дверей. Толпа разбойников, с громкими кликами, толпилась внизу, желая подняться по ней. Но Жан энергически отстаивал свои права и первым сталь взбираться на нее. Восхождение это продолжалось довольно долго. Галерея французских королей находится в настоящее время футов на шестьдесят над главным крыльцом, а одиннадцать ступенек крыльца еще более возвышали ее. Жан поднимался довольно медленно, так как ему мешало тяжелое вооружение его, одной рукой придерживаясь за перекладины лестницы, а в другой держа свой самострел. Поднявшись приблизительно до половины лестницы, он окинул меланхолическим взором несчастных убитых, трупы которых лежали распростертыми на ступеньках подъезда.
– Увы! – проговорил он про себя: – вот груда трупов, достойная пятой песни «Илиады». – И затем он продолжал подниматься, а несколько других разбойников следовали за ним. На каждой из ступенек было их по одному. При виде снизу, в потемках, этой волнообразной линии покрытых кольчугами спин, можно было бы подумать, что видишь змею со стальной чешуей, ползущую на церковь, а иллюзию эту довершал Жан, поднимавшийся, посвистывая, впереди всех.
Наконец, школяр наш добрался до балюстрады галереи и без особого труда перелез через нее при Громких рукоплесканиях всей толпы. Овладев таким образом неприступной цитаделью, он испустил было радостный крик, но тотчас же остановился, как окаменелый: он только что заметил, позади статуи одного из королей, Квазимодо, спрятавшегося в потемках, и глаз которого сверкал. Прежде, чем следующий штурмующий мог ступить на галерею, страшный горбун подскочил к лестнице, не произнося ни единого слова, схватил верхний конец ее своими мощными руками, оттолкнул его от стены, раскачал ее, при криках ужаса занимавших лестницу разбойников, и затем, с сверхъестественной силой, швырнул длинную, усеянную людьми лестницу на средину площади. Наступил такой момент, когда даже наиболее решительные вздрогнули. Оттолкнутая назад лестница стояла одну секунду прямо, как-бы колеблясь, затем зашаталась на месте, й, наконец, описав страшную дугу, радиус которой составлял не менее 80 футов, грохнулась на мостовую с своим грузом разбойников, и все это совершилось с большей быстротой, чем с какою опускается подъемный мост, цепи которого лопнули. Раздался страшный вопль, затем все факелы разом погасли, и несколько несчастных искалеченных стали выползать из-под груды мертвецов.
Крики отчаяния и боли сменили в рядах осаждающих первые возгласы торжества, а тем временем Квазимодо, невозмутимый, опершись обоими локтями на решетку, смотрел на то, что происходило у ног его, напоминая собою старого, косматого владетеля замка, смотрящего с высоты своей башни на отраженный неприятельский приступ.
Жан Фролло оказался в очень критическом положении: он очутился на галерее один, отделенный от своих товарищей совершенно вертикальной стеной в 80 футов вышины, с глазу-на-глаз с страшным звонарем. Однако, он не растерялся и, пока Квазимодо занят был лестницей, кинулся было к двери, ведущей на лестницу колокольни, в надежде найти ее открытой. Но он ошибся: звонарь, взойдя на галерею, запер ее за собою. Тогда Жан спрятался за каменную статую одного из королей, не смея перевести дыхание, устремив на чудовищного горбуна растерянный взор и напоминая собою того человека, который, ухаживая за женою одного сторожа при зверинце, однажды вечером отправился на любовное свидание, но перелез не через тот забор и вдруг очутился лицом к лицу с белым медведем.
В первые минуты глухой не обратил на него внимания; но, наконец, он обернулся и выпрямился, заметив забравшегося за статую школяра. Жан ожидал, что звонарь сейчас же ринется на него, но тот оставался неподвижен, уставив свой единственный глаз на молодого сорванца.
– Ну, чего ты так уставил на меня свой кривой глаз? – спросил Жан и вместе с тем стал направлять на Квазимодо свой самострел. – А вот, Квазимодо, – воскликнул он, – я сейчас изменю твое прозвище: теперь тебя уже не будут называть кривым, а слепым.
Он выстрелил. Крылатая стрела, просвистев на воздухе, вонзилась в левую руку горбуна. Но Квазимодо не обратил на нее большого внимания, чем на простую царапину. Он вытащил правой рукой стрелу из своей левой руки и спокойно переломил ее о колено. Затем он скорее уронил, чем бросил на каменный пол обломки ее. Жан не успел выстрелить во второй раз: разломав стрелу, Квазимодо засопел, подпрыгнул, точно сверчок, и ринулся на школяра, кольчуга которого сразу расплюснулась об стену. И затем среди царившего на галерее полумрака, при тусклом свете факелов, разыгралась страшная сцена.
Квазимодо левой рукою схватил Жана за обе руки; последний даже не старался отбиваться: до того он сознавал себя погибшим. Правой же рукой он стал снимать одну за другою, молча, с страшной методичностью, все принадлежности его вооружения – меч, кинжал, шлем, латы, наручники, очень напоминая собою обезьяну, очищающую орех. Квазимодо бросил на пол, один за другим, куски железной скорлупы школяра.
Когда Жан увидел себя обезоруженным, раздетым, слабым, полунагим в этих страшных руках, он даже и не пытался говорить с этим глухарем, а начал смеяться ему в лицо и принялся напевать, с беззаботной смелостью 16-ти летнего мальчика, довольно популярную в то время песенку, начинавшуюся словами: «Порядком таки ощипан город Камбрэ. Его ограбил Марафен».
Но Квазимодо не дал ему докончить песни. Секунду спустя снизу можно было видеть, как звонарь, стоя на галерее, держал одною рукою школяра за обе ноги и размахивал им над пропастью, точно пращою. Затем раздался какой-то глухой звук, точно от ящика с костями, ударившегося об стену, и сверху полетело что-то остановившееся приблизительно на одной трети высоты колокольни, зацепившись за один из выступов ее: на стене остался висеть бездыханный труп, с размозженным черепом, с переломанными членами, перегнувшийся как-то пополам.
Крик ужаса раздался среди разбойников.
– Мщение! – вопил Клопен.
– Разнести церковь! – вторила ему толпа. – На приступ, на приступ!
И затем раздался невообразимый гам, в котором слились всевозможные наречия, жаргоны, произношения.
Смерть бедного школяра озлобила эту толпу. К тому же ей стало стыдно за то, что ее так долго задерживает перед церковью какой-то горбун. Она разыскала новые лестницы, зажгла факелы, и по прошествии нескольких минут растерянный Квазимодо увидел этот ужасный муравейник ползущим по всем стенам собора. Те, которым не хватило лестниц, взлезали по веревкам с узлами, те у которых не было веревок, с узлами карабкались, цепляясь за статуи и за полы лиц, бывших впереди. Не было никакой возможности противостоять этому все выше и выше поднимавшемуся приливу страшных физиономий. Ярость заставляла сверкать глаза этих свирепых лиц, на загорелых лицах выступил пот, и все это ползло прямо на Квазимодо. Точно какой-то другой мир чудовищ выслал против стоявших на галерее собора чудовищ свою безобразную рать, и последняя затопляла первые.
Тем временем папертная площадка осветилась огнями тысячей факелов. Эта беспорядочная сцена, до сих пор окутанная глубоким мраком, вдруг озарилась ярким пламенем. Вся площадка горела огнями, отражавшимися красным заревом на небе. Костер, разведенный на верхней площадке, также продолжал гореть и освещал город на далекое расстояние, причем громадные силуэты обеих колоколен, возвышавшихся над парижскими стенами, выделялись на этом ярком фоне двумя громадными тенями. Теперь, казалось, и город обратил внимание на то, что происходило возле собора, – по крайней мере, издали доносился гул набата. Разбойники, запыхавшись и ругаясь, продолжали лезть кверху, и Квазимодо, сознавая свое бессилие против такого превосходства сил, дрожал за цыганку при виде этих разъяренных физиономий, все ближе и ближе приближающихся к галерее, просил у неба какого-либо чуда и в отчаянии ломал себе руки.
Читатель, быть может, не забыл, что за минуту перед тем, как он увидел банду разбойников, Квазимодо, оглядывая Париж с высоты своей колокольни, заметил во всем городе только один огонек, блестевший в одном из окон самого верхнего этажа высокого и темного здания, возвышавшегося рядом с Сент-Антуанскими воротами. Здание это – была Бастилия; огонек этот – была свеча Людовика XI.
Действительно, король Людовик XI уже в течение двух дней был в Париже, и через два дня он снова собирался уезжать в свой укрепленный замок Монтиль-Летур. Он, вообще, появлялся в своем добром городе Париже лишь изредка и притом на короткое время, не чувствуя здесь вокруг себя достаточного количества опускных дверей, виселиц и шотландских стрелков.
Эту ночь он решился переночевать в Бастилии. Большая комната в тридцать квадратных футов, которая служила ему спальней в Луврском дворце, со своим большим камином, уставленным двенадцатью фигурами зверей и тридцатью статуями пророков, и его большая кровать в 11 футов длины – были не по нему. Он терялся во всем этом великолепии. Этот король-мещанин предпочитал Бастилию, с ее небольшой рабочей комнатой и небольшой кушеткой. И к тому же Бастилия была лучше укреплена, чем Лувр.
Эта «комнатка», которую выбрал себе король в знаменитой темнице, была, впрочем, довольно обширна и занимала самый верхний этаж в башне замка. Она имела круглую форму, стены ее были увешаны чем-то вроде половиков из блестящей соломы, балки на потолке были украшены оловянными, позолоченными лилиями, пролеты между балками были выкрашены яркой краской и обшиты деревянными, усеянными розетками из белой жести, панелями, украшенными ярко-зеленой краской, составленной из аурипигмента и индиго.
Комната эта имела только одно стрельчатой формы высокое и узкое окно, переплетенное проволокой и снабженное железными полосками. Но сквозь него проходило мало света, так как цветные стекла были затемнены гербами короля и королевы, по 22 су каждое. Она имела один только вход, в виде невысокой, полукруглой двери, обитой внутри материей, а снаружи ирландским деревом, и представлявшей собою одну из тех нежных и искусно сделанных столярных работ, которые можно было еще встретить в старинных домах лет полтораста тому назад. «Хотя они обезображивают и загромождают строение, – говорит об них Соваль с некоторым отчаянием, – однако, старики наши не желают расстаться с ними и сохраняют их ко всеобщей досаде».
В этой комнате нельзя было найти никаких принадлежностей меблировки обыкновенной комнаты, – ни скамеек, ни табуреток, ни столов, круглых или четырехугольных, ни красивых налоев для молитвы, поддерживаемых точеными колонками. В ней обращало на себя внимание только складное кресло с ручками, чрезвычайно изящной работы. По деревянной спинке его были выведены розы на красном фоне, сиденье было обтянуто алой, кордовской кожей, обито длинною шелковою бахромой, прикрепленной множеством позолоченных гвоздиков. В комнате этой не было иного кресла, кроме этого, из чего можно было заключить, что одна только особа имела право сидеть в этой комнате. Между креслом и окном стоял стол, покрытый ковром, на фоне которого изображены были птицы. На этом столе лежали: кожаный бювар, забрызганный чернильными пятнами, несколько пергаментов, несколько перьев и серебряная с чернью стопа. Несколько подальше – небольшая чугунная печка, очень простой налой для молитвы и, наконец, в глубине комнаты – простая кровать, покрытая желто-красным парчовым одеялом, без позументов и бахромы, с круглыми изголовьями. Эту самую историческую кровать, навевавшую на Людовика XI сон или бессонницу, можно было видеть не более двухсот лет тому назад у одного члена государственного совета, у которого ее видела старуха госпожа Пилу, известная в «Кире» под именем «Живой морали».
Такова была комната, называвшаяся «молельной короля Людовика XI».
В ту минуту, когда мы ввели читателя в это помещение, оно было совершенно темно. Уже с час, как подан был сигнал о тушении огней, и в большой комнате стояла только одна восковая свеча, колеблющийся свет которой освещал пять человек, находившихся здесь в это время.
Первый, который стоял ближе всего к свече, был, очевидно, весьма важный господин; на нем были надеты полосатые, красные с серебром, верхнее и исподнее платья и черный, с золотыми разводами, дорожный плащ. Этот блестящий костюм, на котором играли лучи света, блистал по всем швам. На груди верхнего платья был вышит яркими красками герб, – две широкие полосы, составлявшие угол, справа от них – масличная ветвь, а слева – олень. На поясе у него висела богатая шпага, рукоятка которой была вычеканена в форме двух переплетенных страусовых перьев, с графской короной наверху. Он держал голову высоко и имел гордый и недовольный вид. При первом взгляде на него в глаза бросалась надменность, при втором – хитрость.
Он стоял с непокрытой головой, держа в руке какой-то длинный пергамент, за высоким креслом, на котором сидел, как то некрасиво перегнувшись пополам, заложив ногу на ногу и опершись локтями о стол, человек, довольно небрежно одетый. Действительно, пусть читатель представит себе на богатом кресле из испанской кожи две угловатые коленные чашки, два худощавых бедра, облеченные в довольно грубое, черное трико, туловище, которое облекала какая-то бумазейная блуза, обшитая по краям потертым мехом, и, наконец, старая, засаленная, черная суконная шапка, обшитая шнурком со свинцовыми бляхами. Если к этому прибавить еще ермолку, из-под которой не торчало ни единого волоску, то читатель составит себе довольно верное понятие о наружности, сидевшей на кресле личности. Голова его до того низко была опущена на грудь, что изо всего лица его виден был только кончик носа, на который падал луч света и который, по-видимому, был очень длинен. По его худощавой, морщинистой руке можно было догадаться, что это был старик. Человек этот был Людовик XI.
На некотором расстоянии позади них разговаривали вполголоса два человека, одетые в костюмы фламандского покроя, на которых падало как раз столько света, что тот, кто присутствовал при представлении мистерии Гренгуара, не мог бы не узнать в них двух главных фламандских послов: Вильгельма Рима, рассудительного Гентского бургомистра, и Якова Коппеноля, популярного чулочника. Читатель, быть может, помнит, что оба эти лица были посвящены в тайны политики Людовика XI.
Наконец, в глубине комнаты, возле самой двери, стоял в полутьме, неподвижный, как статуя, небольшого роста, но коренастый человек, в военном костюме, с гербом на плаще, плоское лицо которого, с глазами навыкате, с огромным ртом, с ушами, почти совершенно закрытыми двумя длинными наушниками, и с узким лбом, напоминало собою одновременно лицо и собаки, и тигра.
Все эти четыре лица, за исключением короля, стояли. Важное лицо, стоявшее ближе всего к королю, читало ему что-то вроде длинной записки и его величество, казалось, внимательно следил за чтением. Оба фламандца переговаривались между собою вполголоса.
– Однако, – ворчал Коппеноль, – я таки устал стоять. Неужели здесь нет ни одного стула?
Рим ответил отрицательным жестом и полуулыбкой.
– Ей-Богу, – продолжал Коппеноль, очень недовольный тем, что ему приходится так понижать свой зычный от природы голос: – меня разбирает охота присесть на пол, с подобранными под себя ногами, как я делаю это в своей мастерской, подобно всем чулочникам.
– Что это вы вздумали, Господь с вами, господин Коппеноль!
– Так неужели же, господин Рим, в этой стране полагается только стоять на ногах?
– Да, на ногах, или, пожалуй, и на коленах, – ответил Рим.
В это самое время король возвысил голос, и они оба поспешили замолчать.
– Итак, пятьдесят су за ливреи для наших лакеев и двенадцать ливров для плащей чиновников нашего двора! Так, так! Бросайте золото пригоршнями! Да вы с ума сошли, что ли, Олливье?
И с этими словами старик приподнял голову, причем на шее его блеснула золотая цепь ордена св. Михаила, а свет восковой свечи ярко озарил его худое и недовольное лицо.
– Вы разоряете нас! – продолжал он, вырывая бумаги из рук своего собеседника и водя по ним своими впалыми глазами. – К чему все это? На что нам такая роскошь? Два придворных каплана, с окладом по десяти ливров в месяц каждому, и один причетник, с окладом в сто су! Камер-лакей, с окладом в девяносто ливров в год! Четыре мундкоха, с жалованьем по 26 ливров! Один дворецкий, один огородник, один повар, один помощник повара, один ключник, два лакея – по десяти ливров в месяц каждому! Два кухонных мальчика по восьми ливров! Один конюх и два его помощника по 24 ливра! Носильщик, пирожник, булочник, два кучера – по 60 ливров в год каждому! И кузнец – 26 ливров, и казначей – 120 ливров, и контролер – 500 ливров! И Бог знает что еще! Да это просто безумие! Да платить такие оклады, значит, разорить всю Францию! Да все собранные в Лувре слитки расплавятся на таком сильном огне! Да их и не хватит, и нам придется еще продать нашу посуду, и в будущем году, если Господь Бог и Пресвятая Богородица дадут нам века (при этих словах он приподнял свою шляпу), нам придется пить из оловянных кружек!
Произнося эти слова, он бросил взор на серебряную стопу, стоявшую на столе, откашлялся и продолжал:
– Да, господин Олливье, крупные владетельные особы, как, например, короли и императоры, не должны допускать роскоши при своих дворах, ибо отсюда она распространится и по всей стране. Заруби себе это на носу, Олливье! Расходы наши растут с каждым днем, и это нам очень не нравится. На что же это, в самом деле, похоже? До 1479 года они не превышали 36,000 ливров. В 1480 году они достигли цифры 43,619 ливров, – я хорошо запомнил эту цифру, – в 1481 году – 66,680 ливров, а в нынешнем году цифра эта, пожалуй, дойдет до 80,000 ливров. Значит, она в какие-нибудь четыре года удвоилась! Это просто ужасно!
Он остановился, отдуваясь, и затем с жаром продолжал:
– Я вижу вокруг себя только людей, жиреющих на счет моей худобы. Вы высасываете у меня деньги через все поры моего тела!
Все молчали, сознавая, что нужно дать этому гневу свободно излиться. Затем король продолжал:
– А тут еще штаты Иль-де-Франса обращаются к нам с просьбой на латинском языке, требуя, чтобы мы восстановили то, что они называют расходами, принимаемыми на себя казной. Милое требование, нечего сказать! Да ведь эти расходы могут истощить нашу казну! А-а, господа бароны! Вы уверяете, что мы – не король! Мы покажем вам, король ли мы, или нет!
При этих словах он улыбнулся, в сознании своего могущества; при этом ему на душе стало легче, и он обернулся к фламандцам со следующими словами:
– Вот что я вам скажу, господин Рим: – все эти главные хлебодары, главные кравчие, обер-камергеры и сенешалы не стоят самого последнего моего лакея. Запомните это хорошенько, господин Коппеноль: они ровно ничего не стоят. Эти четыре высших придворных чина, без всякого смысла и толка торчащих вокруг короля, напоминают мне те четыре фигуры, которые стоят по сторонам больших часов в здании суда и которые Филипп Бриль только что обновил. Хотя они и позолочены, но они ни причем в часовом механизме, и последний мог бы отлично обойтись и без них.
Он на минуту задумался и прибавил, покачивая своею старою головою:
– Нет, слуга покорный, я не последую примеру Филиппа Бриля, я не позолочу старых вассалов. Продолжай, Олливье!
Лицо, к которому он обратился, взяло тетрадь из его рук, и снова принялся читать вслух:
«Адаму Тенону, состоящему при хранителе печатей, за выгравирование печатей города Парижа и за употребленный на это материал, в виду полной негодности старых, уже совершенно стершихся, – двенадцать парижских ливров.
Гильому Фреру – четыре ливра четыре парижских су за присмотр и за прокормление голубей в двух голубятнях Турнельских башен в течение января, февраля и марта нынешнего года, на что им израсходовано семь мер ячменя.
Францисканскому монаху за исповедь одного преступника – четыре парижских су».
Король слушал молча, по временам покашливая, поднося к губам стопу, отпивая из нее глоток и делая при этом гримасу.
«В истекшем году, по распоряжению суда, на улицах Парижа прочитано было при звуке труб пятьдесят шесть объявлений. По счетам этим еще предстоит уплатить.
За рытие земли, как в Париже, так и в других местах, для отыскания якобы зарытых кладов, причем, однако, ничего не найдено, – сорок пять парижских ливров».
– Это значит зарыть экю для того, чтобы найти су, – заметил король.
«За вставку в Турнельской башне шести белых стекол в железной клетке – 13 су. За изготовление, по повелению короля, ко дню тезоименитства его величества, четырех щитов с королевскими гербами, обвитых розами, – шесть ливров. За два новых рукава к старому камзолу короля – 20 су. За коробку жира для смазывания сапог короля – 15 сантимов. За постройку нового хлева для черных поросят короля – 30 парижских ливров. За постройку сарая для помещения королевских львов – 22 ливра».
– Дорогонько-таки! – заметил Людовик XI. – Впрочем, что ж делать? Нельзя же королю обойтись без львов! К тому же в числе их есть большой, рыжий лев, штуки которого мне очень нравятся. Видели ли вы его, господин Гильом? У вашего брата, короля, львы заменяют собак, а тигры – кошек. Большому кораблю – большое и плавание. В языческие времена, когда народ приносил Юпитеру гекатомбы, состоявшие из ста быков и ста баранов, цари приносили ему в жертву сто орлов. Это было очень дико, но все же красиво. Короли Франции всегда любили слышать рев этих зверей вокруг своего трона. Надеюсь, что мне отдадут, по крайней мере, справедливость в том, что я все же расходую меньше денег, чем они, и что у меня не особенно много львов и медведей, слонов и барсов. Продолжайте, Олливье! Я только желал обратить на это внимание наших друзей-фламандцев.
Вильгельм Рим низко поклонился, между тем, как Коппеноль своим насупившимся видом очень напоминал собою одного из тех медведей, о которых говорил король. Но король этого не заметил, ибо он только что снова приложился губами к стопе и проговорил, отплевываясь:
– Фу! Какое отвратительное пойло!
Чтец продолжал:
– «За прокорм одного бездельника, содержащегося в тюрьме в течение шести месяцев в ожидании решения своей участи, – 6 ливров 4 су».
– Это еще что такое! – воскликнул король. – Кормить того, кого следует повесить! Черт побери! Я не дам больше ни единого су на прокорм его! Переговорите об этом, Олливье, с господином д’Эстетувиллем, и не угодно ли будет последнему сегодня же приступить к приготовлениям для обвенчания этого молодца с виселицей. Продолжайте!
Олливье сделал ногтем отметку против статьи «за прокорм бездельника» и продолжал:
«Анри Кузену, главному парижскому палачу, шестьдесят парижских су, по распоряжению г. парижского судьи, за купленный им, вследствие приказания означенного судьи, широкий меч для обезглавливания лиц, присужденных к смерти за свои злодеяния, а также за ножны к нему, и за починку старого меча, зазубрившегося во время исполнения казни над графом Людовиком Нюксенбургским»…
– Довольно! – перебил его король. – С величайшей охотой утверждаю эту статью. За такого рода расходами я не стою. Употребленных па этот предмет денег мне никогда не жаль. Дальше!
«За сделанную новую большую клетку»…
– Ага! – воскликнул король, оживившись и хватаясь руками за ручки кресла, – я знал, что приехал в Бастилию недаром. Погодите немного, Олливье! Я желаю взглянуть на эту клетку, а вы, во время осмотра, сообщите мне, сколько она стоит. – Господа фламандцы, не угодно ли посмотреть? Это очень любопытно!
И затем он встал, оперся на руку своего собеседника, знаком приказал стоявшему у дверей в полнейшем безмолвии человеку идти впереди него, а обоим фламандцам – следовать за ним, и вышел из комнаты. Кортеж этот увеличился еще при выходе из двери вооруженными людьми, закованными в железо, и несколькими пажами, освещавшими им путь. Они шли некоторое время по разным лестницам и коридорам, среди высоких и толстых стен, причем комендант Бастилии, шедший впереди всех, велел открыть двери перед старым и больным королем, который все время сильно кашлял. Перед всякою низкою дверью все принуждены были нагибать головы, за исключением короля, согбенного от старости.
– Гм, гм, – шамкал он своим беззубым ртом, – этаким образом, мне, кажется, не трудно будет пройти и в могильную дверь.
Наконец, войдя в последнюю дверь, до того загроможденную замками, что понадобилось целых пятнадцать минут для того, чтобы отпереть ее, они вошли в обширную, высокую залу с стрельчатыми окнами, в средине которой, при свете факелов, можно было различить какой-то громадный куб, сделанный из камня, из железа и из дерева, и внутренность которого была пуста. Это была одна из предназначавшихся для государственных узников клеток, которые прозвали «дочурками короля». В стенках ее были проделаны два или три окошечка, до такой степени переплетенных толстыми железными полосами, что из-за них совсем не видно было стекла. Дверь заменяла большая каменная плита, в роде тех, что кладутся на могилы. В эти двери можно было только входить, но не выходить из них; только здесь место мертвеца занимал живой человек.
Людовик XI стал медленно расхаживать вокруг этого сооружения, внимательно разглядывая его, между тем, как Олливье читал ему вслух:
«За сделанную вновь большую клетку из толстых бревен, решетин и лежней, девяти футов длины, восьми ширины и семи вышины, обитую толстым листовым железом, в каковой клетке, находящейся в одной из башен Сент-Антуанской Бастилии, заключен и содержится, по повелению всемилостивейшего короля нашего, узник, обитавший прежде старую и полуразвалившуюся клетку. На означенную новую клетку пошли: 96 лежачих бревен и 52 стоячих бревна и десять лежней, по 18 футов длины каждый, а для обтески, обстругания и приложения всех означенных бревен на дворе Бастилии, в течение двадцати дней…»
– Недурной дуб, – заметил король, стукая кулаком по бревнам.
«…На означенную клетку далее пошло, – продолжал чтец: – 220 железных полос, по девяти и по восьми футов длины, не считая полос менее длинных, не считая обручей, решеток и скреплений, – всего же пошло железа три тысячи семьсот тридцать пять футов; кроме того, употреблено восемь больших железных колец на прикрепление означенной клетки, да железных скоб и гвоздей, весом всего 218 фунтов чистого железа, да еще железных полос для обшивки дверей и окон той комнаты, в которой помещена клетка, да других железных поделок…»







