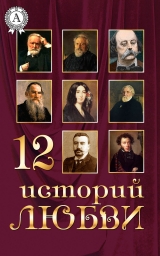
Текст книги "12 историй о любви"
Автор книги: Коллектив авторов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 294 страниц) [доступный отрывок для чтения: 104 страниц]
Клопен Трульефу, хотя и сидевший на троне, сохранил все свои лохмотья, но только безобразная язва на руке его исчезла. В руках он держал плетку сыромятных ремней, в роде тех, которые употребляли в то время городские стражники для того, чтобы разгонять толпу; на голове его было что-то круглое, закрытое наверху; но трудно было различить, была ли то детская шапочка или корона, – до того оно походило и на то, и на другое.
Узнав в короле Двора чудес нищего из большой залы Дворца, Гренгуар, сам не зная почему, приободрился.
– Мэтр… – пробормотал он. – Монсеньор… Сир… Как вас прикажете величать? – вымолвил он, наконец, достигнув постепенно высших титулов и не зная, вознести его еще выше или же спустить с этих высот.
– Величай меня, как угодно, – монсеньор, ваше величество или приятель. Только не мямли. Что ты можешь сказать в свое оправдание?
«В свое оправдание? – подумал Гренгуар. – Плохо дело».
– Я тот самый, который нынче утром… – запинаясь, начал он.
– Клянусь когтями дьявола, – перебил его Клопен, – назови свое имя, прощелыга, и все! Слушай. Ты находишься в присутствии трех могущественных властелинов: меня, Клопена Труйльфу, короля Алтынного, преемника великого кесаря, верховного властителя королевства Арго; Матиаса Гуниади Спикали, герцога египетского и цыганского, – вон того желтолицого старика, у которого голова обвязана тряпкой, – и Гильома Руссо, императора Галилеи, – того толстяка, который нас не слушает и обнимает потаскуху. Мы твои судьи. Ты проник в царство Арго, не будучи его подданным, ты преступил законы нашего города. Если ты не деловой парень, не христарадник или погорелец, что на наречии порядочных людей значит вор, нищий или бродяга, то должен понести за это наказание. Кто ты такой? Оправдывайся! Скажи свое звание.
– Увы! – ответил Гренгуар. – Я не имею чести состоять в их рядах. Я автор…
– Довольно! – не дав ему договорить, отрезал Труйльфу. – Ты будешь повешен. Это очень несложно, достопочтенные граждане! Как вы обращаетесь с нами, когда мы попадаем в ваши руки, так и мы обращаемся с вами здесь у себя. Закон, применяемый вами к бродягам, бродяги применяют к вам. Если он жесток, то это ваша вина. Ведь нужно же, чтобы по временам из-за пенькового ошейника выглядывала рожа честного человека: это делает означенный ошейник более почетным. Ну, приятель, так раздай поскорее твои лохмотья вон тем барышням. Я велю вздернуть тебя для того, чтобы доставить удовольствие нашим ребятам, а ты пока дай им свой кошелек: по крайней мере, им будет на что выпить. Если ты желаешь совершить то, что у вас там называется помолиться Богу, то ступай вон в ту будочку; там ты как раз найдешь аналой, недавно украденный нами вместе с другими вещами из какой то церкви. Тебе дается четыре минуты срока.
Речь эта была весьма неуспокоительного свойства.
– Молодец, Клопен Трульефу, ей-Богу молодец! Такой проповеди не сумел бы произнести и сам святой отец-папа! – воскликнул царь Галилеи, от восторга разбив свою кружку об стол.
Господа короли и владыки! – спокойно начал Гренгуар (ибо, неизвестно каким образом, к нему вернулось его хладнокровие, и он говорил совершенно твердым голосом), – вы, по-видимому, жестоко ошибаетесь. Мое имя Пьер Гренгуар. Я поэт, автор той самой мистерии, которую представляли сегодня утром в Большой Зале суда.
– А, так это ты! – произнес Клопен, – Как же! Как же. Я сам был там сегодня. Но вот что, товарищ! Неужели ж из-за того, что ты таки порядком надоел нам сегодня утром, нам не повесить тебя сегодня вечером? А, как ты думаешь?!
«Дело дрянь», – подумал Гренгуар, однако, решился сделать еще одно усилие.
– Я не понимаю, – продолжал он, – почему поэтов не зачисляют в вашу почтенную корпорацию. Ведь был же Эзоп бродягой, Гомер – нищим, Меркурий – богом воровства…
– Ну, что ты нам еще мелешь! – перебил его Клопен. – Ступай-ка на виселицу, да и дело с концом!
Однако, позвольте, ваша светлость, – возразил Гренгуар, решившись отстаивать свою жизнь шаг за шагом. – Дело стоит того, чтобы поговорить… Подождите… одну минуточку. Ведь не захотите же вы повесить меня, не выслушав.
Голос несчастного действительно покрывался происходившим вокруг него шумом. Малыш стучал в свой котел с большим остервенением, чем когда либо; а в довершение всего какая-то старуха только что поставила на треножник какой то горшок, наполненный салом, шипевшим, трещавшим и чадившим немилосердно.
Клопен Трульефу счел, однако, нужным посоветоваться с герцогом египетским и властителем Галилеи, из которых последний был мертвецки пьян. Затем он закричал: «тише!» – а так как пустой котел и горшок с салом не слушались его и продолжали свой дуэт, то он соскочил с бочки, пихнул ногой котел, откатившийся шагов на десять вместе с ребенком, другой ногой ткнул горшок с салом, которое полилось в огонь, и преважно снова уселся на своем троне, ни мало не заботясь ни о плаче ребенка, ни о сдержанном ворчании старухи, столь неожиданным образом лишившейся своего ужина.
По знаку, поданному Клопеном, все должностные лица этого оригинального государства стали вокруг него в форме подковы, центр которой занимал Гренгуар, собиравшийся отстаивать свою шкуру. Это было какое-то полукружие, составленное из лохмотьев, отрепья, мишуры, вил, топоров, спотыкающихся ног, толстых оголенных рук, бессмысленных, потухших, идиотских физиономий. И посреди всего этого сборища Клопен Трульефу, точно председатель этого синклита, точно царь этих подданных, выдавался, во-первых, с высоты своей бочки, а, во-вторых, каким-то надменным, свирепым и страшным видом, диким блеском глаз, служившим как бы противовесом его зверской физиономии: точно кабанья голова среди свиных рыл.
– Послушай, – обратился он к Гренгуару, поглаживая свой безобразный подбородок мозолистой рукой своей: – я не вижу причины, почему бы тебе не быть вздернутым. Правда, что тебе это, по-видимому, не особенно нравится, но оно и понятно: ведь вы, честные люди, не привыкли к этому. Вы составляете себе об этой операции какое-то преувеличенное понятие. Но, в конце концов, ведь мы не желаем тебе зла. И если ты желаешь избавиться от этой неприятности, то я предложу тебе очень простое средство: приставай к нам.
Можно представить себе впечатление, которое это предложение произвело на Гренгуара; он уже считал себя человеком отпетым, и вдруг ему блеснул луч надежды. Он с жадностью ухватился за эту надежду.
– Отчего же, с удовольствием, – ответил он.
– Ты соглашаешься – продолжал Клопен: – поступить в ряды мелких мазуриков?
– Мелких мазуриков, именно, – ответил Гренгуар.
– Ты признаешь себя членом общины вольных художников?
– Да, общины вольных художников.
– Подданным нашего царства?
– Да, вашего царства.
– Бродягой?
– Бродягой.
– От всей души?
– От всей души.
– Но я должен тебе заметить, что, тем не менее, тебя все-таки повесят, – заметил король.
– Вот тебе на! – мог только произнести поэт.
– С тою только разницей, – невозмутимо продолжал Клопен, – что ты будешь повешен позднее, с большими церемониями, на счет доброго города Парижа, на красивой каменной виселице и честными людьми. Все же утешение!
– Совершенно правильно изволили заметить, – ответил Гренгуар.
– Тут тебе представляются еще и другие выгоды. В качестве «свободного гражданина», тебе не придется платить ни за очистку и освещение улиц, ни в пользу бедных, что обязаны делать прочие парижские граждане.
– Пусть будет по-вашему, – проговорил поэт, – я согласен. Я готов сделаться бродягой, карманником, «свободным гражданином», – всем, чем вам угодно. Я вам скажу даже, что я уже был всем этим и раньше, ибо я философ; а, как вам известно, все и вся заключается в философии.
– За кого ты меня принимаешь, приятель? – проговорил Трульефу, наморщив брови. – Что ты там мелешь тарабарщину! Я не понимаю по-еврейски, да это и совершенно излишне в нашем ремесле. Я даже уже не ворую, – поднимай выше, – я убиваю. Я убийца, а не карманник! Понял?
Гренгуар пытался вставить несколько извинений среди этих фраз, произнесенных сердитым, отрывистым голосом.
– Извините, ваша светлость, – пробормотал он, – это не по-еврейски, а по-латыни.
– Говорю тебе, – воскликнул Клопен, все более и более горячась, – что я не жид, и что я велю тебя повесить, чертов еврей, вместе с тем жалким жиденком-торгашем, который стоит вон там возле тебя, и которого я надеюсь когда-нибудь видеть болтающимся на виселице, с повешенными ему же на шею фальшивыми монетами, которые он сам фабрикует.
И с этими словами он ткнул пальцем по направлению к маленькому, бородатому венгерскому еврею, который незадолго перед тем обращался к Гренгуару по-латыни со словами: «сотворите милостыню», и который, не понимая французского языка, с недоумением относился к обращенному на него гневу сердитого владыки.
Впрочем, мало-помалу Клопен успокоился и обратился к нашему поэту со словами:
– Так ты говоришь, бездельник, что желаешь пристать к нам?
– Без сомнения! – ответил поэт.
– Но ведь недостаточно хотеть, – проговорил сердитый Клопен. – Из доброго желания шубы себе не сошьешь, и оно годится разве на то, чтобы попасть в рай; а рай и воровство – это две вещи совершенно различные. Для того, чтоб иметь честь быть принятым в нашу среду, ты должен, прежде всего, доказать, что ты на что-нибудь годен. Вот обшарь-ка это чучело.
Я обшарю все, что вам будет угодно… – ответил Г ренгуар.
По сделанному Клопеном знаку, несколько мазуриков отделились от толпы и возвратились минуту спустя, таща за собою два столба, на нижнем конце которых были приделаны две лопаточки, при помощи которых они получали устойчивость, будучи поставлены на землю. На верхние концы они положили поперечный брус и таким образом соорудили премиленькую переносную виселицу, которая, к удовольствию Гренгуара, оказалась готовой в одно мгновение. В ней ничего не недоставало, и даже веревка грациозно болталась под верхней перекладиной.
– К чему они все это мастерят! – спрашивал сам себя Гренгуар не без некоторого беспокойства. Но звук каких-то бубенчиков тотчас же отвлек его внимание в другую сторону. Оказалось, что к веревке подвешивали за шею чучело, что-то вроде птичьего пугала, одетое в красное и до того увешанное бубенцами и колокольчиками, что ими можно было бы убрать не менее тридцати испанских мулов. Все эти бубенцы и колокольчики звенели до тех пор, пока не прекратились колебания веревки.
Затем Клопен, указав Гренгуару на старую, не особенно устойчивую скамейку, поставленную под чучелом, сказал ему:
– Взлезай сюда!
– Однако, – осмелился заметить Гренгуар: – я ведь могу свернуть себе шею. Ваша скамейка хромает, как двустишие Марциала. У нее одна ножка – гекзаметрическая, а другая – пентаметрическая.
– Полезай! – прикрикнул на него Клопен.
Гренгуар встал на скамейку, нему, наконец, удалось, конечно, не без больших усилий, установить на ней равновесие свое.
– Теперь, – продолжал Трульефу, – закинь свою правую ногу за левую и встань на носок левой ноги.
– Сударь, – сказал Гренгуар, – так вам непременно желательно, чтобы я сломал себе шею?
– Послушай, приятель, – сказал Клопен, пожав плечами, – ты положительно слишком много болтаешь. Я тебе объясню в двух словах, в чем дело. Ты, как я уже говорил тебе, встанешь на носок левой ноги и таким образом ты в состоянии будешь достать до кармана чучела; ты его обшаришь и вытащишь из него кошелек, который ты найдешь в нем; и если ты исполнишь это так, что не зазвучит ни один колокольчик, – то, значит, ты достоин сделаться карманником, и затем нам остается только хорошенько поколачивать тебя в течение всего одной недели.
– Постараюсь, черт побери! – сказал Гренгуар. – Ну, а если забренчат колокольчики?
– Тогда ты будешь повешен, понимаешь?
– Ничего не понимаю! – ответил Гренгуар.
– Слушай же еще раз. Ты обшаришь чучело и вынешь из кармана его кошелек; если во время этой операции забренчит хоть один колокольчик, ты будешь повешен. Теперь понял?
– Ну, понял, – сказал Гренгуар. – А дальше?
– А дальше, если тебе удастся вытащить кошелек, без того, чтобы задребезжал хот один колокольчик, то ты сделаешься карманником и будешь бит в течение недели. Кажется, ясно?
– Нет, ваша светлость, еще не совсем ясно. Какой же мне в том расчет: быть повешенным в одном случае и битым в другом?
– А быть принятым в корпорацию мазуриков! – воскликнул Клопен. – Разве ты этого ни во что не ставишь? Ведь мы будем бить тебя для твоей же пользы, чтобы приучить тебя к побоям.
– Премного вам благодарен! – ответил поэт.
– Ну, живо! – проговорил Клопен, топнув ногою по своей бочке так сильно, что гул пронесся по всей площади. – Обшаривай чучело, кончай! Но предупреждаю тебя, что если звякнет хоть один колокольчик, ты заступишь место чучела.
Орава мазуриков принялась рукоплескать этим словам своего набольшего и окружила виселицу с таким безжалостным хохотом, что Гренгуар ясно увидел, что все это служит им только забавой и что ему нечего ждать от них пощады. Поэтому ему не оставалось никакой надежды, кроме слабого чаяния, что ему, быть может, удастся совершить ту трудную манипуляцию, которая ему предстояла. Поэтому он решился рискнуть на нее, предварительно обратившись с горячей молитвой к тому чучелу, карманы которого ему предстояло выпотрошить, вполне основательно рассчитывая, что легче умилостивить это чучело, чем окружавших его мазуриков: при этом бесчисленные колокольчики, с их маленькими язычками, казались ему столькими же змеиными жалами, готовыми зашипеть и ужалить его.
– Неужели же, – говорил он сам себе: – жизнь моя зависит от малейшего колебания этих бубенцов! Умоляю вас, – продолжал он, сложив руки как бы для молитвы, – колокольчики, не звоните! бубенчики, не бренчите! Спасите мне жизнь!
Он решился еще в последний раз обратиться к Трульефу и спросил его:
– А если тем временем случится порыв ветра?
– Ты будешь повешен! – ответил тот, не поведя и бровью.
Убедившись в том, что ни просьбы, ни виляния ни к чему не поведут, он вооружился всем своим мужеством, закинул правую ногу за левую, поднялся на носок левой ноги и протянул руку. Но в то самое мгновение, как он прикоснулся ею к чучелу, туловище его, упиравшееся только на одну ногу, покачнулось на скамейке, стоявшей всего на трех ножках; он совершенно машинально пожелал ухватиться за чучело, потерял равновесие и тяжело грохнулся на землю, весь оглушенный злосчастным трезвоном тысячи колокольчиков и бубенцов, между тем, как чучело от полученного им толчка, сначала повернулось вокруг своей оси, а затем закачалось на виселице.
– Проклятие! – воскликнул он и, упав ничком на землю, остался лежать, как мертвец.
А между тем, он ясно слышал, как над головой его продолжался проклятый трезвон колокольчиков, к которому примешивался адский хохот мазуриков. Наконец, раздался голос Трульефу:
– Эй, приподнимите-ка с земли этого дурака и вздерните его живее!
Он встал. Чучело было уже снято с виселицы для того, чтобы очистить место для него. Его заставили взойти на скамейку. Клопен подошел к нему, самолично накинул ему петлю на шею и сказал, потрепав его по плечу.
– Ну, прощай, приятель! Теперь уже не отвертишься, хотя бы ты был и семи пядей во лбу.
Слово «пощадите!» замерло на устах Гренгуара. Он повел вокруг себя глазами; не было ни малейшей надежды: все смеялись.
– Бельвинь-де-л’Этуаль, – сказал Трульефу, обращаясь к громадного роста детине, отделившемуся от толпы: – полезай-ка на перекладину.
Бельвинь-де-л’Этуаль проворно взлез на поперечное бревно, и минуту спустя Гренгуар, подняв глаза, увидел его над своей головой скорчившимся, точно тигр, готовый ринуться на добычу.
– Теперь, – продолжал Клопен: – как только я захлопаю в ладоши, ты, Андрей Рыжий, вышибешь у него из-под ног скамейку, ты, Франсуа Шант-Прюн, потянешь молодца за ноги, а ты, Бельвинь, вскочишь к нему на плечи. Да все трое разом, понимаете ли?
Гренгуар вздрогнул.
– Ну, живо, все разом! – произнес Трульефу, обращаясь к мазурикам, готовым накинуться на свою жертву, как пауки на муху. Бедному поэту пришлось пережить страшное мгновение, ожидая, пока Клопен спокойно отпихивал ногою в костер несколько прутьев виноградной лозы, не охваченных пламенем. – Готовы? – спросил он, разведя ладонями и собираясь хлопнуть ими. Еще одна секунда – и все было бы кончено.
Но вдруг он остановился, как будто о чем-то вспомнив.
– Стой, стой! – воскликнул он: – чуть было не забыл! У нас принято не вешать человека, не осведомившись предварительно, не желает ли его взять себе какая-нибудь женщина. Приятель, вот тебе последнее средство спасения; или женись на которой-нибудь из наших, или болтайся на виселице.
Этот старинный цыганский закон, как ни странным он может показаться читателю, существует, однако, и доныне в старинном английском законодательстве, как можно убедиться из «Наблюдений Бюрингтона».
Гренгуар вздохнул свободнее: во второй раз в течение получаса перед ним появился проблеск жизни, но теперь он уже не смел слишком сильно надеяться.
Эй! – крикнул Клопен, снова взобравшись на свою бочку, – эй, бабы, девки, найдется ли между вами какая-нибудь ободранная кошка, которая пожелала бы иметь этого болвана? Эй, Коллета ла-Шаронн! Лиза Трувен! Симона Жодуин! Мария Пьедебу! Тоня Длинная! Берарда Фануэль! Микаэла Женайль! Клавдия Ронжорейль Матюрина Жирору! Эй, Изабелла Ла-Тьерри! Кто из вас желает получить даром мужчину?
Гренгуар, в своем тогдашнем жалком виде казался, конечно, очень мало лакомым куском, и поэтому все женщины выказывали очень мало охоты отозваться на предложение Трульефу. Бедняга слышал, как они восклицали наперерыв: «Нет, нет! Повесьте его! Будет, по крайней мере, удовольствие всем!»
Однако трое из женщин отделились от толпы и подошли, чтобы рассмотреть его поближе. Первая из них была толстая и дебелая женщина, с почти четырехугольным лицом. Она внимательно оглядела разорванный плащ бедного поэта и сюртук его, более дырявый, чем решето, и, скорчив гримасу, проговорила: – «Экая рвань!» Затем она продолжала, обращаясь к Гренгуару:
– Ну, покажи-ка свой капюшон!
– Я потерял его… – ответил Гренгуар.
– А свою шляпу?
– Ее отняли у меня.
– А свои башмаки?
– Увы! – в них стала уже отваливаться подошва.
– А свой кошелек?
У меня нет ни полушки.
Ну, так ступай на виселицу, да еще и поблагодари! сказала она, поворачиваясь к нему спиной.
Вторая, старуха, смуглая, сморщенная, безобразная до того, что обращала на себя внимание своим безобразием даже среди этого, далеко не изящного, общества, походила некоторое время вокруг Гренгуара, и он начинал ь уже опасаться, как бы она не изъявила на него претензии; но, наконец, она пробормотала сквозь зубы:
«Он слишком худ» – и пошла прочь.
Третья была молодая девушка, довольно свежая и небезобразная.
– Спасите меня! – шепнул ей бедняга.
Она взглянула на него с выражением сожаления, тем опустила глаза, стала мять свою юбку и несколько мгновений как будто колебалась. Он следил глазами за всеми ее движениями, это был для него последний луч надежды.
– Нет! – произнесла, наконец, молодая девушка. – Нет! Гильом Лонгжу станет бить меня. – И она снова юркнула в толпу.
– Ну, не везет же тебе, товарищ! – проговорил Клопен. Затем, встав ногами на свою бочку, он воскликнул громким голосом, подражая интонации аукциониста, что возбудило всеобщий хохот:
– Итак, никто его не желает? Никто? Раз, два, три! И затем, повернувшись к виселице и кивнув в ее сторону головой, он прибавил: – За вами осталось.
Бельвинь-де-л’Этуаль, Андрей Рыжий, Франсуа Шант-Прюн снова приблизились к Гренгуару.
В эту минуту среди сборища раздались возгласы.
– Эсмеральда! Эсмеральда!
Гренгуар вздрогнул и обернулся в ту сторону, откуда раздавались возгласы. Толпа расступилась и дала пройти молодой, поразительно красивой девушке. Это была цыганка.
– Эсмеральда! – проговорил Гренгуар, пораженный, несмотря на трагичность момента, тем странным совпадением обстоятельств, при которых он во второй раз слышал это имя.
Влияние красоты и обаяние ее сказывались, казалось, даже в этом ужасном вертепе. Все, как мужчины, так и женщины, расступались перед нею, и их грубые лица как бы расцветали при одном виде ее.
Она легкою поступью приблизилась к бедняге; хорошенькая козочка ее следовала за нею по пятам. Гренгуар был более мертв, чем жив. Она несколько мгновений молча смотрела на него.
Вы хотите сейчас же повесить этого человека? – серьезно спросила она у Клопена.
– Да, сестрица – ответил ей тот: – если только ты не желаешь взять его себе в мужья.
– Хорошо, я беру его… – сказала она, сделав хорошенькую гримасу нижней губой.
Тут Гренгуар окончательно пришел к убеждению, что все, происшедшее с ним с самого утра было не что иное, как сон, и что это было продолжением его.
Но нет, это не был сон. Он не замедлил убедиться в том, что с шеи его сняли петлю и что его спихнули со скамейки. Он вынужден был сесть до того сильно было его волнение.
Цыганский царь, не произнеся ни слова, принес глиняную кружку. Цыганка поднесла ее Гренгуару со словами «Киньте ее на землю». Кружка разбилась вдребезги.
Брат, – произнес тогда цыганский царь, положив свои руки на их головы, – она – твоя жена; сестра – он твой муж. На четыре года. Ступайте!







