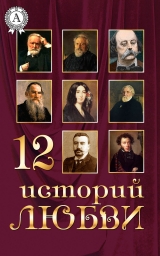
Текст книги "12 историй о любви"
Автор книги: Коллектив авторов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 294 страниц) [доступный отрывок для чтения: 104 страниц]
В настоящее время остаются лишь почти незаметные следы Гревской площади в том виде, в каком она существовала в те времена, – а именно: красивая башенка, занимающая северный угол площади, которая, почти уже обезображенная безобразной мазней, покрывающей ее изящные скульптурные линии, быть может, вскоре совсем исчезнет среди этого прилива новых построек, который с такою быстротой разрушает все старинные фасады Парижа.
Люди, которые, подобно нам, никогда не проходят по Гревской площади, не бросив сочувственного взгляда сожаления на эту бедную башню, сдавленную двумя домами архитектуры эпохи Людовика XV, легко могут создать мысленно общий характер тех зданий, составную часть которых составляла эта башня и общий вид этой старой, готической площади XV-го столетия.
Она имела в ту эпоху, как и теперь, вид неправильной трапеции, стороны которой составляли с одной стороны – набережная, а с трех остальных – ряд высоких, узких и мрачных домов. При дневном свете можно было любоваться разнообразием этих зданий, изобиловавших резными деревянными и каменными украшениями, и уже в ту эпоху представлявших собою полные образчики архитектуры средних веков, начиная с пятнадцатого столетия и кончая одиннадцатым, начиная с квадратных окон, заменивших прежние стрельчатые, и кончая романскими полукруглыми окнами, замененными стрельчатыми, и которые сохранились еще в нижнем этаже старого дома Ла-Тур-Ролан, на углу площади, выходившей на Сену и Сыромятную улицу. Ночью из всей этой массы зданий можно было различить только черную, кружевную линию крыш, окружавших площадь цепью своих остроконечных зубцов; ибо одно из резких отличий тогдашних домов от настоящих заключалось в том, что ныне на улицы и площади выходят передние фасады домов, а в те времена на них выходили задние фасады. Словом, в последние два века дома как будто перевернулись вокруг своей оси.
Посредине восточного фасада площади возвышалось тяжелое и массивное здание, состоявшее из трех ярусов различного характера постройки. Здание это называлось тремя именами, которые объясняют его историю, его назначение и его архитектуру: – «Дворец Дофина», потому что в нем жил, будучи дофином, Карл V; «Торговым домом», потому что он когда-то был рынком, и, наконец, «Домом на Столбах», потому что все три яруса его поддерживались тремя рядами тяжелых каменных столбов. Здесь можно было найти все, что нужно было для такого города, как Париж: часовню, чтобы молиться Богу, судебный зал, чтобы творить суд и расправу и, в случае надобности, отправлять в кутузку добрых парижан, и, наконец, в верхнем этаже, целый артиллерийский арсенал, ибо парижские граждане очень хорошо знали, что бывают такие случаи, когда молитва и суд недостаточны для ограждения прав города, и потому они всегда держали про запас на одном из чердаков Ратуши несколько, хотя и заржавленных, пищалей.
Гревская площадь уже в те времена имела тот мрачный вид, который вполне соответствовал печальной репутации, сохраненной ею до наших дней, несмотря на то, что средневековый «Дом на Столбах» заменен с тех пор зданием Ратуши, построенным Домиником Бокадором. Нужно заметить, что виселица и позорный столб, эти атрибуты тогдашнего правосудия, поставленные рядом посреди площади, немало способствовали тому, чтобы заставлять избегать этой проклятой площади, на которой мучились и испустили дух свой столько существ, полных здоровья и жизни, на которой зародилась пятьдесят лет спустя эта «лихорадка Сен-Валье», эта эпидемия страха перед эшафотом, эта самая ужасная из болезней, потому что она ниспосылается не Богом, а человеком.
Утешительно подумать, заметим мимоходом, что смертная казнь, загромождавшая еще триста лет томуназад своими колесами, своими каменными виселицами, всеми своими орудиями пыток, не убиравшимися с мостовой площади; что Гревская площадь, главный рынок, площадь Дофина, перекресток Трагуара, свиной рынок; что этот ужасный Монфоконский холм, Застава Сержантов, Кошачья площадь, ворота Сен-Дени, Шампо, Бодэ и Сен-Жак, – не считая многочисленных судилищ профосов, епископов, капитулов, аббатов, приоров, пользовавшихся правом юрисдикции, не считая «судебных потоплений» в волнах Сены, – утешительно подумать, говорим мы, что эта старинная юрисдикция феодальных времен, утратив последовательно почти все принадлежности своего вооружения, свое разнообразие пыток, свои изысканные и вычурные способы казни, свои колеса и дыбы, возобновлявшиеся через каждые пять лет в тюрьме Шатлэ, почти изгнанная из наших уголовных кодексов и из наших городов, гонимая и преследуемая, как красный зверь, – что она сохранила в настоящее время только один, всеми презираемый уголок в Париже, сохранила только жалкую гильотину, которая стыдливо и беспокойно прячется от людских взоров, которая как бы опасается, чтобы ее не застали на месте преступления, – до такой степени она постоянно спешит стушеваться по совершении своего дела.
Пьер Гренгуар добрался до Гревской площади весь продрогший. Он пошел на Мельничный мост, чтобы избежать толкотни на мосту Менял и Хоругвей Жана Фурбо; но при этом с ним случилась другая беда: его забрызгали колеса приречных мельниц, принадлежавших епископу, и его балахон промок насквозь. К тому же казалось, что неудача его пьесы сделала его еще более чувствительным к холоду. Поэтому он поспешил приблизиться к разведенному посреди площади костру; но ему нельзя было пробраться к нему, так как кругом стояла густая толпа народа.
– Проклятые парижане! – проговорил про себя Гренгуар, ибо, как драматический поэт, он был склонен к монологам: – вот они загораживают мне даже огонь! А между тем мне очень не мешало бы погреться. Я промочил себе ноги еще с утра, а тут еще эти проклятые мельницы окатили меня водой! И на кой черт епископу мельницы! Если только для того, чтобы я послал ему проклятие, то я готов бы был послать ему его и без того. А эти-то ротозеи! И не думают посторониться! И чего они здесь торчат! Греются, что ли? Экое удовольствие! Или они никогда не видели, как горит связка прутьев? Есть на что смотреть!
Всмотревшись поближе, он заметил, что образовавшийся вокруг костра круг был гораздо больше, чем какой нужен был для того, чтобы погреться около казенных дров, и что вся эта толпа была привлечена не одним только желанием поглазеть на горящий костер.
Оказалось, что на свободном пространстве между костром и толпой плясала какая-то молодая девушка. В первую минуту Гренгуар, хотя он был и философ-скептик и поэт-сатирик, не мог сразу решить, была ли эта молодая девушка человеческое существо, или фея, или ангел, – до такой степени поразил его ее ослепительный образ.
Она была невысокого роста, но казалась высокой, благодаря стройности своей талии. Лицо ее было смугло, но не трудно было заметить, что при дневном свете эта смуглость должна была получать тот золотистый оттенок, который свойствен римлянкам или андалузянкам; ее маленькая ножка была обута в изящный башмачок. Она плясала, вертелась, кружилась на старом персидском ковре, небрежно разостланном под ногами ее, и каждый раз, когда во время пляски перед вами мелькало ее сияющее лицо, большие, черные глаза ее пронзали вас, точно стрелами.
Все взоры были устремлены на нее, все рты разинулись. И действительно, в то время, как она плясала при звуке тамбурина, который она держала пухлыми и красивыми руками над изящной, небольшой головкой своей, она казалась неземным созданием, в своем золотистом, плотно облегавшем ее талию, корсаже, в раздувавшейся от пляски пестрой юбке своей, с своими обнаженными плечами, с своими тонкими и красивыми ногами, видневшимися из-под юбки, с своими черными волосами и блестящими глазами.
«Черт возьми – подумал Гренгуар, – да это какая-то саламандра, нимфа, богиня, вакханка с горы Менальской».
В это мгновение одна из кос «саламандры» распустилась, и какое-то вдетое в волосы украшение из желтой меди покатилось по земле.
– Ах нет, – проговорил он, – это просто цыганка! – Всякая иллюзия исчезла.
Она снова принялась плясать. Она подняла с земли две шпаги и поставила их острием на свой лоб, заставляя их вертеться в одну сторону, между тем, как сама она вертелась в другую. И действительно, это была простая цыганка. Но как ни сильно было разочарование Гренгуара, однако, это зрелище не было лишено прелести и очарования. Оно освещалось красным, неровным светом костра, дрожавшим на лицах толпы и на смуглом лбу молодой девушки, а в некотором отдалении падавшим отблеском на старинном, потрескавшемся фасаде «Дома на Столбах» и на безобразной, стоявшей по соседству, виселице.
Среди тысячи лиц, освещаемых красноватым блеском костра, одно казалось более других поглощенным зрелищем пляшущей цыганки. Это лицо принадлежало человеку серьезному, спокойному и даже мрачному. Человеку этому, костюма которого нельзя было разглядеть из-за теснившейся вокруг него толпы, казалось, было не более 35 лет от роду; однако, он был лыс и только на висках его были заметны пряди поседевших уже волос. Его высокий и широкий лоб был уже изборожден морщинами, но впалые глаза его блестели юношеским блеском, жизнью, страстью. Он не сводил их с цыганки, и между тем, как бойкая шестнадцатилетняя девушка плясала и кружилась для удовольствия всех, его мысли, по-видимому, принимали все более и более мрачный оттенок. По временам он сдыхал, и в то же время улыбка появлялась на устах ее, но эта улыбка была еще более печальна, чем вздох.
Наконец, молодая девушка, запыхавшись, остановилась, и народ стал неистово рукоплескать ей.
– Джали! – кликнула цыганка.
И затем Гренгуар увидел хорошенькую, белую, с шелковистою шерстью, с позолоченными ногами и копытами и с красным ошейником на шее козочку, которую он до сих пор не замечал, так как она лежала, свернувшись клубочком, в углу ковра, откуда она смотрела, как плясала ее госпожа.
– Джали, – сказала плясунья, – теперь твоя очередь!
Она села и грациозно протянула к козочке свой тамбурин.
– Джали, – произнесла она, – какой у нас теперь месяц?
Козочка подняла одну из своих передних ног и стукнула ею один раз по тамбурину. И действительно, был первый месяц в году. Толпа зааплодировала.
– Джали, – продолжала молодая девушка, поворачивая свой тамбурин в другую сторону, – какое у нас сегодня число?
Джали подняла свое позолоченное копытце и стукнула им шесть раз по тамбурину.
– Джали, – сказала цыганка, снова повернув тамбурин, – который теперь час?
Козочка стукнула семь раз по тамбурину. В то же мгновение на башенных часах пробило семь часов.
Все разинули рты от удивления.
– Тут не без колдовства, – раздался какой-то голос из толпы. Это был голос лысого человека, не спускавшего глаз с цыганки. – Та вздрогнула и обернулась; но в это время раздался взрыв рукоплесканий, покрывших это угрожающее восклицание. Рукоплескания эти даже до такой степени изгладили его в ее уме, что она снова принялась задавать вопросы своей козочке.
– Джали, как ходит во время процессий Гишар Гран-Реми, капитан городской стражи?
Козочка встала на задние ноги и принялась блеять, выступая с такой забавной важностью, что все присутствующие покатились от смеха при виде этой пародии на капитана-ханжу.
– Джали, – продолжала молодая девушка, ободренная этим постоянно увеличивающимся успехом: – как говорит Жак Шармолю, королевский прокурор, в духовном суде?
Коза уселась на задние ноги и принялась блеять, таким забавным образом помахивая передними ногами, что толпа увидела перед собою живого Жака Шармолю, в его обычной позе, с его жестами и выражением голоса, и только без отвратительных французского и латинского акцентов.
Толпа зааплодировала еще сильнее.
– Кощунство! Святотатство! – снова раздался голос лысого господина.
– Ах, опять этот несносный человек! – произнесла она, еще раз обернувшись в его сторону.
Затем, выпялив немного нижнюю губу, она состроила презабавную гримасу, повернулась на каблуке и стала обходить толпу с своим тамбурином. В него посыпались крупные и мелкие серебряные и медные монеты. В это время она поравнялась с Гренгуаром.
Тот машинально опустил руку в карман, и она, заметив это его движение, остановилась.
Ах, черт возьми! – пробормотал сквозь зубы наш бедный поэт, найдя в кармане то, что он и должен был найти в нем, т. е. безусловную пустоту.
А между тем молодая девушка стояла перед ним, уставив на него свои большие, черные глаза и протянув к нему тамбурин в ожидании подачки. Крупные капли пота выступили на лбу Гренгуара. Если бы в его кармане были все сокровища Перу, то он, ни на секунду не задумываясь, отдал бы их плясунье; но их, к сожалению, там не было, да к тому же и самый Перу еще не был открыт в то время.
К счастью, неожиданное происшествие вывело его из затруднения.
– Уберешься ли ты, египетская саранча! – закричал сердитый голос из самого темного угла площади.
Молодая девушка в испуге обернулась. Это уже не был голос лысого господина, а какой-то сердитый старушечий голос.
Впрочем, крик этот, напугавший цыганку, очень развеселил толкавшихся тут же мальчишек.
– Это затворница из Роландовой башни! – закричали они, громко смеясь, – это она ворчит! Она, должно быть, еще не поужинала! Отнесите-ка ей какие-нибудь остатки из городского буфета!
И вся гурьба кинулась к старому дому.
Между тем, Гренгуар, воспользовавшись замешательством плясуньи, поспешил стушеваться. Крики детей напоминали ему, что и он ничего не ел за весь день, и он тоже направился торопливыми шагами к буфету. Но маленькие шалуны имели более проворные ноги, чем он, и когда он подошел к буфету, он не нашел в нем даже ни одного фунта колбасы по пяти грошей фунт, и мог только полюбоваться нарисованными на стенах еще в 1434 г. Матьё Бишерном лилиями и розанами. Это было, пожалуй, и красиво, но далеко не сытно.
Неприятно ложиться спать, не поужинавши; но еще неприятнее не поужинать и не знать, где провести ночь; а Гренгуар находился именно в таком положении. Ни хлеба, ни крова, кругом безысходная, тяжелая нужда. Он уже давно сделал открытие, что Юпитер создал людей в припадке меланхолии, и что во всю жизнь мудреца судьба его держит в осадном положении его философию. Что касается его, то он никогда не видел такой полной блокады; он чувствовал, как в желудке его ударили бой к сдаче, и он находил очень неуместным, что его философию хотели заставить сдаться посредством голода.
Он все более и более погружался в эти меланхолические мысли, как вдруг до его слуха долетело странное, хотя и мелодичное пение. То пела молодая цыганка.
Голос ее вполне соответствовал ее красоте и ее пляске: он был необычаен и, вместе с тем, очень красив; в нем было что-то чистое, воздушное, звучное, так сказать, окрыленное. Это были бесконечные переливы, мелодии, неожиданные каденцы, затем простые, сказанные как бы говорком, фразы, выражающиеся высокими, даже немного свистящими нотами; они сменялись такими прыжками гамм, которым мог бы позавидовать любой соловей, но всегда гармоничными, затем мягкими, переливающимися октавами, поднимавшимися и опускавшимися так же, как грудь молодой певицы. Красивое лицо ее изменялось с поразительною подвижностью, сообразно оборотам песни, выражая то почти вакхический восторг, то девическую стыдливость; то оно напоминало собою лицо королевы, то лицо безумной.
Она пела на языке, незнакомом Гренгуару, да, по-видимому, незнакомом и ей самой, так как выражение, придаваемое ею своему пению, ни мало не соответствовало смыслу слов. Так, напр., она придавала выражение безумной веселости следующему куплету:
Открыли на дне водоема
Ларь, полный богатств дорогих;
В нем новые были знамена,
Ряд диких страшилищ нагих.
А минуту спустя, выражение, которое она придала другому куплету:
Верхом, на конях, недвижимы,
Арабы видны: – держат меч
В руках, и висят самострелы.
У них перекинуты с плеч —
заставило слезы навернуться на глазах Гренгуара. Но, между тем, пение ее дышало весельем, и она, казалось, пела, как птичка, беззаботно и от полноты сердца.
Пение цыганки нарушило мечтания Гренгуара, но нарушило так, как плавание лебедя нарушает водную гладь. Он слушал его с каким-то восторгом и забывая в эту минуту все на свете. В течение нескольких часов это было единственное мгновение, которое он провел без страданий.
Но мгновение это было непродолжительно. Тот же самый женский голос, который прервал пляску цыганки, прервал и ее пение.
– Замолчишь ли ты, чертова стрекоза? – раздался этот голос из того же темного угла площади.
Бедная «стрекоза» оборвала свою песню. Гренгуар, заткнув себе уши, воскликнул:
– О, проклятая сломанная пила! Зачем ты разбиваешь лиру?
Однако и другие слушатели начали роптать.
– К черту старую колотовку! – раздалось с разных сторон, и невидимке-каркунье, быть может, пришлось бы раскаяться в своих выходках против цыганки, если бы внимание толпы в эту самую минуту не было отвлечено в другую сторону процессией шутовского папы, которая, пройдясь по многим улицам и переулкам, с шумом, гамом и с зажженными факелами выходила на Гревскую площадь.
Эта процессия, которая, как читатели наши вероятно помнят, вышла из здания суда, значительно возросла во время своего шествия; к ней пристало все, что было в Париже карманников, мазуриков и бродяг, и она, по числу участвовавших в ней лиц, представлялась довольно импозантной во время прибытия ее на Гревскую площадь.
Впереди всех ехал верхом так называемый «цыганский царь»; по бокам его шли его оруженосцы, державшие уздцы лошади и стремена; сзади его толпа цыган и цыганок, с плачущими ребятишками на спине; и все это – царь, оруженосцы, простой народ – в лохмотьях, убранных мишурой. Далее следовала процессия мазуриков и бродяг, другими словами – представители карманников всей Франции, строго расположенных, однако, по рангу, младшие впереди. Таким образом, продефилировали, по четыре в ряд, с различными значками, обозначавшими их ранг в этой оригинальной корпорации, хромые, колченогие, безрукие, одержимые тиком, криворотые, сухорукие, юродивые и пр., и пр., и пр.; словом, – перечисление их утомило бы самого Гомера. Толпа эта была так густа, что лишь с трудом можно было различить в среде ее набольшего мазуриков, сидевшего в небольшой тележке, везомой двумя собаками. За корпорацией мазуриков следовала корпорация пьяниц. Староста ее важно выступал в красной мантии, закапанной вином, предшествуемый приплясывающими и угощающими друг друга тумаками гаерами и окруженный жезлоносцами, прислужниками и подносчиками. Наконец, шли писцы, в черных мантиях, неся убранные цветами майские деревца и большие свечи из желтого воска, с какою-то ушераздирающей музыкой впереди. Посредине всей этой толпы старшины корпорации шутов несли на плечах своих носилки, вокруг которых была утыкана масса восковых свечей; и на этих носилках восседал, в шутовской рясе и митре с жезлом в руках, новый шутовской папа, звонарь собора Парижской Богоматери, Квазимодо Горбун.
У каждого из отделов этой потешной процессии была своя особая музыка. Цыгане били в свои бубны, мазурики – народ, вообще, мало музыкальный трубили в трубы самой первобытной конструкции и ударяли в лютни XII века. Корпорация пьяных оглашала воздух раздирающими уши звуками какого-то совершенно примитивного гудка. Вокруг носилок папы какофония достигла крайних своих пределов: звуки альтов, гудков, флейт и медных инструментов сливались в какой-то невообразимый, заставлявший мороз пробегать по коже, хаос звуков. Увы! Читатели наши, быть может, вспомнят, что это был оркестр Гренгуара.
Трудно представить себе то гордое и вместе с тем печальное выражение, которое приняло лицо Квазимодо во время перехода из здания суда на Гревскую площадь; в первый раз в жизни ему приходилось наслаждаться чувством удовлетворенного самолюбия. До сих пор ему были известны только чувства унижения, презрения к своему званию, стыда по поводу своего безобразия. И он, несмотря на свою глухоту, наслаждался возгласами этой толпы, которую он ненавидел, ибо сознавал, что и она ненавидит его. Что ему за дело было до того, что минутные его подданные были сбродом калек, нищих, воров, – все же это были подданные его, а он – их властитель. И он принимал в серьез все эти иронические рукоплескания, все эти воздаваемые ему в насмешку почести, к которым, однако, в толпе присоединилась доля очень реального страха: ибо горбун был силен, косолапый был ловок, глухой был сердит – т. е. обладал тремя качествами, которые парализовали впечатление смешного.
Впрочем, мы очень далеки от мысли о том, что новый шутовской папа сам отдавал себе ясный отчет в том, что он чувствовал, и в тех чувствах, которые он внушал другим; весьма естественно, что ум, заключенный в такую несовершенную и уродливую оболочку, также должен был находиться в самом первобытном состоянии. И действительно, то, что он чувствовал в эту минуту, было крайне неопределенно, смутно и сбивчиво, хотя преобладало чувство радости и гордости: это мрачное и несчастное лицо как-то сияло.
Поэтому зрители не без удивления и не без испуга увидели, как вдруг, в то время, когда Квазимодо, в его полу-опьянении, с торжеством проносили мимо дома с колоннами, из толпы выделился какой-то человек, который, подбежав к носилкам, с выражением гнева на лице, вырвал из рук Квазимодо его деревянный, позолоченный посох, атрибут его шутовского папства.
Этот дерзкий человек был тот самый лысый господин, который, за несколько минут перед тем, стоя в группе, окружавшей цыганку, так напугал бедную молодую девушку своими злобными угрозами. Одет он был в духовное платье. В ту минуту, когда он отделился от толпы, Гренгуар, до сих пор не замечавший его, узнал его.
– А! – воскликнул он с выражением удивления: это архидиакон Клод Фролло, мой учитель! Но чего он пристает к этому кривому уроду! Ему еще достанется от толпы!
И действительно, на площади раздался крик ужаса. Страшилище Квазимодо соскочил с носилок, и женщины в ужасе отворачивались, чтобы не видеть, как он растерзает архидиакона; но тот подскочил к духовному лицу, взглянул на него и упал на колена. Патер сорвал с его головы митру, переломил его посох, разорвал его мишурную мантию. Квазимодо все время стоял на коленах, наклонив голову и скрестив руки. Затем между обоими завязался странный диалог жестами: ни тот, ни другой не произносили ни слова; патер стоял с сердитым, угрожающим, властным взглядом; Квазимодо ползал на коленях в униженной и умоляющей позе; а между тем для всех было ясно, что Квазимодо, если бы пожелал, мог бы раздавить патера, как блоху.
Наконец, архидиакон, сильно встряхнувши звонаря за плечо, жестом велел ему встать и следовать за собой. Квазимодо встал. Тогда участвующие в процессии, по миновании первого впечатления удивления, захотели было заступиться за своего папу, так неожиданно свергнутого с престола. Цыгане, мазурики и все остальные ротозеи сгруппировались вокруг патера и начали довольно громко и внушительно роптать. Но Квазимодо стал впереди него, поднял кверху свои внушительные кулаки и стал щелкать зубами, точно голодный тигр.
Лицо патера снова приняло мрачное и сердитое выражение; он сделал Квазимодо жест рукою и молча удалился. Квазимодо шел перед ним, расталкивая толпу.
Когда они пробрались через толпу и перешли через площадь, ватага любопытных и ротозеев хотела было последовать за ними. Тогда Квазимодо стал в арьергарде и задом следовал за архидиаконом, коренастый, угрюмый, безобразный, взъерошенный, съежившийся, облизывая свои клыки, рыча подобно дикому зверю и заставляя толпу отшатываться и отступать одним только жестом или взглядом.
Толпа не решилась задержать их, когда они оба повернули в узкий и темный переулок, и никто даже и не подумал последовать за ними туда, потому что всякому так и мерещилась ужас наводящая рожа Квазимодо, щелкающего зубами.
– Вот так чудеса! – воскликнул Гренгуар. – Но где же я, черт возьми, достану поужинать?







