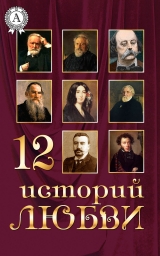
Текст книги "12 историй о любви"
Автор книги: Коллектив авторов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 294 страниц) [доступный отрывок для чтения: 104 страниц]
Однако разговор их становился все более и более оживленным. Молодая девушка, казалось, умоляла офицера не требовать ничего от нее большего. Так, по крайней мере, заключил Квазимодо при виде сложенных как бы для моления красивых рук, улыбок сквозь слезы, поднятых к небу глаз молодой девушки и жадно устремленных на нее взоров капитана.
К счастью для молодой девушки, – ибо сопротивление ее с каждой минутой все более и более слабело, – дверь, ведущая на балкон, вдруг распахнулась, на пороге ее показалась пожилая женщина; молодая девушка сконфузилась, на лице офицера выразилась досада, и все трое вошли обратно в комнаты.
Минуту спустя под воротами раздалось фырканье лошади, и изящный офицер, закутанный в свой плащ, быстро проехал мимо Квазимодо. Звонарь дал ему повернуть за угол улицы, и затем пустился бежать за ним с быстротой обезьяны, крича ему вслед:
– Эй, г. капитан, послушайте!
Чего нужно от меня этому уроду? – проговорил капитан, останавливаясь и вглядываясь, насколько позволяла темнота, в эту бежавшую по направлению к нему хромающую и нескладную фигуру.
Тем времен Квазимодо нагнал его, схватил его лошадь под уздцы и сказал ему:
Следуйте за мною, капитан! Одна особа желает видеть вас!
– Черт побери! – пробормотал сквозь зубы Феб, – мне кажется, будто я где-то видел эту растрепанную птицу! – Эй, любезный! – крикнул он громко: – оставь уздцы моей лошади!
– Что же капитан, – продолжал глухой, – вы не спрашиваете меня, кто желает видеть вас?
– Я говорю тебе, чтобы ты оставил уздцы моей лошади! – повторил капитан с выражением нетерпения. – Что это тебе вздумалось повиснуть на уздечке моей лошади? Ты, может быть, принимаешь коня моего за виселицу!
Но Квазимодо и не думал отпускать уздечку лошади, а, напротив, старался повернуть коня назад. Не будучи в состоянии объяснить себе сопротивление капитана, он поспешил сказать ему:
– Пойдемте, капитан! Вас ждет женщина. – И, сделав над собою некоторое усилие, он прибавил: – женщина, которая вас любит.
– Шут ты гороховый, – воскликнул капитан, – стану я ходить ко всем женщинам, которые любят меня или которые, по крайней мере, уверяют, будто меня любят! – Еще недостает того, чтоб она походила на тебя, совиная морда! – Скажи той, которая послала тебя ко мне, что я собираюсь жениться и чтоб она убиралась к черту!
Послушайте! – проговорил Квазимодо, в надежде сломить одним словом сопротивление капитана: – пойдемте со мною, сударь! Ведь это та цыганка, вы знаете.
Слово это, действительно, произвело на Феба сильное впечатление, но только вовсе не то, на которое рассчитывал Квазимодо. Читатель, вероятно, помнит, что наш капитан удалился со своей невестой с балкона в комнаты за несколько минут перед тем, как Квазимодо спас осужденную из рук Шармолю. С тех пор, посещая квартиру госпожи Гонделорье, он тщательно остерегался заговаривать об этой женщине, воспоминание о которой, в конце концов, было для него тягостно; а Флер-де-Лис, по своим особым соображениям, тоже не сочла нужным сообщить ему, что цыганка была спасена от смерти. Итак, Феб был вполне уверен в том, что бедная «Симиляр» умерла уже месяц или даже два тому назад. Прибавим к этому еще то, что в эту минуту капитану пришли также на ум темнота ночи, неестественное безобразие, гробовой голос этого странного вестника, что было уже за полночь, что улица была так же пустынна, как и та, в которой пристал к нему бука, и что конь его фыркал при виде Квазимодо.
– Цыганка! – воскликнул он почти с испугом. – Да что ты вестник с того света, что ли, черт побери! – И с этими словами он схватился за рукоятку кинжала.
– Скорее, скорее! – проговорил глухой, стараясь повернуть его лошадь. – Сюда, сюда!
Феб сильно хватил его носком своего сапога прямо в грудь. Глаз Квазимодо засверкал, и он сделал движение, как бы желая ринуться на капитана. Но он сдержался и проговорил:
– Ах! какое счастье для вас, что кто-то вас любит!
Он сделал особое ударение на слове «кто-то» и затем сказал, опуская уздцы коня:
– Уезжайте!
Феб пробормотал какое-то ругательство и пришпорил лошадь. Квазимодо посмотрел ему вслед и проговорил полушепотом:
– О, отказать даже в такой безделице!
Он возвратился в собор, зажег свою лампочку и поднялся на башню. Цыганка, как он и предполагал, стояла все на том же месте. Завидев его еще издали, она кинулась к нему:
– Один! – горестно ответила она, печально опустив красивые руки свои.
– Я не мог дождаться его, – холодно произнес Квазимодо.
– Следовало прождать целую ночь! – воскликнула Эсмеральда, вспылив.
Он видел ее гневный жест и понял, что она осталась недовольна им.
– Я постараюсь лучше подкараулить его в другой раз, – сказал он, понурив голову.
– Убирайся прочь! – прикрикнула она на него.
Он ушел. Она осталась недовольна им; но он предпочел вызвать ее неудовольствие против себя, чем огорчить ее. Все огорчение он оставил себе.
Начиная с этого дня, цыганка уже не видела его: он перестал посещать ее комнатку. Только изредка она видела издали, на вышке башни, печальное лицо звонаря, не спускавшего с нее глаз. Но как только он замечал, что она смотрит на него, он исчезал.
Мы должны сказать, что это добровольное отсутствие бедного горбуна мало огорчало ее; в глубине души она даже была ему благодарна за него. Впрочем, Квазимодо и не предавался на этот счет никаким иллюзиям.
Однако, хотя она и перестала его видеть, она продолжала ощущать вокруг себя присутствие доброго гения. Ежедневно, во время ее сна, невидимая рука приносила ей еду и питье. Однажды утром она нашла на окошке своем клетку с птицами. Над дверью ее комнаты была вырезанная из дерева безобразная рожа, которая пугала ее, и она не раз выказывала этот страх в присутствии Квазимодо. Однажды утром (ибо все это творилось по ночам) она не увидала этой рожи на обычном ее месте: какая-то невидимая рука сломала ее, причем тот, кто решился вскарабкаться до этой рожи, должен был рисковать жизнью.
Иногда, по вечерам, она слышала голос, выходивший из-под навеса колокольни, напевавший, как бы для убаюкивания ее, нечто, долженствовавшее изображать собою стихи, но без размера и рифмы, словом – такие стихи, которые может сложить только глухой. Вот эти якобы стихи.
Не гляди, девица, на лицо, гляди в сердце.
Сердце молодого красавца часто бывает безобразно;
Бывают такие сердца, в которых любовь недолговечна.
Девица, сосна некрасива,
Ей далеко до красоты тополя,
Но за то она зеленеет и зимою.
Увы! к чему все это говорить!
То, что некрасиво, не должно существовать.
Красивое любит только красивое.
Апрель поворачивается спиною к январю.
Красота совершенна, красота всесильна,
Красота – единственная вещь, не существующая наполовину.
Ворон летает только днем,
Филин летает только ночью,
Лебедь летает и днем, и ночью.
Однажды утром, проснувшись, она увидела на окне своем два сосуда, наполненные цветами. Один из них был очень красивая и изящная хрустальная ваза, давшая, однако, трещину; вследствие этого вода, которая была в него налита, вытекла из него и цветы завяли. Другой был простой, грубой работы глиняный горшок, в котором, однако, сохранилась вода, вследствие чего стоявшие в нем цветы были свежи и красивы.
Неизвестно, сделано ли это было нарочно, только Эсмеральда взяла завядший букет и носила его целый день приколотым на своей груди. В этот день она не слыхала голоса, распевавшего на башне.
Она, впрочем, и не обратила на это никакого внимания. Она в течение целых дней ласкала свою Джали, смотрела на дверь квартиры госпожи Гонделорье, про себя разговаривала с Фебом и кормила крошками от своего хлеба ласточек.
Вообще, в последнее время она и не видела, и не слышала Квазимодо. Бедный звонарь как будто совершенно исчез из церкви. Однако же, однажды ночью, когда ей не спалось, и она думала о своем красавце-капитане, она услышала какой-то вздох возле своей каморки. Она в испуге вскочила с своего ложа и увидела, при лунном свете, какую-то безобразную массу, лежавшую на площадке, поперек ее двери. Это был Квазимодо, улегшийся на каменном полу и стороживший ее.
Со временем архидиакон не замедлил узнать из городских толков о том, каким необычайным образом была спасена цыганка. Когда он узнал об этом, он сам не мог отдать себе хорошенько отчета в том, что он почувствовал. Он успел уже привыкнуть к мысли о смерти Эсмеральды, и с этой стороны был спокоен, полагая, что он испил горькую чашу до дна. Человеческое сердце (как решил Клод после долгих размышлений об этом предмете) может заключать в себе лишь известную долю отчаяния. Когда губка пропиталась водою, через нее может перекатывать свои волны целый океан и ни одна лишняя капля влаги уже не проникает более в губку.
Мысль о смерти Эсмеральды была тою последнею каплей, которую еще могло всосать в себя сердце Клода; этим для него было сказано все здесь, на земле. Но раз он узнал, что и она, и Феб еще живы, для него снова начинались сотрясения, страдания, пытки, снова началась, одним словом, жизнь; а все это успело уже крайне утомить Клода.
Когда он узнал эту новость, он заперся в своей келье и не стал появляться ни в собраниях капитула, ни при богослужении. Он не допускал к себе никого, даже епископа. В таком уединении он провел несколько недель. Все считали его больным, и, действительно, он был болен.
Что же он делал в своем уединении? Какие мысли терзали несчастного? Вел ли он последнюю, отчаянную борьбу с своею злосчастной страстью? Обдумывал ли он какой-нибудь новый план, который должен был повести к ее погибели, к его собственной погибели?
Однажды Жан, его нежно-любимый брат, его баловень, долго стучался у его двери, десять раз называл свое имя, бранился, умолял, – но все было тщетно: Клод не отпер дверей. Он проводил целые дни, припав к стеклу единственного окна своей кельи. Отсюда он мог видеть каморку Эсмеральды, мог видеть ее и ее козочку, иногда также и Квазимодо. Он замечал, как глухой урод ухаживал за цыганкой, как он слушался ее, с какою деликатностью и покорностью он относился к ней. При этом ему вспомнился, – он, вообще, обладал хорошей памятью, а чувство ревности еще более обостряет память, – ему вспомнился тот странный взор, которым, как ему довелось подметить однажды вечером, звонарь смотрел на цыганку. Он спрашивал себя, какие побудительные причины могший заставить Квазимодо спасти Эсмеральду? Он был свидетелем разных небольших сцен между звонарем и цыганкой, и пантомима этих сцен издали казалась ему особенно нежною. Он, вообще, с юных лет привык относиться к женщинам крайне недоверчиво; а теперь он смутно чувствовал, как в душе его пробуждается чувство ревности, к которому он никогда не считал бы себя способным, и заставлявшее его краснеть от стыда и негодования. – «Ну, капитан – еще куда ни шло! – думал он. – А то вдруг этот урод!» – И эта мысль переворачивала всю его душу.
Ночи его были просто ужасны. С тех пор, как он узнал, что цыганка жива, мрачные мысли о привидениях и о могиле, мучившие его в течение целого дня, исчезли, и его снова стали волновать плотские вожделения. Он корчился на своем ложе при мысли о том, что эта смуглая молодая девушка так близка от него.
Каждую ночь в возбужденном воображении его рисовалась Эсмеральда в тех положениях, которые наиболее волновали его кровь. То она представлялась ему распростертою над телом пораженного кинжалом капитана, с закрытыми от ужаса глазами, с ее белой, забрызганной кровью Феба, обнаженной грудью, в тот самый момент, когда архидиакон запечатлел на ее бледных губах тот страстный поцелуй, который просто ожег несчастную, несмотря на то, что она в ту минуту была полужива от страха. То она опять представлялась ему в ту минуту, когда грубые руки палача срывали с нее ее одежды и, обнаживши ее хорошенькую ножку, заключали ее в этот ужасный испанский сапог с железными винтами, причем перед его взорами открылась вся ее нога вплоть до белого круглого колена: ему казалось, что он еще видит перед собою это, словно выточенное из слоновой кости, колено, к счастью не обхваченное ужасным снарядом Пьерра Тортерю. Затем опять он видел перед собою молодую девушку в одной сорочке, с веревкой вокруг шеи, с голыми плечами, с голыми ногами, почти всю голую, каковою он видел ее в самый день казни. Все эти сладострастные картины заставляли его судорожно сжимать кулаки, причем по спине его пробегали мурашки.
Однажды ночью все эти сладострастные образы до того заволновали кровь целомудренного доселе священника, что он сначала впился зубами в свою подушку, затем соскочил с кровати, накинул на себя подрясник и вышел из своей комнаты, с фонарем в руке, полуодетый, растерянный, с пылающими глазами. Он знал, где найти ключ от Красных дверей, которые вели из монастыря в церковь, а ключ от двери, ведущей на лестницу к башням, как уже известно читателю, всегда был при нем.
В эту ночь Эсмеральда заснула в своей каморке спокойная, полная надежд и самых сладких мечтаний.
Она уже довольно давно спала, видя, по обыкновению во сне Феба, как вдруг ей показалось, будто она слышит возле себя шорох. Она, вообще, всегда спала, как птица, чутким сном, и имела способность просыпаться при малейшем шуме. Она открыла глаза. Было совершенно темно, однако, она, при тусклом свете неизвестно откуда светившего фонаря, могла разглядеть в окошко двери какое-то лицо, глаза которого были уставлены на нее. В то самое мгновение, когда лицо это увидело устремленные на себя глаза Эсмеральды, оно задуло фонарь. Тем не менее, молодая девушка успела узнать это лицо:
– О! – воскликнула она слабым голосом, – опять этот поп!
И все испытанные ею бедствия промелькнули в уме ее, точно молния. Она повалилась на кровать свою, вся похолодев от страха. Минуту спустя, она почувствовала какое-то прикосновение к своему телу, которое заставило ее окончательно проснуться и вскочить на своем ложе.
Подле нее был священник, обхвативший ее своими руками. Она хотела было крикнуть, но не могла.
– Прочь, чудовище! Прочь, убийца! – проговорила она дрожащим и сдавленным от гнева и испуга голосом.
– Пожалей меня! – прошептал священник, прикасаясь губами к ее обнаженному плечу.
Она ухватилась обеими руками за то, что оставалось волос на его лысой голове, и старалась оттолкнуть его от себя, точно поцелуи его были столько же укушения.
– Пожалей меня! – повторял несчастный. – Если бы ты знала, что такое любовь моя к тебе! Это огонь, это расплавленный свинец, это тысячи лезвий ножей, вонзенных в мое сердце.
И он крепко обхватил ее руки.
– Оставь меня! – воскликнула она нечеловеческим голосом, – или я плюну тебе в лицо!
– Плюй на меня, бей меня! – произнес он, выпуская ее из рук своих, – делай со мною, что хочешь, но только, ради самого неба, полюби меня!
Она стала бить его с какою-то детской яростью. Она сжимала свои маленькие кулачки, изо всех сил колотила ими по лицу его, повторяя:
– Уходи прочь, демон!
– Полюби меня! Полюби меня! Сжалься надо мною! – восклицал бедный Клод, валяясь у ног ее и отвечая ласками на ее побои.
Но вдруг она почувствовала, что он стал одолевать ее.
– Пора кончить! – проговорил он, скрежеща зубами.
Она была бессильна, она сознавала себя совершенно беспомощною в его могучих объятиях. Она чувствовала, как похотливая рука его прикасалась к ее телу. Она сделала последнее усилие и принялась кричать:
– Караул! Помогите! Вампир, вампир!
Но никто не слышал ее отчаянных возгласов. Только Джали проснулась и жалобно блеяла.
– Замолчи! – прикрикнул на нее Клод, задыхаясь.
Вдруг, отбиваясь от него и ползая по полу, цыганка ощупала рукою что-то холодное, металлическое. Это был свисток, который когда-то дал ей Квазимодо. В душе ее блеснул луч надежды; она поднесла свисток к губам и свистнула в него, насколько хватило у нее сил. Раздался резкий, пронзительный звук.
– Что это такое? – воскликнул изумленный Клод. Но почти в ту же минуту он почувствовал, как его обхватила какая-то мощная рука. В каморке было совершенно темно, и он не мог сразу разобрать, кто это его схватил; но он ясно слышал, как у самого уха его яростно щелкали чьи-то зубы, и, несмотря на господствовавшую вокруг него темноту, он мог различить сверкнувшее над головою его блестящее лезвие широкого ножа.
По ощупи Клоду показалось, что схватившее его существо мог быть только Квазимодо. Тут же ему, кстати, припомнилось, что, прокрадываясь в комнату Эсмеральды, он зацепил за дверью ногою за что-то, лежавшее поперек двери. Однако, так как эта, столь неожиданно явившаяся на месте действия личность не произносила ни слова, то он и не знал, насколько основательно его предположение. Он схватил руку, державшую нож, и воскликнул «Квазимодо!» – совершенно забыв в эту минуту опасности о том, что Квазимодо глух.
В одно мгновение ока Клод был повален на землю, и он почувствовал, как чье-то, точно налитое свинцом, колено уперлось в грудь его. Нажим этого угловатого колена еще более убедил его в том, что это не мог быть не кто иной, как Квазимодо. Но что ему было делать? Каким образом дать понять звонарю, кто он такой? Было так темно, что глухой становился и слепым.
Он считал себя погибшим. Безжалостная молодая девушка, разъяренная, как тигрица, и не думала вступиться за него. Нож приблизился уже к его горлу. Момент был в высшей степени критический. Но вдруг противником его овладело точно какое-то сомнение.
– Нет, на ее душе не должно быть крови! – проговорил он глухим голосом.
Теперь уже не подлежало ни малейшему сомнению: это был голос Квазимодо.
Затем Клод почувствовал, как какая-то сильная рука потащила его за ногу вон из комнаты Эсмеральды. Значит, ему суждено было умереть там, за дверью этой комнаты. Но, к счастью для него, за несколько минут перед тем взошла луна.
Когда Квазимодо вытащил его за дверь, бледный луч луны осветил лицо архидиакона. Квазимодо заглянул ему в лицо, задрожал, отпустил ногу Клода и отступил на несколько шагов.
Цыганка, последовавшая за ними до порога двери, с удивлением увидела, как роли вдруг переменились: теперь уже священник угрожал, а Квазимодо умолял. Священник, после целого ряда угрожающих и укоризненных жестов, знаком приказал звонарю удалиться. Тот, склонив голову, стал на колена перед дверью цыганки и сказал покорным, но твердым голосом:
– Ваше преподобие, делайте затем, что вам будет угодно, но сначала убейте меня!
И с этими словами он протянул Клоду свой нож. Не помнивший себя от ярости архидиакон кинулся было к нему, но молодая девушка предупредила его. Она выхватила нож у Квазимодо и воскликнула, гневно захохотав и обращаясь к Клоду:
– Ну, теперь попробуй-ка приблизиться!
Она держала нож высоко над своей головою. Священник остановился в недоумении. Для него не подлежало ни малейшему сомнению, что она ни на минуту не задумается вонзить в него нож, если только он сделает хотя бы один только шаг по направлению к ней.
– Ага, трус! – крикнула она ему, – я знала, что ты не осмелишься приблизиться! – И затем она прибавила с самым безжалостным выражением, отлично понимая, что она словами своими пронзит сердце Клода, точно раскаленным железом, – Ведь я же знаю, что Феб не умер!
Священник одним пинком повалил Квазимодо на пол и скрылся, дрожа от злости, под темным сводом лестницы.
Когда он ушел, Квазимодо поднял с пола свисток, который только что спас цыганку, и сказал, отдавая его ей:
– Он чуть было не заржавел. – Затем он оставил ее одну.
Молодая девушка, потрясенная этой сценой, упала в изнеможении на свою кровать и разразилась рыданиями. Небо над нею снова заволоклось тучами.
Священник, в свою очередь, ощупью добрел до своей комнаты. Теперь было ясно: Клод ревновал Квазимодо к Эсмеральде.
– Так не будет же она принадлежат никому! – повторял он задумчиво зловещее свое слово.
Книга десятаяС тех пор, как Гренгуар увидел, какой оборот принимает все это дело, и что тут положительно не обойдется без веревки, повешения и других подобного рода неприятностей для главных действующих лиц этой драмы, он счел наиболее благоразумным держаться, по возможности, в стороне от всего этого дела. Бродяги, – среди которых он остался жить, находя, что, в конце концов, это все же самое приличное общество в Париже, – продолжали, однако, интересоваться судьбой Эсмеральды. Он находил это, впрочем, вполне естественным со стороны людей, которые, подобно ей, не имели перед собой иной перспективы, кроме господ Шармолю и Тортерю, и которые не носились, подобно ему, в заоблачном пространстве на крыльях Пегаса. Он узнал из их разговоров, что его супруга, с которою он был обвенчан при помощи разбитого горшка, нашла себе убежище в соборе Парижской Богоматери, и он этому очень обрадовался. Но у него не явилось даже ни малейшего желания пойти проведать ее там. По временам он вспоминал лишь о козочке, – и только. Время его проходило в том, что он днем проделывал разные штуки и фокусы, чтобы заработать себе несколько грошей, а по ночам работал над памфлетом, направленным против парижского епископа, ибо он не мог забыть того, что его однажды забрызгали колеса епископской мельницы, и он сгорал желанием отмстить ему за то. Он занимался также составлением комментариев к сочинениям Бодри Леружа, епископа Нойонского и Тунесского: «Об обтесывании камней», что очень развило в нем архитектурные вкусы и совершенно вытеснило из его сердца страсть к алхимии; это, впрочем, вполне естественно, так как зодчество и алхимия тесно связаны между собою. Гренгуар просто перешел от любви к идее к любви к форме, в которой выражается эта идея.
Однажды он остановился невдалеке от церкви Сен-Жермен-Л’Оксеруа, на углу дома, называвшегося «Архиерейским судилищем» и находившегося насупротив другого дома, называвшегося «Королевским судилищем». К «Архиерейскому судилищу» примыкала красивая часовня XVI века, небольшая паперть которой выходила на улицу. Гренгуар с любовью разглядывал наружные ее архитектурные формы. Он находился в одном?;из тех моментов эгоистического, исключительного, забывающего все окружающее наслаждения, в котором художник видит в мире одно только искусство, а в искусстве – целый мир. Вдруг он почувствовал, что чья-то тяжелая рука опустилась на плечи его. Он обернулся: перед ним стоял бывший его учитель, бывший его друг – архидиакон.
Он обомлел. Он давно уже не видел архидиакона, а Клод был один из тех импонирующих своею личностью людей, встреча с которыми всегда нарушает внутреннее равновесие философа-скептика.
Архидиакон в течение нескольких мгновений хранил молчание, и в это время Гренгуар успел разглядеть его. Он нашел Клода сильно изменившимся, бледным, как зимнее утро, с впалыми глазами, с почти побелевшими волосами. Первым нарушил молчание священник, спросивший Гренгуара спокойным, но холодным голосом:
– Как вы поживаете, Пьер?
– Как я поживаю? – переспросил Гренгуар. – Да так себе, ни шатко, ни валко; вообще же недурно. Я умерен во всем. Вы знаете, дорогой учитель, что, если верить Гиппократу, весь секрет здоровья заключается в том, чтобы быть умеренным во всем – ч еде, в питье, в любви, во сне.
– Значит, у вас нет никаких забот, Пьер? – продолжал Клод, пристально глядя на Гренгуара.
– Нет, никаких, – ответил тот.
– А чем же вы теперь занимаетесь?
– Да вот вы сами видите, дорогой учитель. Я рассматриваю, как обтесаны эти камни и каким образом выведен этот барельеф.
Священник улыбнулся, но той горькой улыбкой, при которой приподнимается только один угол губ.
– И это доставляет вам удовольствие? – спросил он.
– Да это настоящий рай! – воскликнул Гренгуар. И наклонившись над резьбой с выражением лица, свойственным показателям редкостей, он продолжал: – Разве вы, например, не находите, что вон этот барельеф, сюжет которого взят из Овидиевых метаморфоз, исполнен чрезвычайно искусно, изящно и грациозно? Взгляните-ка на эту колонку! Видели ли вы когда-нибудь капитель, окруженную более нежными и более изящно-выточенными листьями? А вот три кругло-выпуклые фигурки работы Жана Мальевена. Это еще не самые лучшие произведения этого великого гения. Однако, наивность и кротость лиц, веселость групп и драпировок и эта нежность, сквозящая даже сквозь все их недостатки, придают фигуркам этим грациозный и деликатный, быть может, даже слишком деликатный вид. Неужели вы не находите это восхитительным?
– Да, конечно, – ответил священник.
– А если бы вы взглянули еще на внутренность часовни! – продолжал поэт в своем болтливом восторге. – Всюду резьба! Настоящий кочан капусты! А ниша выдержана в самом строгом стиле и так оригинальна, что я нигде не видел ничего подобного!
– Значит, вы вполне счастливы? – прервал его Клод.
– Да, могу сказать по совести! – ответил Гренгуар с жаром. – Сначала я любил женщин, затем животных. Но теперь я люблю только камни. Они доставляют не менее удовольствия, чем женщины и животные, но они не так вероломны.
– Вы это находите? – спросил Клод, приложив руку ко лбу. Это был обычный его жест.
– Взгляните! – продолжал Гренгуар, – как здесь хорошо! – И он взял за руку священника, который дал ему увлечь его за собою, и повел его по лестнице «Архиерейского судилища». – Вот, например, эта лестница. Каждый раз, когда я вижу ее, я бываю счастлив. Эти ступеньки – все, что есть в Париже самого простого и в то же время самого редкого. Все скошены снизу. Красота и простота этой лестницы заключается в ступеньках ее, имеющих приблизительно один фут ширины каждая и переплетающихся, входящих одна в другую, цепляющихся одна за другую, точно губами. Все это придает лестнице прочность и в то же время как нельзя более красиво.
– И с вас этого достаточно? Вы ничего более не желаете?
– Нет.
И вы ни о чем не сожалеете?
– Я не чувствую ни сожалений, ни желаний. Я отлично устроил свою жизнь.
– Человек устраивает, а судьба расстраивает, – заметил Клод.
– Я философ-скептик, – ответил Гренгуар, – и у меня все устраивается.
А чем же вы существуете?
– Я по временам сочиняю трагедии и эпопеи. Но главные мои доходы я извлекаю из искусства, которое вы уже имели случай заметить во мне, дорогой учитель. Я ношу на зубах пирамиды из стульев.
– Ну, это несколько неподходящее занятие для философа, заметил Клод.
– Что ж, и это ведь применение одного из законов равновесия, – ответил Гренгуар. – Когда человек задался известной идеей, он всюду найдет ей применение.
– Да, это, пожалуй, верно, – заметил архидиакон; и, помолчав немного, он продолжал: – однако, вы влачите довольно жалкое существование.
– Жалкое, пожалуй, но не несчастное.
В это время до слуха обоих собеседников долетел конский топот, и они увидели скакавший по улице взвод королевских стрелков, с пиками наперевес. Впереди их несся красивый офицер. Кавалькада эта была блестящая, и конский топот гулко отдавался по улице.
– Что это вы так уставились на этого офицера? – спросил Гренгуар у архидиакона.
– Да он мне кажется знакомым.
– А как его имя?
– Кажется, его зовут Феб де-Шатопер, – ответил Клод.
– Феб! Довольно странное имя! Впрочем, в истории известен также некто Феб, граф Фуасский. Кстати, мне пришла на ум одна молодая девушка, у которой Феб не сходит с уст.
– Пойдемте-ка со мною, – проговорил священник, – мне нужно кое-что сообщить вам.
С тех пор, как мимо них пронеслась эта кавалькада, некоторое волнение сказывалось под холодною с первого взгляда оболочкою Клода. Он пошел вперед, а Гренгуар, привыкший повиноваться ему, – как и все, что раз пришло в соприкосновение с этим человеком, производившим на всех такое обаяние, – последовал за ним. Они молча дошли до Бернардинской улицы, которая была довольно пустынна. Здесь Клод остановился.
– Что вы желали сообщить мне, дорогой учитель? – спросил Гренгуар.
– Не находите ли вы, – проговорил архидиакон задумчивым голосом, – что одежда тех всадников, которых мы только что видели, красивее, чем ваша и моя?
Не знаю, как для того, – ответил Гренгуар, пожав плечами, – но я предпочитаю мою красно-желтую куртку всей этой железной и стальной чешуе. Что за удовольствие издавать при каждом шаге шум и грохот, точно воз, нагруженный полосовым железом и едущий по тряской мостовой?
– Значит вы, Гренгуар, никогда не относились с чувством зависти к этим молодчикам в красивых мундирах?
– Зависти? Но с какой же стати, г. архидиакон? Чему мне завидовать? Их мундирам, их вооружению, их дисциплине? Нет, я предпочитаю философию и независимость, хотя бы и облеченные в лохмотья. Я предпочитаю быть мушиной головой, чем львиным хвостом.
– Это, однако, странно, – задумчиво проговорил священник. – Ведь блестящий мундир, однако, недурная вещь!
Гренгуар, заметив, что он снова впал в задумчивость, отстал от него и стал любоваться воротами одного из соседних домов. Затем он снова подошел к нему, потирая себе руки.
– Если бы вы были менее заняты блестящими мундирами господ военных, г. архидиакон, – сказал он, – то я предложил бы вам пойти и хорошенько разглядеть эти ворота. Я всегда утверждал, что ворота г. Обри – одни из самых красивых ворот в мире.
– Пьер Гренгуар, – перебил его Клод, – что вы сделали с той молоденькой плясуньей-цыганкой?
– С Эсмеральдой? Однако, какие скачки вы делаете в вашем разговоре.
– Ведь она, кажется, была женою вашей?
– Да, пожалуй, если считать действительным венчание при помощи разбитого кувшина. Мы были обвенчаны с нею на целых четыре года. – А кстати, – продолжал Гренгуар, взглянув на архидиакона довольно насмешливо: – вы, значит, все еще не забыли о ней?
– А вы, – разве вы о ней уже успели забыть?
– Да, отчасти… Мне приходится думать о стольких вещах!.. Ах, как мила была ее козочка!
– Кажется, ведь эта цыганка спасла вам жизнь?
– Пожалуй, что и так!
– Ну, так что же с нею сталось? Что вы с нею сделали?
– Не могу сказать вам, наверное. Кажется, они ее повесили.
– Вы так полагаете?
– Я в этом не уверен. Когда я увидел, что дело доходит до виселицы, я поспешил стушеваться.
– И вы больше ничего о ней не знаете?
– Нет, постойте-ка, я как-то слышал, что она успела укрыться в соборе и что она находится там в безопасности. Я этому очень рад. Только я не мог добиться, спаслась ли и козочка вместе с нею. Вот и все, что мне известно о ней.
– Ну, так я вам сообщу еще кое-что, – воскликнул Клод, и его голос, до сих пор тихий, медленный и почти глухой, сделался громогласен. – Она, действительно, укрылась в соборе Богоматери, но через три дня правосудие извлечет ее оттуда и она будет повешена на Гревской площади. На этот счет уже состоялось постановление суда.







